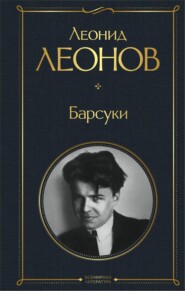скачать книгу бесплатно
– На, – сказал Секретов и протянул облизанную.
– Ноне-то и пузцом обзавелись… а ведь я Петькой помню вас, Пётр Филиппыч, – льстиво забубнил Дудин, пряча ватрушку в карман и там разминая ее в крошки от злобы. – Как, бывало, в ребятишках мы с вами бегали; уж такой вы жулик были, смрадь, можно сказать, и не приведи бог! Я б и еще кое-что про вас сказал, да вон их стесняюсь, – и кивнул на Катерину Ивановну, пугливо замершую с непрожеванной ватрушкой во рту.
Петра Филиппыча в багровость кинуло. Не выходя из-за стола, потискал он кнопку под столом, вскочили в дверь дворники, взяли Дудина в охапку, унесли… Некому было Дудину жаловаться, а жена его, сама хирея день ото дня, замечать стала, что кашлять стал глуше и нудней Ермолай после того, как сходил в гости к другу давней юности.
…А Секретов в гору шел. В новокупленном дому зазвенела трактирная посуда и запел орган. Зарядье – место бойкое, в три быстрых ключа забилась в «Венеции» жизнь. Линии секретовской жизни были грубы, ясны и незатейны, как и на мозолистой руке. Все у него было правильно. Короткая его шея не давала вихляться и млеть головище, не то что у Дудина, длинношеего. Разум свой содержал в чистоте и опрятности, не засаривал его легковесным пустяком, подобно Катушину. Проветриваемая смешком, не болела его душа ни тоской, ни жалостью, ни изнурительной любовью.
Четыре месяца спустя по приезде в Зарядье родила Катерина Ивановна девочку Настю. Быть бы в той нечаянной семье счастью и хотя бы наружному благополучию, как вдруг простудилась Катерина и слегла. Дочке тогда третий год шел, когда у матери ноги опухли. Все же переползала от кровати к окну, из-за занавески наблюдая чужую жизнь, стыдясь самой себя.
Ее-то, так же как и Сеня Настю пятнадцать лет спустя, увидел Катушин из окна, тачая камилавку, дар прихожан приходскому попу. И оттого, что прожил без любви, а перед тем собачка у него околела, полюбил он Катерину Ивановну, чужую, в чужом окне, тоскующую. Но только в убогих стишках своих смел говорить он о своей любви. Ключ же от сундучка, где таилась его тетрадка, стал прятать далеко-далеко, на шейный шнурок.
Оставался еще в Катерине кусочек смысла: покрикивала по хозяйству, штопала носки самому. Вскоре, однако, совсем ей ноги отказались служить. Положили тогда Катерину Ивановну в угловой комнатушке, завесив окно той самой шалью, в которой, к слову сказать, венчаться ехала. Двигаться Катерина Ивановна уже не могла, и ухаживала за ней Матрёна Симанна, новоявленная тетка из Можайска. Толстая и ленивая, она и креститься помогала хозяйке малоподвижною рукой, она же и молитвы за нее шептала, поясняя целителю Пантелеймону бормотание хозяйкиных губ, приходила на помощь и в остальном.
Секретов запивал. Раз ночью, когда боролись в нем пьяные чувства, пришел к жене.
– Ты меня, Катерина, прости… за все гуртом прости! – сказал он тихо, стоя в дверях, и обмахнул увлажнившиеся глаза рукавом.
Та лежала, неподвижная, страшная, белая.
– Слышь, жена, прощенья прошу, – повторил терпеливо он, кулаком ударяя себя в грудь, и вдруг завопил на всю квартиру: – Да что ж ты, как башня, лежишь… не ворочаешься? С той поры совсем махнул он рукой на Катерину. Зато, как-то случилось, стал Катушин ходить к тому, что было когда-то секретовской женою. Приходил вымытый, в чистенькой воскресной рубахе, садился возле кровати и сидел тихо, полузакрыв глаза. Иногда рассказывал слышанное и читанное или смешное что, не получая ответа, да и не нуждаясь в нем. Своей любви остался Катушин верен и любил Катерину, быть может, больше, чем если бы она была здорова. Он же пробовал лечить ее отваром капустного листа.
Тут, в этом темном тупике, плодилась моль, мерцала лампада, воркотала очередная монашенка, и из года в год возле столика, уставленного лекарственным хламом, бесшумно сидел Катушин. Так он научился понимать смутный язык больной. Однажды сказал Насте:
– Ты заходи к матери-то. Сердится, что не бываешь. В другой раз осмелился сказать Секретову:
– Что ж ты ее, Пётр Филиппыч, просвирками-то моришь? Ты бы ей щец дал!..
IX. Настюша
Настюша росла девочкой крепенькой, смуглой, как вишенка, в постоянном смехе, как в цвету.
Детство свое помнила лет с шести: дядя Платон куклу подарил.
Кукла была с фокусом, плакала и моргала. Недолговечны детские утехи: вечером распорола Настюша кукле животик, чтобы узнать секрет куклиной жизни. Там оказалась только пружина да еще жестяной пищик, вонявший столярным клеем. Чтобы скрыть преступленье, она подкинула останки куклы матери под кровать. Сора оттуда не выметали, чтоб не тревожить больную.
Никто и не заметил, а отцу не было никакого дела до Настиных поступков. «Расти, сколько в тебе росту хватит. Дал тебе жизнь, даю хлеб. Вот и в расчете, пожалуйста!» – таков был неписаный договор между отцом и дочерью. У отца в то время ширились дела, требовали воли, глаза, времени. Каждый винтик в общей машине хотел, чтоб и за ним присмотр да хлопоты были.
Лишь в воскресные дни, садясь за стол, спрашивал, посмеиваясь:
– Ну, Настасья Петровна, как живете-можете, растете-матереете?
– Ничего, папаня… матереем! – в тон ему пищала восьмилетняя Настасья Петровна.
Вопрос повторялся из праздника в праздник, из года в год… Настюше рано опротивел отцовский дом – грузные пироги с ливером, безмолвие комнат, громадная Матрена Симанна, жующая мятную лепешку для сокрытия винного запаха. Матери Настюша боялась, как страшного сна; когда, по воскресеньям, старуха приводила ее сюда, в тесную, всегда завешенную каморку, девочка робела, мучилась укорами совести, старалась не дышать мертвым запахом чужой болезни и пуще всего страшилась прикосновения белой, из-под одеяла, опухшей руки…
Потом, волнуясь и спеша, она надевала оборванную шубку, дырявый шерстяной платок, чтоб не бранили за порчу, и вихреподобно уносилась на улицу.
Так и росла Настюша на улице, без нянек и присмотров, бегала с ребятами через Проломные ворота на реку, тонула однажды в проруби, дразнила вместе со всей ребячьей оравой извозчиков, татар, иззябших попугаев на шарманках у персов. Шумливая и загадочная, звала ее улица. Она сделала Настю бойкой; тела ее, изворотливого и гибкого, никакой случайностью было не удивить… В городском училась – детскую мудрость срыву, по-мальчишески, брала. Остальное время с мальчишками же вровень каталась на коньках вдоль кремлевского бульвара, скатывала снежных страшилищ: любопытно было наблюдать, как точит их, и старит, и к земле гнетет речной весенний ветер. То-то было шумно и буйно, непокорно и весело.
Двенадцатая весна шла, придумали необычное. В голове у снежного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажженный фитилек. Всю ту ночь, думая об этом бесцельном огоньке, томилась без сна Настя. Ах, какой славный ветер в ту ночь был! Как бы облака сталкивались и гудели, словно тесно стало в весеннем небе облакам… Наутро нашли в огоньковой пещере только копоть. Недолго погорел фитилек. Тут еще снег пошел, лужицы затянулись. Так впервые изведала Настя горечь всякой радости и грусть весны.
Раз осенью, поутру, окончилось Настино детство. От обедни возвращаясь вместе, сказал Секретов Зосиму Быхалову от всей полноты души:
– Паренька твоего видал. Хороший, ласковый…
– Законоучитель очень его хвалил: ваш, говорит, сын перстом отмечен, – довольно пробурчал Быхалов.
– Надо и мне Настюшку мою к занятиям пристроить. Как знать, какие жеребьи выпадут… Вдруг да посватается? Негоже будет умному-то мужу да глупую жену! – задорил Пётр Филиппыч.
– Коли товар хорош выйдет, чем мы не покупатели? – пощурился и Быхалов. – Только что ж ты ее ровно просвирню водишь? Бабочка славная растет.
– Бабочка славная… – повторил задумчиво Секретов и впервые оценил дочь.
Сделали новую шубку Настюше – здесь и кончилось детство: в новой не так вольготно стало и в угольных сараях прятаться, и валяться в снегу. Настю отдали в купеческий пансион.
В канун того дня заходила Настя к отцу проститься на ночь. Тот сидел на кровати, без поддевки и без сапог, усталый и хмурый, в предчувствии запоя.
– Ну, девка, – заговорил он, усаживая ее на колени, – смотри у меня.
– Я смотрю, – сказала Настюша и поджала губы.
– Да не егозой расти, а яблочком… Чтоб каждому от тебя и рот вязало, и душу тешило. Живи и никому спуску не давай. На меня гляди: мужиком пришел, двадцать лет меня жизнь в ладонях терла, а все целехонек. Чувствуешь?
– Да! – не робея, сказала Настюша, скашивая глаза на порожние бутылки, оставшиеся в углу от прошлого запоя.
– Учись и божье слово слушай, на то человеку и уши даны. Без него, девка, плохо, тем и кормимся…
– А у вас, папаня, – давясь смехом, спросила Настюша, – ухи большие тоже для божьих слов?.. – Она не выдержала и рассмеялась, точно целая связка колокольчиков раскатилась по полу. – Папаня, извините, у меня губы чешутся, – уходя, попросила Настя.
…Тем временем названый жених Настин вступал в университет. Часто, к вящему недовольству отца, пропадал ночи, путался с волосатыми приятелями, худел и бледнел: не шли Петру впрок его усидчивые занятия. А среди белых пансионских стен, намекавших на девическую невинность содержательницы, мадам Трубиной, науками, напротив, не утруждали. Преобладали танцы и арифметика. Беря с купеческих девиц втридорога, боялась Трубина потерять лишнюю ученицу. Какой-то защелканный многосемейный немец вслух переводил по пять строчек в день, с грустным ужасом глядя на сидящих перед ним круглолицых, румяных девиц. Зато Евграф Жмакин, учитель танцев, был неизменно весел и летающ, походя на пружинного беса; казалось, что мать его так в танце и родила.
На четырнадцатом году тронула Настюшу корь. После выздоровления отец долго не пускал Настю в пансион; да тут еще негаданно просунулось шило из мешка. У знакомого зарядского купца дочка Катя, учившаяся вместе с Настей, пополнела от неизвестных причин; под неизвестными причинами был сокрыт от гневного родительского взгляда сам Евграф Жмакин. Пётр Филиппыч был так обрадован своевременным удалением Насти из пансиона, что даже забыл посмеяться над купеческим позором.
Оставлять Настю без образования Секретову было совестно перед друзьями. По совету шурина стал он подумывать о приглашении домашнего учителя. И тут как раз совпало: Пётр после первого своего, пустякового ареста, понятого всеми как недоразумение, проживал в Зарядье, у отца. Лучшего случая нанять учителя задешево, а вместе с тем и познакомиться с Петром Быхаловым поближе, если того и в самом деле угораздит посвататься, не представлялось. Пётр согласился, уроки начались почти тотчас же.
Учитель приходил с утра, с книгами и тетрадями под мышкой. И без того сильно сутулясь, теперь он еще вдобавок хмурился, чтоб внушить девочке уважение к особе учителя. Садился за стол, раскрывал книгу на заложенном месте, начинал с одного и того же:
– Ну-с, приступим. Итак…
И в тон ему, щуря глаза, – привычка, перенятая у Кати, – как эхо, вторила Настя:
– Приступим…
Она садилась на самый краешек, точно старалась скорее устать. Первые десять минут все шло чинно. В купеческой тишине слышались только громыханья сковородников и кухаркин голос. Положив локотки на стол, Настя подпирала руками голову и глядела прямо в рот Петру, забавляясь движениями вялого учительского рта.
Потом глаза ее подергивались тоненькой пленкой дремы. Она зевала в самых неожиданных местах, – однажды стала играть полуоторвавшейся пуговицей студенческой тужурки Петра, однажды просто запела. Честное пошевеливанье Петровых губ усыпляло Настю: запела, чтоб не уснуть.
– Слушайте, Пётр Зосимыч, – сказала однажды, – в который раз у вас вижу. Дырка у вас на локте, дырка, – указала Настя. – Давайте я вам зашью… А вы мне лучше потом доскажете.
– Это давняя, я к ней привык… Впрочем, зашейте, – согласился он, стаскивая с себя тесную тужурку.
Напевая, Настя отыскала в ворохе цветных обрезков подходящий лоскуток. Петр сидел молча и глядел на ее быстрые пальцы.
– Скажите, – вкрадчиво начала она, вдевая нитку в иголку – правда это, что вы каторжник?
– То есть как это каторжник? – опешил Пётр. – Что за пустяки! Кто это вам сказал? – И длинный нос его принял ярко-розовый оттенок.
– Вы уже убивали кого-нибудь? – тончайшим голоском спросила Настя, склоняясь над работой.
– А, вот вы про что! Нет, я за другое сидел… – сказал он тихо, косясь на растворенную в коридорчик дверь. Дверь Настиной комнаты, по настоянию Петра Филиппыча, была всегда раскрыта.
Настин взгляд был выспрашивающий и требовательный, и, повинуясь ему, Пётр тихо пояснил, за какие провинности вычеркивают людей из жизни, иногда на время, иногда навсегда. Похоже было, что он приглашал и Настю разделить с ним его судьбу. Настя спешила, доканчивая починку.
– Нате, надевайте, – сказала она, обкусывая нитку. Она встала и отошла к окну. Там падал осенний дождик. Вдруг плечики у Насти запрыгали.
– Что вы, Настя? – испугался Пётр.
– Знаете что?.. Знаете что? – задыхаясь от слез, объявила девочка, откидывая голову назад. – Так вы и знайте… Замуж я за вас не пойду! Вы лучше и не сватайтесь!
– Да почему же? – удивился Пётр.
– У вас нос длинный, и потом у вас с головы белая труха сыплется… – прокричала Настя и выбежала вон.
Весь тот день она просидела в кресле, сжавшись в комок. А вечером решительно вошла в отцовскую спальню. В ожидании ужина Пётр Филиппыч серебряным ключиком заводил часы.
– Я за твоего Петра Зосимыча не пойду. Так и знай! – твердо объявила она и встала боком к отцу. – Не хочу с ним в тюрьму, не хочу!
– Да ну-у?.. – захохотал Секретов, уставляясь руками в бока. – Вот баба… На чью-то неповинную головушку сядешь ты, такая!
Настя подошла ближе и вдруг, припав к груди отца, заплакала. От жилетки пахло обычным трактирным запахом. Отец гладил Настю по спине широкой, почти круглой ладонью.
Так она и заснула в тот вечер на коленях у отца. А в столовой стыл ужин и коптила лампа.
…Через два дня Пётр снова уселся в тюрьму, на этот раз надолго. В мирной сутолоке Зарядья то было немалым событием. Секретову рассказали, будто приезжала за Петром черная карета. Она-то и увезла душегуба Петра в четыре царские стены.
Пётр Филиппыч человек мнительный, тогда же порешил покончить все это дело. В субботу, перед полднем, отправился к Быхалову в лавку и сделал вид, что ненароком зашел.
– Здравствуй, сват, – прищурился Быхалов, зорко присматриваясь ко всем внутренним движениям гостя. – Семён! – закричал он в глубь лавки, скрывая непонятное волнение. – Дай-кось стул большому хозяину… Да стул-то вытри наперед!
– А не трудись, Зосим Васильич. Я мимо тут шел, дай, думаю, навещу, взгляну, чем сосед бога славит.
– Ну, спасибо на добром слове, – упавшим голосом отвечал Быхалов, почуяв неискренность в секретовских словах. – Садись, садись… стоять нам с тобою не пристало.
– А и сяду, – закряхтел Секретов, садясь. – Эх, вот увидел тебя, обрадовался и забыл, зачем шел-то. Время-то не молодит. Эвон как постарел ты, Зосим Васильич. Краше в гроб кладут! Огорчений, должно, много?..
Быхалов морщился недоброй улыбкой.
– Да ведь и ты, сватушка… тоже пухнешь все. Пьешь-то по-прежнему? Я б на улице и не признал тебя. Плесневеть скоро будешь!
– Скажешь тоже, смехотворщик! Я-то еще попрыгаю по земле! Вот у Серпуховских еще трактиришко открываю, сестриного зятя посажу. Да вот домишко еще один к покупке наметил. Сам видишь, дела идут, контора пишет. Эвон я какой, хоть под венец! Моложе тебя года на два всего, а ведь годов на тридцать перепрыгаю!..
Последний покупатель ушел. Наступало послеобеденное затишье.
– Ванька, – глухо приказывает Быхалов новому мальчику, – налей чаю господину. Да сапогами-то не грохай, не в трактире!
– Насчет чаю не беспокойся, соседушко, – степенится Секретов, лукаво разглаживая рыжую круглую бороду. – В чаю-то купаемся!
– Да и нам не покупать. Выпей вот с конфетками. Да смотри не обожгись, горяч у меня чай-то!
На прилавок, у которого сидит Секретов, ставит Зосим Васильич фанерный ящик с конфетами.
– Ах да, вот зачем я пришел… Вспомнил! – приступает Секретов, мешая ложечкой чай, стоящий на самом краю прилавка. – Вот ты сватушкой меня даве называл. Конешно, все это – смехи да выдумки, а только ведь я Настюши своей за сына твоего не отдам… Не посетуй, согласись!
– А что? Почище моего сыскали? Что-то не верится… – скрипит сквозь зубы Быхалов, все пододвигая ящик с конфетами на гостев стакан.
– Так ведь сам посуди, – поигрывая часовой цепкой, говорит Секретов, голос его смеется. – Кому охота дочку за арестанта выдавать? Уж я лучше в печку ее заместо дров суну, и то пользы больше будет…
Оба молчат. Сеня громко щелкает на счетах, – месячный подсчет покупательских книжек. Секретов сидит широко и тяжко, каждому куску своих обширных мяс давая отдохновенье и покой. В стакане дымится чай. Быхалов, уставясь в выручку, все двигает к гостю конфетный ящичек и вдруг выталкивает его на стакан, который колеблется, скользит и опрокидывается к Секретову на колени.
В первое мгновение Секретов неожиданно пищит, подобно мыши в мышеловке, и Быхалов не сдерживает тонкой, как лезвие ножа, усмешки.
– Да ты, никак, ошпарился? Вот какая беда, Пётр Филиппыч, – наклонясь побагровевшей шеей, картузом смахивает с колен дымящийся кипяток.
– Да, захватило чуть-чуть, краешком, – фальшиво улыбается Секретов, твердо снося жестокую боль ожога. – А сынища своего, – вдруг прямится он, – на живодерню отошли, кошек драть!..
– И мы имеем сказать, да помолчим. – И Зосим Васильич поворачивается к гостю спиной.
– И правильно сделаете! А то к сыну в острог влетите… – выкрикивает Секретов. – А на лавку мы вам еще накинем… вы мне тута весь дом сгноите! Счастливо оставаться!
Затем последовал неопределенный взмах руки, и Секретова больше нет. Любил Пётр Филиппыч, чтоб за ним оставалось последнее слово, – отсюда и легкое его порханье.
X. Павел навещает брата
Сеня впоследствии не особенно огорчался безвестным отсутствием брата. Крутая, всегда подчиняющая, неукротимая воля Павла перестала угнетать его, – жизнь стала ему легче. Сеня уже перешел первый, второй и третий рубежи зарядской жизни. Теперь только расти, ждать случая, верным глазом укрепляться на намеченных целях.
В конце того же лета, когда Катушин вспоминал о дьячке, в воскресенье вышел Сеня из дому, собравшись на Толкучий рынок, к Устьинскому. На подоконнике быхаловского окна, возле самой двери, сидел Павел. Зловеще больно сжалось сердце Сени, – такое бывает, когда видишь во сне непроходимую пропасть. Павел был приодет; черный картуз был налажен на коротко обстриженный Пашкин волос. Все на нем было очень дешевое, но без заплат. Сидя на подоконнике, Пашка писал что-то в записную книжку и не видел вышедшего брата.
– Паша, ты ли?
– А что, испугался? – спокойно обернулся Павел, пряча книжку в карман брюк; глаза его покровительственно улыбнулись. Потом Павел достал из кармана платок и стал сморкаться.
Надоедливо накрапывало. В водосточных желобах стоял глухой шум, капало с крыш.
– Чего ж мне тебя пугаться! – возразил Семён, поддаваясь непонятной тоске, и пожал плечами.
С неловкостью они стояли друг перед другом, ища слов, чтоб начать разговор. Вспыхнувшее было в обоих стремление обняться после пяти лет разлуки теперь показалось им неестественным и ненужным.
– Чего же под дождем-то стоять?.. Пойдем куда-нибудь, – сказал Сеня, выпуская руку Павла, твердую и черную, как из чугуна.