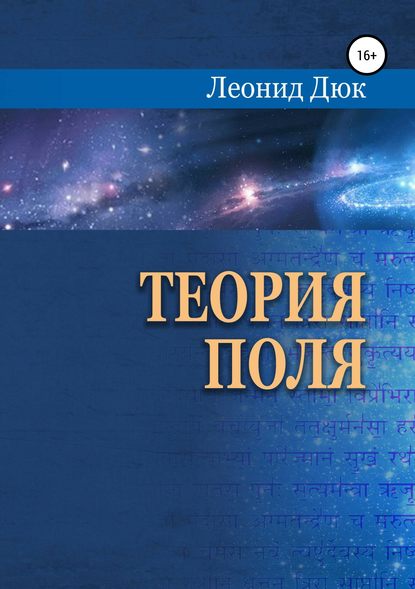 Полная версия
Полная версияТеория поля
Аудитория взорвалась дружным смехом.
– И надо же такому случиться, – продолжал Козырев, – что двое этих талантливых студентов, ставших позднее знаменитыми, признанными учеными, сошлись в тридцатых годах двадцатого века в непримиримом поединке, настоящей битве титанов на поле великой физической науки. Стоит заметить, что к тому времени оба, и Эйнштейн, и Бор, успели ярко проявить себя, и научное сообщество по достоинству оценило их усилия. Один за другим они стали лауреатами Нобелевской премии по физики: Эйнштейн в 1920-м «За заслуги перед теоретической физикой и особенно за объяснение закона фотоэлектрического эффекта», а Бор в 1921-м «За заслуги в исследовании строения атомов и испускаемого ими излучения». Проходила вышеозначенная битва в Копенгагене. По иронии судьбы Эйнштейн, который сам явился разрушителем классических представлений, теперь как раз защищал объективную классическую реальность. На его стороне сражались легендарные рыцари науки: Гейзенберг, Розен, Подольский. Вот ведь как иногда любопытно случается в жизни: если бы не «предательство» Эйнштейна со своими теориями относительности и Гейзенберга со своим принципом неопределенности светлого и ясного ньютоновского мира, не пришлось бы им же самим потом его и защищать! Очень точно один неизвестный поэт описал ситуацию, сложившуюся в физике после работ Эйнштейна:
Был мир земной кромешной тьмой окутан.Да будет свет! – и вот явился Ньютон.Но сатана недолго ждал реванша —Пришел Эйнштейн, и стало все как раньше!А Нильс Бор, казалось, выступал против очевидной реальности, представляя молодое, новое поколение физиков. Итак, тема сегодняшнего занятия – парадокс Эйнштейна-Розена-Подольского и теорема Белла.
Козырев крупными буквами написал на доске обозначенную тему, аудитория дружно зашуршала тетрадями.
– Картина, которую квантовая теория открыла перед учеными, оказалась парадоксальной. Эйнштейн со своей природной интуицией буквально почувствовал, что она сломает ту идеальную, стройную и рациональную картину мира, которая просвечивала через строки философских трактатов Декарта и Спинозы. Он говорил о теории Бора: «Если все это правильно, то здесь – конец физики». Эйнштейн увидел в новой теории общую и глубокую черту – крушение, или, по крайней мере, ограничение того идеала, который в глазах творца теории относительности являлся опорой самого существования физики. Незыблемая почва классической, строго детерминированной науки стала уходить из-под ног буквально на глазах.
В 1935 году Эйнштейн со своими сторонниками опубликовал статью, которая называлась «Можно ли считать квантово-механическое описание физической реальности полным?» Бор не заставил себя долго ждать и вскоре ответил ему статьей с точно таким же названием, в которой…
Студенты напряженно вслушивались в слова преподавателя, ловя каждое его слово.
* * *После занятий Арсений задержался на кафедре – требовалось разобрать накопившиеся документы: заполнить скучные отчетные формы, подготовить новые учебные планы. Когда он вышел, вечерний университет уже практически опустел. На пороге главного входа, безуспешно спасаясь от холода, Арсений втянул поглубже голову внутрь воротника и быстрым шагом направился к машине, припаркованной поблизости, примерно в сотне метров от крыльца. Автомобиль за несколько часов успел совершенно остыть. Поспешно заведя мотор, продолжая зябко кутаться в кургузое пальтишко и полностью погрузившись в свои мысли, он с фатальной обреченностью ждал, когда же салон наконец прогреется. Вдруг в окно постучали. Козырев с удивлением повернул голову и увидел Свету, Светлану Симонову, ту самую студентку, которая теперь, активно жестикулируя, явно о чем-то его просила. Он открыл дверь, впустив внутрь новую порцию пробирающего до костей мороза.
– Арсений Павлович! – пролепетала замерзшими губами девушка. – Вы мимо метро поедете?
– Да, подвезти?
– Ага, это было бы замечательно! А то я тут совсем околею, пока дождусь автобуса.
– Пожалуйста, садитесь!
Она поспешно забралась на переднее сиденье.
– Такой мороз, прям конец света! Спасибо!
– Надеюсь, Света, что это все же еще не конец, – улыбнулся собственному каламбуру Арсений. – Скоро мотор прогреется, станет значительно лучше. Потерпите немного.
– Да мне уже гораздо лучше. По крайней мере, тут хоть ветра нет.
Козырев вырулил со стоянки университета и взял курс в сторону ближайшей станции метрополитена. Включил печку. Снял перчатку, поднес руку к соплу воздуховода. Воздух, выходивший оттуда уже достаточно теплым ветерком, приятно грел окоченевшие пальцы. Он развернул решетки, направляющие поток, в сторону девушки. Согревшись, Света спросила:
– Арсений Павлович, а можно вам задать вопрос по теме занятий?
– Конечно!
– Вот вы, с одной стороны, говорите, что настоящий ученый должен не признавать авторитетов, а с другой – постоянно цитируете всяких знаменитостей. Ну Эйнштейна, там, например. Получается, что все же вы признаете за ним какой-то авторитет?
– Видите ли, Светлана, в чем дело… – начал было отвечать Арсений, но девушка его перебила:
– Лучше называйте меня на «ты». Тем более здесь, наедине.
– Хорошо, – Козырев снова улыбнулся.
– А можно я вас тоже буду звать на «ты», ну наедине, естественно?
Он удивленно посмотрел на девушку, чувствуя провокацию. Светлана прекрасно знала себе цену, а также то, что любой мужчина не упустит возможности перейти с ней на более близкое общение. Хотя какая там у них была разница в возрасте? Студентка четвертого курса и недавний выпускник университета. Года три, максимум четыре. Да они, фактически ровесники. Год назад, когда Козырев сам еще учился, никому бы из них и в голову не пришло обращаться друг к другу на «вы».
– Ладно, на «ты» так на «ты». Так вот, уважать и поклоняться – совершенно разные вещи. Я очень уважаю своего учителя, но всегда могу сказать ему: «Извините, профессор, но вы не правы!» И мне очень хочется, чтобы и вы, каждый из вас мог бы сказать мне то же самое. И это ужасно важно! Нет, с одной стороны, конечно же, чтобы каждому новому исследователю не приходилось начинать все с самого начала, нужно освоить знания, которые накопили все его предшественники. Но любой тезис следует подвергать сомнению. Другими словами, пройдя путь по проторенной дорожке, настоящий ученый должен во всех доводах убедиться самостоятельно. Это в идеале, конечно. На практике такое вряд ли осуществимо. А вот использовать для себя накопленную веками мудрость – всегда на пользу. Особенно, если прежние философские умозаключения близки тебе по духу. Так что здесь, как и всегда в жизни, вынужденный компромисс. Между скорейшим стремлением к новым открытиям и защитой от прошлых ошибок.
Они подъехали к станции метро и Козырев припарковался недалеко от входа.
– А вы… Ой, то есть ты… Так непривычно еще, – Светлана запнулась и тут же открыто и простодушно рассмеялась. – Вот ведь чуня, сама предложила, а теперь путаюсь… А ты еще какие метро будешь проезжать? Так выходить не хочется!
Арсений улыбнулся в ответ:
– А тебе куда надо?
– Я вообще в Жулебино живу.
– Ничего себе, не ближний свет! Ну тогда могу предложить «Таганку». Подойдет?
– Да, «Таганка» – это замечательно! – поняв, что покидать теплое авто пока не придется, девушка поудобнее устроилась в кресле. – Вперед, мой водитель!
– Слушаюсь и повинуюсь! – согласился Козырев с предложенной игрой. Ему нравились ее самоуверенность, смелый, девичий задор, неприкрытый, дерзкий вызов. Было в ней что-то нестандартное, необычное, оригинальное. Девушек на физических специальностях всегда немного, поэтому они неизменно пользуются мужским вниманием. Особенно такие яркие экземпляры.
Какое-то время они ехали молча. По радио играла негромкая, спокойная музыка. Под стать минорным аккордам Арсений вел автомобиль медленно и аккуратно.
– Интересно получается, – наконец прервала молчание Света, вспомнив, очевидно, прошедшую лекцию, – такие два знаменитых ученых, а в жизни были врагами!
Козырев от удивления чуть не врезался во впереди идущую машину, которая неожиданно затормозила.
– Кто был врагами? Эйнштейн и Бор?
– Ну да, вы… ты же сам сегодня рассказывал!
– Да, – задумчиво произнес Козырев. – Двойка мне за сегодняшнюю лекцию, если ты так это поняла! Надо обязательно взять на заметку! На будущее. Они не были врагами в том смысле, которое мы обычно вкладываем в это слово. Я пытался донести до вас глубину их чисто научных противоречий. Видишь ли, новый, квантовый мир, созданный Бором, очень отличался от старого, привычного мира с его принципиальной предсказуемостью, фатальностью, тотальной причинностью и определенностью. Суть старого мира в том, что если бы мы знали все координаты и импульсы всех частиц во Вселенной, мы могли бы со стопроцентной точностью предсказать будущее.
– Но это же невозможно знать все координаты и импульсы всех частиц во Вселенной!
Арсений невольно улыбнулся столь характерному проявлению наивной женской непосредственности.
– Дело совсем не в этом, даже если бы мы и знали… впрочем неважно, важно, что новый мир – он совершенно иной! В нем нет ничего абсолютного! В нем нет точных местоположений. В нем отсутствуют траектории. В нем не существует направлений. Этот мир принципиально непредсказуем. Неопределенен. Он не дает четких ответов на поставленные вопросы. В нем одна причина теоретически способна порождать тысячи различных последствий. Каждое следствие может вызываться тысячью различных причин. И такая ситуация переводит чисто технический вопрос в сферу высоких философских понятий. В новом мире нет реальности в том ее понимании, которое присутствовало ранее в прежнем, ньютоновском мире. В нем действуют виртуальные частицы. То есть этот мир как бы не вполне существует, по крайней мере, отчасти. И самое главное изменение для философского аспекта физики – наблюдатель впервые перестает быть пассивным. Он становится полноправным участником всех экспериментов, одним из определяющих звеньев. Теперь облик мира зависит от сознания! От того, смотрит кто-то на него или же нет. Никогда раньше с подобной проблемой наука еще не сталкивалась. Вновь открытые факты означали, что физическая реальность объективно не существует, что вещи превращаются в материю лишь только тогда, когда привлекают к себе внимание наблюдателя, наделенного сознанием. Эйнштейн не мог принять это сразу и безоговорочно.
– Я тоже не могу это принять. Впрочем, я это даже понять не могу до конца, если честно.
– Хорошо, давай я попробую тебе еще раз объяснить. На пальцах, так сказать. Представь себе следующий опыт. Вам про него должны были еще в курсе общей физики рассказывать. На пути инжектора, испускающего электроны, ставят преграду с двумя отверстиями, а за преградой мишень, которая фиксирует попадания электронов. Если бы электроны являлись твердыми шариками, как это предполагалось всегда в классической физике, то за экраном, в местах попадания электронов, строго напротив отверстий возникали бы две точки. На самом деле такого не происходит. Мишень раз за разом фиксировала типичную интерференционную картину, как если бы на преграду летели не шарики, а надвигались бы морские волны. В точках мишени, где максимум совпадал с максимумом, обнаруживалось наибольшее свечение, а где минимум с минимумом – свечение отсутствовало вовсе.
– Получается, что часть электронов пролетает через левую дырку, а часть – через правую, но потом попадают не в одну точку прямо за дыркой, а рассеиваются по определенному закону.
– Неплохой вывод! Хвалю! Так бы и можно было объяснить эффект, если бы ученые не запускали строго по одному электрону. И все равно наблюдали при этом интерференционную картину. Электрон складывался и вычитался сам с собой!
– Как это?
– Вот именно, как это? Обалдевшие ученые решили поставить детекторы возле отверстий, которые фиксировали бы, через какую конкретную щель прошел электрон. Стали фиксировать – электрон перестал интерферировать. Он начал вести себя как обычная частица! Обнаруженный эффект назвали впоследствии редукцией волновой функции.
– Так, а как же они могли узнать, через какую щель прошел электрон? Для этого пришлось бы воздействовать на него, хотя бы фотонами.
– Да. Но вполне достаточно поставить детектор возле одного из отверстий. При этом, если он ничего не зафиксирует, будет означать, что электрон прошел через второе, не испытав, заметь, при этом никаких внешних воздействий. И тем не менее интерференционная картина переставала наблюдаться. Наше незримое присутствие локализует частицу! Едва только мы про нее узнаем, она тут же перестает проявлять свойства неопределенности. Квантовая физика предлагает вероятностные объяснения данной экспериментальной картины. Возникает волновая функция, которая описывает распределение вероятностей для частицы.
– А Эйнштейн с этим яростно боролся?
– Да, но без его резкой критики и упорного неприятия квантовой теории, без поиска противоречий в каждом новом шаге развитие квантовой физики надолго бы затянулось. Это признавал сам Бор. Они спорили не только в прессе и на конференциях. Они спорили и при многочисленных личных встречах. Но, несмотря на это, они безмерно уважали и восхищались друг другом. Они чисто физически не могли стать врагами. На научных конгрессах они непрестанно искали друг друга, постоянно нуждались друг в друге. Потому что оба страстно желали этого спора, потому что оба были безумно жадны до истины. Их постоянно видели вместе. Утром Эйнштейн выдвигал очередной мысленный эксперимент, приводящий к парадоксу, вечером Бор его успешно опровергал. Да, каждый из них хотел победить в споре. Но только не ценой истины и не ценой чести, как бы это банально ни звучало!
– С тобой так интересно! Ты так много знаешь! Повезет же твоим детям, столько всего сможешь рассказать им, научить!
– Наверное… Не знаю, пока не могу представить себя в роли отца. Кстати о детях – ты знаешь, а ведь в школе я был троечником и по физике, и по математике. Почти как Эйнштейн.
– Не может быть!
– Еще как может, – и Арсений, коротая время в московских пробках, поведал ей о своих приключениях со школьными учителями.
* * *Козырев влюбился в физику сразу же, едва только в шестом классе средней школы у них появился этот предмет. Молодой преподаватель Сергей Михайлович Захаров был настоящим подвижником науки, подлинным энтузиастом, безгранично преданным однажды выбранной профессии. Он ворвался в учебный кабинет с горящими глазами, обвел беглым взглядом шестиклассников и прямо с порога, забыв обо всех полагающихся в подобной ситуации формальностях, вывалил на бедных «новобранцев» целый поток разнообразнейшей информации. А повод для столь возбужденного состояния присутствовал, и при том весьма немалый: в Большом Магеллановом Облаке, одной из трех галактик, видимых с Земли невооруженным взглядом, только что взорвалась сверхновая. Подобное случается лишь раз в четыреста лет, поэтому неудивительно, что астрономическая, да и вся физическая общественность была охвачена в то время приятным волнением. Что же касается Сергея Михайловича, то он ни о чем другом даже думать не мог! Вот если бы Захаров так и оставался учителем Козырева до самого выпускного класса… лучшего педагога трудно было бы и представить. Но, к сожалению, судьба часто вносит в нашу жизнь свои коррективы. После ухода первого физика последовала череда смены преподавателей, пока в конце концов их всех не передали строгой пожилой учительнице, которую звали Элеонора Ивановна Дрозд.
Ее подход к обучению десятиклассников особыми педагогическими изысками не отличался. В конце года предстояли выпускные экзамены, и для Элеоноры Ивановны они представлялись непреложной, незыблемой целью, двигаться к которой следует по единственно верному и самому прямому маршруту: к каждому уроку каждый из ее учеников непременно был обязан написать в особой тетрадке ответы на экзаменационные билеты. Билеты эти содержали два вопроса и одну задачу каждый, относились к совершенно произвольным темам и готовиться к экзаменам таким образом с точки зрения Арсения было совершенным безумием. Поэтому он полностью игнорировал требования учителя, занимался самостоятельно, а также с нанятыми родителями репетиторами.
Уже в самом начале учебного года, буквально за какой-то единственный месяц он умудрился получить несколько двоек подряд за отсутствие написанных ответов. Учительница вскоре забеспокоилась. Козырев однозначно не производил впечатление тупого балбеса, но тем не менее совершенно не обращал внимания на все эти учебные неприятности. Традиционные методы воздействия, которые давным-давно сломали бы любого ребенка, на Арсения не оказывали абсолютно никакого влияния. Родители, однажды явившиеся в школу, вопреки ее ожиданиям устроили физичке грандиозный скандал и дальнейшие вызовы преподавателя игнорировали. Упрямо продолжать ставить двойки – означало расписаться в полном собственном бессилии. Ситуацию усугублял тот факт, что на уроках Козырев часто отвечал в терминах, которые сама учительница понимала с большим трудом и не могла точно определить: то ли ученик действительно применяет оригинальные способы решения задач, то ли просто нагло и откровенно водит ее за нос. Памятуя о непростом характере Арсения, подобное предположение не выглядело столь уж бессмысленным. Контурные интегралы, тройные интегралы, дифференциальное исчисление, частные производные, роторы и дивергенцию векторов Арсений использовал сплошь и рядом в таких задачах, которые испокон веков решались в курсе школьной программы совершенно иными методами. Более того, он мог запросто бросить решение на середине, мотивируя тем, что, дескать, с этой задачей уже все ясно, дальше, якобы, дело техники и ответ очевиден. При этом он так уверенно и прямо смотрел на обычно суровую учительницу, что та, привыкшая к вечно дрожащим перед ней ученикам, буквально терялась и не знала, как ей следует поступать дальше. В итоге в качестве годовой оценки по физике Козырев получил тройку.
– Вот это да! – искренне удивилась Светлана, услышав подробности всех этих долгих и непростых приключений. – Как же ты тогда поступил в универ?
– Я тебя умоляю! – рассмеялся Козырев, – в универе, к счастью, проверяют знания, а не школьные оценки, и потом, тогда все закончилось вовсе не так уж и плохо.
Козырев продолжил рассказ:
– Мне повезло, в тот год московские школы впервые применили практику, когда некоторые технические вузы, боясь недобора студентов, делегировали своих преподавателей на выпускные экзамены. Для тех, кто хотел, результат мог быть зачтен сразу в качестве вступительного по тому же предмету. Присутствовал такой преподаватель и у нас, некто доцент Карасев. Конечно же, его мнение об оценках часто не совпадало с мнением нашей Элеоноры Ивановны, ведь та, как правило, предлагала поставить своему ученику более высокий бал. Впрочем, меня это странное двойственное предложение не касалось, ведь я-то собирался в универ. Но по иронии судьбы и мне почему-то пришлось сдавать экзамен как раз именно тому самому приглашенному доценту.
Скажу без ложной скромности: я буквально поразил доцента в самом хорошем смысле этого слова. Широта знаний, оригинальность мышления… – Арсений лукаво смотрел на Свету, пытаясь угадать реакцию девушки на свои хвалебные речи, но та слушала с большим интересом и ни иронии, ни сарказма не демонстрировала. – Потом, когда я уже закончил отвечать, мы еще довольно долго беседовали с ним на всякие актуальные и модные околонаучные темы.
В общем, когда Карасев направился затем к Элеоноре Ивановне, он был совершенно уверен, что уж по моему-то вопросу разногласия невозможны в принципе:
– Ну что, Козыреву, я полагаю, отлично? Надеюсь, хоть тут у вас нет возражений?
К его искреннему удивлению, Дрозд снова не согласилась:
– Мы не можем поставить ему отлично. У него годовая тройка, а разница между годовой и экзаменационной оценкой по указанию руководства не может превышать один бал.
– Ну знаете, Элеонора Ивановна, – возмутился тогда Карасев, – это уже, простите, ни в какие ворота не лезет! Я понимаю еще, когда вы хотите вытянуть своих заурядных учеников повыше, но когда вы откровенно пытаетесь утопить талантливого парня, – это он, значит, про меня, – с этим я, извините, никак не могу согласиться! Этот номер у Вас не пройдет! Или Вы ставите ему отлично, или я подниму хай, напишу в районо и мы соберем комиссию для оценки Вашей профессиональной пригодности!
– Круто, а он молодец! – живо реагировала на рассказ Светлана.
– Ну да, согласен! – кивнул в ответ Арсений, – слушай дальше! Дрозд, естественно, испугалась:
– Да что Вы так переживаете, какая разница? Мы поставим ему четыре, экзаменационная оценка все равно приоритетнее, чем годовая, получит он в аттестат свою четверку!
Но Карасев почему-то очень близко к сердцу воспринял «творящуюся здесь несправедливость», как он считал, и категорически настаивал на отличной оценке. В итоге моей ортодоксальной учительнице пришлось, скрепя сердцем, уступить.
– Здорово! – Симонову явно впечатлила история молодого человека.
Несмотря на довольно поздний час машины на Садовом кольце практически не двигались. Пробка образовалась в обе стороны, любые попытки объезда были чреваты еще большей потерей времени.
– Когда же они уже рассосутся! – нервничал Козырев.
– Ты спешишь?
– Да не то чтобы… просто ненавижу очереди. Стандартно, как говориться, «ждать и догонять…»
– Да ладно, хорошо сидим, точнее стоим, точнее и то и другое одновременно. – Света засмеялась. – А расскажи теперь про математику, там что, тоже дело было в преподавателе? Как-то не верится, что ты мог быть троечником.
– История немного другая, хотя в целом похожая. Ты знаешь, у меня как-то не со всеми преподавателями складывались хорошие отношения. Да и вообще с людьми. Уже не знаю почему, но говорю как есть.
А с учителями, пожалуй, у меня существует две крайности: либо мы становимся очень близкими людьми, практически приятелями, либо наоборот: на дух не переносим друг друга. Уж не знаю, в чем тут дело. Нет, я, конечно, далеко не ангел, я это понимаю и признаю, так что неверно было бы списывать все проблемы только на взрослых. Просто для меня всегда, с самых первых дней знакомства важна прежде всего личность педагога. Если я уважаю его как человека, то впоследствии легко поддаюсь влиянию и с удовольствием впитываю все то, чему преподаватель старательно пытается меня научить. Если же этого сразу не происходит, то все, пиши пропало, исправить такую ситуацию ни разу не удавалось. Я могу внешне быть лояльным, слушать, даже не спорить, но верить, доверять такому человеку все равно не смогу.
С математичкой, Светланой Валентиновной, так и получилось: отношения не заладились с самого начала. На протяжении всего обучения она упорно занижала мне оценки, придираясь по любым мелочам. Меня это не слишком-то беспокоило, но в выпускном классе родители вдруг заволновались: они ведь, как и я, мечтали об университете, низкая оценка по математике могла создать серьезные проблемы. К тому же сынок Светланы Валентиновны, в свою очередь, учился в институте у моего отца, причем учился не слишком успешно и батя вечно вытягивал его за уши.
В конце концов отец решил разобраться с ситуацией кардинально и направился в школу поговорить с учительницей откровенно, так сказать, расставить все точки над i. К его удивлению, вместо ожидаемой фразы: «Не волнуйтесь, Арсений на самом деле отлично знает математику, я его просто-напросто специально дополнительно стимулирую, чтобы он занимался еще лучше. Я ему ставлю четверку, но на экзамене в университете пятерка ему обеспечена», он услышал примерно следующее: «Арсений совершенно не уделяет должного внимания математике, он совсем отбился от рук, ничего не делает, и я ему ставлю четверку лишь из-за моего уважения к вам, а так он и на тройку-то навряд ли знает».
– Ужас! Представляю себе…
– Да, ты права! Вечером дома состоялся серьезный разговор. Конечно, отец не дурак и не поверил буквально словам учительницы, но все же тень сомнения заставила родителей попытаться оказать на меня некоторое воздействие.
– А ты чего?
– А чего я? Я как всегда ушел в глухую оборону, обозвал учительницу «старой дурой», ее слова – «бредом сумасшедшей», а заодно добавил, что никому ничего доказывать не собираюсь, и с тем, кто в меня не верит, я готов пообщаться после вступительных экзаменов.
– Понятно… И как родители, успокоились?
– Куда там! Но мне опять повезло.
– Выходит, ты везунчик?
– Если честно, я вообще не верю в везение. Я считаю, что человек сам творец своей судьбы. Правда неизбежно рано или поздно всплывает, ее невозможно скрывать вечно. И если она на твоей стороне – то вот тебе и везение. Ведь знания-то никуда не делись. Они либо есть, либо их нет. В том же месяце институт, рядом с которым мы жили, ну тот, из которого потом доцент Карасев приходил к нам на экзамен, проводил физико-математическую олимпиаду для старшеклассников. Такая типа акция для учеников соседних школ, дабы те познакомились с высшим учебным заведением, а местные преподаватели получили возможность предварительно оценить уровень ожидаемых абитуриентов. Принять участие в олимпиаде мог любой желающий. Ну и я пошел тоже. Три из четырех задач по физике были мне так или иначе знакомы. Я часто читал «Науку и жизнь», да и с репетиторами кое-что подобное разбирали. Четвертая на какое-то время меня заинтересовала, я начал было над ней работать, но очень скоро увидел полный путь решения и доводить задачу до конца сразу стало скучно. Поэтому я целиком сконцентрировался на математике.



