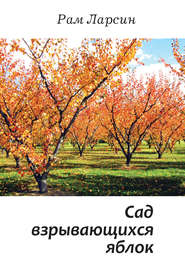
Полная версия:
Сад взрывающихся яблок (сборник)
На экране – обнажившееся дно, где корчится, судорожно хватая воздух, серебристая рыба, а в небе печально крякают утки, улетая в лучшие края. И только пара белых влюбленных лебедей не может подняться вслед за ними. Я ловлю их камерой, но они прячутся в зарослях камыша – там их потом нашли, безжизненных, со сплетенными длинными шеями, словно они удушили друг друга…
Потом настало время бульдозеров.
Титры: бульдозер – это машина весом в 17 тонн, шириной 2480 мм, высотой 1200 мм, назначение – разработка и транспортировка грунта.
Мой голос:
«Под грунтом имелись в виду таинственные поляны среди широких кустов темно-красной малины, ручеек, бодро зовущий в неведомую даль, первобытно пахнущая трава с россыпью скромных ромашек, над которыми грозно парит мохнатый шмель – вся эта цветущая чаща, хранимая, как стражами, высокими тополями».
Титры: тополь – это дерево семейства ивовых, высота 60 м, диаметр ствола более метра, живет до 80 лет, некоторые до 150.
Мой голос:
«Впрочем, этим стражам вскоре самим понадобилась защита, потому что их тоже решено “транспортировать”, подкопав сильные заскорузлые корни, и вот они медленно склоняются, цепляясь за небо бессильными ветвями, и падают с жалобным гулом.
Только самый большой из них не поддается лесорубам, смеясь над ними серебряной листвой, пока его не связали тросом с двумя тракторами и стали тянуть вниз, как пигмеи великана, и он застонал страшно и все-таки не упал, а разорвался поперек мощного тела.
Шел вечер. Усталые люди решили окончить работу завтра, а насмерть раненое дерево, поправ свою гордость, стонало, прося избавить его от невыносимой муки. Но никто не повернул назад».
Титры: человек – это…
Мы долго искали точное определение, но не нашли и закончили фильм большой паузой.
Эта пауза разразилась телефонным звонком из Москвы: один из членов фестивального жюри, который когда-то был моим преподом в институте, поздравлял меня с удачным фильмом, который, к сожалению, не был отмечен призом. «Ты знаешь причину», – утешил он меня.
Впрочем, в нашем городе я стал знаменит, хотя местные власти не простили мне моих разоблачений. Передо мной и Ниной, теперь уже моей женой, закрылось все – и моя телестудия, и ее отчий дом, и архитектурный факультет, который она не смогла окончить. Выход был один: Израиль, странный край, поразивший меня невероятной жарой и такой же свободой, и красными, сочными, взрывающимися в лицо яблоками. И хотя взрыв этот случился много позже, когда у нас уже была работа, дом, друзья, но в искаженной моей памяти осталось не это, а последние полгода, проведенные в госпитале Тель Ашомер, среди белой пустыни простыней, беспощадных пальцев хирургов и обязательного голоса Нины: профессор Бен Яков, вы обещали посмотреть мужа!
– Что ж, обещания иногда выполняются, – строго улыбнулся тот, – и именно сегодня.
Главный хирург Бен Яков не доверял подчиненным. Обычно он мирно проходил по коридорам своего обширного владения и вдруг врывался в какую-нибудь палату, что было совершенной неожиданностью для всех, кроме его ассистентки Шош. И вот они возле моей кровати, он – большой, с развевающимися седыми волосами, она – беленькая, почти прозрачная, которую он выбрал из всех, потому что любил анекдоты о блондинках.
– Посторонних прошу удалиться! – протянула девушка, и так как она смотрела на меня, мне показалось, что посторонний – это я. Нина же и не думала уходить.
Шош подала профессору мою папку.
– Что ж, – с удовольствием сказал тот, когда бинты были сняты – мне и смотреть нечего: моя работа, я знаю здесь каждый миллиметр. – Его широкая рука как-то по собственнически касалась моего черепа. – Дело идет на лад. Швы сошлись прекрасно. Ну, а что нам говорят последние снимки? Все очень чисто, поздравляю нас обоих. Я думаю, вас пора выписывать.
Он был очень доволен:
– Знаете, успех операции заложен в пальцах хирурга. Они должны быть сильными и чуткими, как у хорошего виолончелиста. Помните “Элегию” Маснэ: А-а-а, а-а, а-а-а, – пробасил он, но заметив, что ассистентка уже разложила какие-то бумаги, перешел к прозе:
– Итак, пиши: внешняя ткань выглядит совершенно здоровой…
Тут в дверь заглянула большая толстая эфиопка и, стараясь быть незамеченной насколько это было возможно при ее габаритах, покатила к дверям тележку с остатками завтрака.
– А яблоко? – добродушно попенял ей врач. – Оно совсем нетронутое. Да это самое полезное из всего, чем здесь кормят!
Он засмеялся, а меня охватил озноб, когда красный сочный ионатан плавно скатился из руки санитарки в мою онемевшую ладонь.
– Продолжим, – Бен-Яков вернулся к медицинскому заключению, – швы зажили, зажили, повторяла девушка и в тоже время исподволь наблюдала за мной, а я весь дрожал, обжигаясь этим проклятым яблоком, профессор, тихо сказала ассистентка, обратите внимание на пациента, не отвлекайтесь, одернул ее тот, рана на снимках почти не заметна, Нина, помоги мне, беззвучно кричал я, медленно погружаясь в какую-то темную пропасть, и она, все видя и понимая, в отчаянии толкнула стакан, стоящий на столе, вода выплеснулась на белый лист бумаги, ах, боже мой, воскликнул Бен Яков, какие только анекдоты не слышишь о блондинках и все удивляешься, Шош вытирала глаза и стол, яблоко между тем покатилось на пол…
– Ладно, – успокоил ассистентку отходчивый профессор, – потом перепишешь и принесешь мне.
Глянув на меня, Бен-Яков проговорил:
– Я вижу, вы расстроены, молодой человек? Успокойтесь, это займет еще денек-другой.
Оба они, как и в начале визита, бесшумно проплыли мимо, а огорченная Шош еще раз кинула в мою сторону тревожный взгляд, словно не в силах отрешиться от какой-то странной мысли…
Опустошенный, я рухнул на кровать.
– Так вот что чувствуют преступники! – мрачно проговорила Нина…
Назавтра она уже была в другом настроении.
– Мне позвонили, что тебя выписывают! – крикнула она с порога.
Потом в дверях появился высокий, плечистый парень.
– Машина будет у выхода, – улыбаясь Нине, сказал он, и я вдруг понял, что она, наверное, очень хороша, моя жена, но понял это умом, а не сердцем. Незнакомец кивнул мне и отступил в коридор.
– Наш новый сосед, Сергей, – пояснила Нина, помогая мне одеться. – Он иногда подвозит меня. Ты ведь знаешь, наше старенькое ”Пежо” очень капризно.
– Подвозит? – с неожиданной для нас обоих грубостью спросил я. – Так это теперь называется?
Ее светло-бирюзовые глаза потемнели:
– Раньше ты не унижал меня подобными намеками!
– Прости. Мне плохо и больно. Врачи говорят, что все в порядке, но что-то еще должно рассосаться в мозгу. А пока… Посмотри на мой жалкий череп бедного Иорика. Что мне делать среди сильных здоровых людей, вроде этого Сергея?
– Милый, ты недооцениваешь себя – например, твои черные выпуклые библейские глаза над классическим носом? Откуда этот нос римского патриция у кишиневского еврея? Но главное твое достоинство, – ее губы целовали повязку на моей голове, – то, что я люблю тебя!
– Надеюсь. Но знаешь, любовь очень молодое чувство, ему всего каких-нибудь десять тысяч лет, а нашим инстинктам – миллион, они много сильнее любви. Я читал где-то, что женщина чисто физиологически страдает от незаполненности своего вакуума, и тут всякий мужчина хорош вместо того, кто полгода не бывает дома.
Она горестно всплеснула руками.
– Господи, что случилось с тобой за время, что тебя держат здесь! Ты был славным романтичным парнем. Откуда этот цинизм и злость?
– Наверное, от постоянной боли и страха перед будущим, от мысли, что у тебя кто-то может быть… хотя… как говорят теперь… это только секс, правда? – меня вдруг пронзила странная неприязнь к ней. – Нет, я не поеду с вами!
– Как же ты доберешься домой?
– На такси. Когда-то я умел хорошо это делать.
Она потерянно молчала. Потом:
– Ты всегда занят собой. А я? Догадываешься ли ты о том, что мне тоже тяжело? Ведь я совсем одинока здесь, среди твоих соотечественников, допускаю – хороших людей, но таких суетливых, издерганных, неуверенных ни в чем в этой маленькой, сжатой до взрыва стране. А я истосковалась по широким просторам, безмятежным, мечтательно ленивым. И Сергей – открытый, простой, под стать этому.
– Что ж, можешь взять его себе! Терпеть не могу простых. Они живут как амебы и, наверное, размножаются делением. А ты, кажется, предпочитаешь другой способ размножения!
Ее глаза готовы были излиться слезами. Но прежде она дрожащими пальцами вынула из сумочки деньги, ключ и положила на стол:
– Иди…
И вот я, наконец, в своей комнате, окруженный строгим и скромным уютом: старые кружевные занавеси на окне – подарок матери, не поехавшей с нами из-за парализованного деда, на стене – копия картины Энгра: Наполеон с мягкой ямочкой на жестоком подбородке – мой смертный грех, ибо сказано: не сотвори себе кумира, кресло-качалка, убаюкивающее меня бессонной ночью, как детская люлька, и единственная роскошь за стеклом шкафа – слегка побитая китайская чашка, которую мы нашли среди всевозможного хлама на рынке. Чутье не обмануло меня: когда мы очистили ее от грязи, отмыли и налили чай, сквозь голубую эмаль прошли и медленно поплыли серебряные рыбки.
Но главное богатство было на длинных свежеоструганных досках, еще пахнущих лесом – книги, мудрые, лукавые, циничные, смешные, печальные – они закрывали всю стену, выходящую на улицу, не давая проникнуть сюда шуму машин и людской глупости.
– В сущности, – сказал как-то Саша, – эти спрессованные человеческие мысли защищают тебя от внешнего мира надежнее, чем обожженные кирпичи.
И мне немедленно захотелось поговорить с ним.
– Хорошо, что позвонил, – без малейшего удивления сказал он. – У меня тут возникла кое-какая мыслишка после нашей беседы (мы говорили с ним последний раз не менее полугода назад, но время у него было другое). Так вот, я понял, что противоречия между наукой и религией не так значительны, как принято думать. Например, мы с тобой считаем, что Вселенная возникла из сгустка материи. На вопрос, откуда взялся этот сгусток, ученые отвечают: он существовал всегда. И верующие, когда спрашивают своего рабби: Бог, создавший все Мироздание, как возник Он сам? – получают тот же ответ: он был всегда.
– Интересно, – сказал я.
– И только-то? – съязвил он. – Раньше ты воспринимал мои сентенции с б’ольшим энтузиазмом.
Мне стало неловко:
– Прости, я… нездоров.
– Да, я знаю.
– Знаешь?
– Нина звонила.
Я помолчал.
– И что ты думаешь об этом, Саша?
Я ожидал, что он, как всегда, скажет что-нибудь особенное, и все же был поражен, когда услышал:
– Завидую тебе.
– Вот как! – вырвалось у меня.
– Да! Нормальные люди так банальны, ограничены… И я среди них.
– Ну, уж о тебе этого не скажешь!
– Так и я думал когда-то. А потом понял, что льщу себе… Однажды душной летней ночью я вышел из дома вдохнуть свежий воздух и вдруг увидел необычное мерцание неба. Оно словно говорило мне что-то, и тогда я ощутил, что все вокруг – и луна, и звезды, и падающие осколки метеоритов – скрывают какую-то важную тайну, может быть, смысл нашего бытия. Я весь напрягся, как струна прежде, чем музыкант наполнит ее звуком, сейчас, сейчас, горело в мозгу, я узнаю самое главное, и в то же время чувствовал: чего-то не хватает мне, чтобы понять все до конца! И тут это острое мгновение прошло, пропало. А я, повзрослев, в какую-то горькую минуту понял, чего мне не хватало тогда – капли безумия, да! – той, что помогла знаменитому Джону Нэшу проникнуть сквозь границу нашего трезвого мира в другой, твой мир, Марк!
В телефоне установилась тишина.
Я ясно представил себе Сашину физиономию. Высоколобый, с запавшими всепонимающими глазами и длинным язвительным носом, он казался похожим на Вольтера – в семитском варианте. Не только внешне. Идеи, которые бились в его бездонном черепе, могли прояснить многое из еще непознанного, живи он в прекрасном Ферне, а не в Офаким, где кончается цивилизация и начинается пустыня.
– Да, – продолжал Саша. – Так я остался среди тех, кто уверен, что дважды два всегда четыре. Осужден на пожизненную нормальность! Днем сижу в конторе против унылого компьютера, а вечером наблюдаю, как мои соседи считают деньги, вырученные от продажи овощей. Скука смертная… Но тебе это не грозит, Марк! Ты можешь проводить время с удивительными людьми – например, с таинственным Гоголем, который, как говорили, общался с Сатаной и поэтому пережил собственную смерть, с непостижимым Врубелем, чей мозг был изломан острыми блестящими кристаллами, а там, выше, ты встретишь самых светлых безумцев: Авраама, готового убить собственного сына по слову невидимого бога, или Христа, призывающего темную невежественную толпу любить врагов наших и благословлять проклинающих нас…
Саша усмехнулся, – так я понял по странному звуку, донесшемуся до меня.
– Послушай, Марк, а у тебя это не заразное? Я бы подскочил к тебе, чтобы поговорить по душам, как бывало, и проникнуться твоей сумасшедшинкой. И вот, представь, мы уже другие. Кто мы? Может быть, Дон Кехана с верным Санчо Панса? Мы вместе преследуем зло, бьем мерзавцев, прячущихся за ветряными мельницами и в бурдюках с красным вином – вот счастье-то, верно? – почти кричал Саша, а я слушал его, и слезы текли у меня по щекам…
Он, очевидно, почувствовал мое состояние:
– Что-нибудь не так?
– Ничего, ничего, – шептал я, – все так…
– Ну, и ладно. Вот мы и выяснили кое-что. – Чувствовалось, что он очень устал. – И помни: мой телефон остался прежним.
Он положил трубку, и я, признаться, облегченно вздохнул, потому что мне все труднее было понимать его слова. А может быть, это была своеобразная, как всё у него, попытка выразить свое сочувствие?..
Тут дверь задрожала от мощных ударов. Боже мой, это были Дов и Довалэ!
– Ну, солдат! – набросились они на меня, хорошо отбивая бока. – Так ты в порядке! Мы ведь сразу примчались к тебе в Тель Ашомер, но ты никого не узнавал, сукин сын. Решили, что тебе хана, а ты вон какой, только похудел сильно.
– Я ничего. А у вас что? Много работы?
– Да все рутина. Хотя иногда бывает кое-что интересное. Давай расскажем ему о Гвинее, а Довалэ?
– Гвиане! – поправил тот. – Ты умрешь со смеху, – они уже похохатывали, – я в жизни никогда так не смеялся. Думал, меня хватит удар.
– Да в чем было дело? – нетерпеливо спрашивал я.
– Понимаешь, месяца три назад приезжает в страну президент Гвинеи.
– Гвианы, – перебил Довалэ.
– Ну, бросьте вы, дальше!
Тут Довалэ глянул на часы:
– Господи, да нам пора обратно!
– А как же Гвинея?
– Гвиана! В другой раз.
– Друзья, это не честно! Словно соблазнить девушку и убежать.
– Что ж, старина, главное работа. Хотя знаешь что? Едем с нами, по дороге и узнаешь. Да и ребят увидишь!
Я растерялся:
– Ну, так сразу!
– Ты хочешь услышать эту историю или нет? Одевайся!
– А моя рана? Не хочется людей пугать.
– У тебя есть шляпа. Где она?
Они быстро напялили на меня свитер, шляпу, и вот мы уже в машине.
– Ты будешь вести? – спросил Довалэ приятеля и повернулся ко мне. – Значит так. Приезжает к нам президент Гвианы.
– Гвинеи!
– Ладно. Вся наша верхушка присутствует в аэропорту. Как водится, красный ковер, цветы, оркестр. Подкатывают лестницу, и выходит такой плюгавый заморыш с лентой через плечо. Играют гимн Гвинеи. Доволен? – спрашивает он Дова. – Наши обнимают его, подводят к трибуне, тот берет микрофон и начинает говорить… Марк, держись за кресло, ты сейчас упадешь – на идиш!
– Не может быть! – ахнул я. – Почему?
– Это, наверное, единственный чужой язык, который он знал. Ну, все наши бонзы стоят пунцовые, потому что никто ничего не понимает, кроме, может быть, Переса. А у нас в аппаратной все чуть не плачут от смеха. Наконец, директор, который тоже был с нами, кричит:
– Снимайте это к черту!
Режиссер переходит с аэродрома на студию, где сидит диктор с выпученными глазами, который вдруг говорит:
– Эйпцехун а майнсэ!
Мы в машине все тряслись от хохота, и Дов чуть не задавил охранника в воротах студии.
В коридоре было тихо, прохладно. Все, как положено в обеденный перерыв, толпились в буфете. Но слух о моем прибытии заставил всех позабыть о еде:
– А, герой!
Мужчины нещадно били меня по спине, требовали померить шляпу, женщины, глядя на мои бинты, охали и ахали. Главный оператор обрадовался: молодец, что прибыл, у нас людей не хватает, половина в отпуске. Я так и сказал Дову и Довалэ: если он в порядке, притащите его правдами и неправдами.
Эти слова показались мне странными, и я спросил:
– Скажи, когда приезжал в страну президент Гвинеи?
– Гвинеи?
– Или Гвианы.
– Не знаю, я долго был заграницей.
– “Сукины дети”! – подумал я, впрочем, совершенно беззлобно.
Тут появилась Лина, секретарь директора.
– Марк, Марк, звонила твоя жена, напомнила, что тебе нужно принять лекарство ровно в час.
– Ладно, – нахмурился я.
– Нет, она требовала, чтобы кто-нибудь присутствовал при этом. Меня на месте не было, и она говорила все это Самому, представляешь? Ну-ка, давай!
Раздосадованный, я достал из кармана таблетку и проглотил под общий смех.
Когда все разошлись, главный сказал:
– Вот что, для начала можешь поработать в малой студии. Там, как всегда, очень просто – учебная программа.
Я сразу разволновался: снова стоять за камерой, пробовать фокус, диафрагму, зум. Ну, ничего, попробуем. Передо мной – большой террариум со всевозможными гадами, ящерицами, лягушками.
– Марк, барух аба! – звучит в наушниках голос Илана, режиссера. – Нужно добавить несколько крупных планов к передаче, которую мы записали вчера. Будь начеку, если увидишь, что какой-нибудь похотливый самец влезает на самку, уходи в сторону, не дай им леиздаен в кадре (на иврите это звучит не так грубо, как на русском).
Я слышу, что Рита, редактор, говорит ему, смеясь:
– Ты полегче, Марк очень деликатен.
– Был, – замечаю я в микрофон.
Мы долго возились с пресмыкающимися, снимая их не очень симпатичные морды в профиль и в анфас. И было мгновение, когда мне показалось, что одно из этих чудищ… не животное, а… мне стало страшно… я не мог найти нужную диафрагму… Но тут, к счастью, запись окончилась, а я сидел, опустошенный, закрыв глаза, пока не очнулся от знакомого голоса:
– Марк!
Это была Нина.
– Я говорил, что он здесь! – сказал Дов.
Мы вышли в коридор, и меня чуть не сбила тележка с огромным фонарем, которую везли два осветителя.
– Марк! – окликнул меня один из них. – Ты ведь фронтовик, скажи этому тембелю, правда, что левые проиграли войну в Йом Кипур?
– Правда, – кивнул я.
Другой возразил:
– Брось! Только последний тембель не знает, что правые отдали Азу арабам. Верно, Марк?
Я с удовольствием включился в этот вечный спор:
– Верно!
Оба возмущенно глянули на меня и гаркнули в один голос:
– Тембель!
Я потянул Нину во двор, и когда мы выехали из ворот, дорогу нам перешел сильный, кряжистый человек. Внезапно меня словно ударило что-то в сердце. Смуглое лицо этого человека ничем особым не выделялось, но я узнал его – болью моей раны, кровью, вылитой из моих вен, собственной нынешней неполноценностью. Я знал: это он.
– Наш садовник, – сказал охранник, перехватив мой взгляд.
– Эй! – закричал я, выходя из машины.
Тот остановился. Я никак не мог вспомнить его имя. Унимая дрожь во всем теле, спросил:
– Узнаешь меня?
Он никак не реагировал на мой вопрос.
– Это ты был там, на Голанах!
– Я?
– Ты! Из-за тебя покалечило меня и моего друга!
Выражение неприязни исказило его до сих пор спокойную физиономию.
– Ерунда это! – он двинулся дальше. – Халас!
– Жеребчинский! – приветствовал меня кто-то из проходящих коллег… или то был наш самал… и вдруг все поплыло перед моими глазами, я увидел среди густых деревьев парня в куфие, который нес корзину с яблоками и не сводил с меня ненавидящего взгляда…
– Стой! – вырвался у меня отчаянный крик. – Ты никуда не уйдешь!
Кинувшись к нему, я стал заламывать ему руки назад, он сопротивлялся, Нина отрывала меня от него, собравшиеся люди кричали, суетясь, пока всех не остановила пронзительная сирена. Двое дюжих полицейских быстро разняли нас, старший начал писать донесение, но узнав, что я инвалид войны, велел Нине немедленно везти меня к врачу…
И круг замкнулся…
Я снова в больнице, оглушенный всевозможными препаратами и процедурами, из которых самое эффективное – Нина, утром, днем и вечером.
Здесь мало что напоминает Тель Ашомер – очень тихо, пациенты большую часть времени проводят в палатах. Вокруг разбит прекрасный сад, но по ухоженным аллеям бродят редкие больные, очевидно, те, кому доверяют быть одним. Обычно они шепчут что-то сами себе, разводят руками, и почти не общаются с другими.
Иногда санитары выводят гулять странного приземистого человека, который делает не очень приличные жесты, и у меня мелькает невероятная мысль, что это… тот оскандалившийся министр, которого осудили за изнасилование сотрудницы и, говорят, когда объявили приговор, он помешался в рассудке.
Чаще других появляется маленькая рыжая женщина, которая останавливает проходящих мимо и настойчиво спрашивает их о чем-то, но, не дождавшись ответа, идет дальше. Потом она вдруг останавливается и растерянно смотрит вокруг, словно желая вспомнить, что привело ее сюда.
Я тоже замечаю, что мое прошлое становится все меньше понятным мне, хотя редкие посетители иногда напоминают о том, что было.
Как-то явился следователь из военной прокуратуры в сопровождении усатого, очень любезного и многословного доктора Минковского. Майор с черной повязкой на левом глазу был подчеркнуто официален.
– Вынужден побеспокоить вас, – сказал мне гость. – До сих пор врачи не позволяли нам расспросить вас о взрыве в вашей части, но после недавней стычки с арабом возникла срочная необходимость прояснить некоторые детали. Ведь эти два факта связаны, правда?
– Муж считает, – вмешалась Нина, – что это и есть тот, из-за которого был взрыв на Голанах.
Офицер нахмурился:
– Простите, я бы предпочел свидетельство от первого лица, – он повернулся ко мне. – Как вы сами видите то, что было там?
Я порылся в памяти:
– Да, вспоминаю… хотя не совсем отчетливо… яблоневый сад… очень красивый…
– И? – подбадривал меня майор.
Я смущенно улыбался.
Минковский пояснил:
– Действие барбитуратов.
– Кстати, – напомнила Нина, – у тебя еще сегодня углеводородная ванна!
Майор отвел врача к окну, но краем уха я слышал их разговор:
– Нельзя ли прекратить лечение на несколько дней?
– Нет. Пациент начал цикл новых процедур для подавления агрессии, источник которой – тот пресловутый взрыв. А вы хотите все вернуть обратно. – Минковский нервно теребил седые усы. – Самое опасное – направлять его и без того неуравновешенную психику в разные стороны.
– Черт возьми! – майор хотел сказать что-то покрепче, но осекся и только поправил черную повязку.
Они коротко попрощались с нами. Проходя мимо, следователь кинул на меня острый испытывающий взгляд в котором, казалось, участвовал и тот, закрытый глаз, и там была досада, пренебрежение… насмешка! Лицо мое вспыхнуло как от пощечины. На мгновение, невероятным усилием воли мне удалось разорвать туман, окружавший меня, и я увидел бескрайнее синее небо и легко плавающие облака, чудесный сад с сочными красными плодами – и его, его, погубившего меня и всю эту красоту.
– Постойте!
Дрожа, я всматривался куда-то в зыбкую даль:
– Он был смуглый, черноволосый… нет, не помню… больше не помню!.. – в отчаянии бормотал я, глаза мои были полны слез.
Нина, обняв меня, успокаивала шепотом.
Гости вышли, и мы остались, наконец, одни в моем новом жилище…
Мне, как инвалиду армии, выделили на время лечения небольшую комнату в дальнем корпусе, окруженном старыми елями. Нина сделала все, чтобы я чувствовал себя здесь как дома: принесла любимые книги, китайскую чашку, где в горячем чае плавают серебряные рыбки, и, конечно, портрет Наполеона с мягкой ямочкой на жестоком подбородке. Когда я прибивал тяжелую раму к стене, рискуя упасть с шаткой табуретки, слабый хрупкий голос донесся ко мне через окно:
– Вы художник?
Я увидел маленькую рыжую женщину.
– Нет.
– Я ищу художника, очень известного, – она говорила короткими, как бы затихающими фразами. – Он пошел в тюрьму. К бандиту. Тот убил несколько человек. И мою дочку тоже. Так вот, этот художник… принес ему в подарок свою лучшую картину. Понимаете, я хочу найти его… чтобы спросить, – она заплакала, – почему он сделал это?
Устало прикрыв выцветшие безнадежные глаза, женщина пошла прочь по узкой дорожке. Ошеломленный, я долго смотрел ей вслед и думал о том, что, наверно, она спрашивает об этом каждого встречного, не ожидая ответа.

