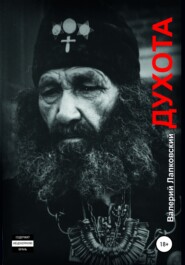 Полная версия
Полная версияДухота
– Вы неправильно вынимаете частицы из просфор… Зачем копием наискоски режете? Клинья должны быть не друг против друга, а рядышком… Вы за кого приносите жертву? За гражданскую и церковную власть. Они должны быть заодно, дабы получалась симфония. А вы их клин в клин! Зачем сталкиваете?
Золотой зуб мерцал во рту протоиерея, как уголёк в печном поддувале.
– Я вам по-хорошему советую: не ходите по городу в рясе.
– Поп без рясы, учил Ленин, страшнее.
– Вас могут побить хулиганы.
– А милиция для чего?
– Вы грамотный человек, а босота – невежды.
– Восемьдесят процентов сотрудников внутренних дел, согласно статистике, не имеют законченного среднего образования!
– Матрёна! – крикнул настоятель, не заметив вошедшего в алтарь молодого пресвитера. – Где голландский сыр?
Черноризнице Матрёне за седьмой десяток перевалило. А когда окна вымыть под самым потолком или сменить, как парус на корабле, завесу на царских вратах, летала по лестнице, будто по реям матрос, которого на мачте посасывает ветер, точно леденец на палочке.
Чистила кадило а-ля Кикимора своё копытце.
Ныряла в преисподнюю – подвал под храмом и там кочегарила вовсю, никому не уступая котла. В руки въелась неотмываемая сажа, зато в Божьей светлице постоянно в непогоду тепло.
– Матрёна! Космонавтов запустили!
– Куды ж они зимой, в такой холод?!
Беззубая, весёлая. Была до войны старостой, и в лицо ей наганом тыкали, и в Сибирь гоняли, а от Бога не отреклась…
Увидев молодого помощника, настоятель бросил упаковывать портфель. Под левым глазом заплясал тик:
– Вас вызывает Владыка… Вместе с женой.
– Зачем?
– Я тут ни при чём!
– Я не о вас…
– Кто-то написал… Ко мне приходили, жаловались, но я тут ни при чём… Люди недовольны как вы проповедуете… Вы сами понимаете… Какие у нас сейчас «гонения»?.. Я вас предупреждал!.. Брони, Боже, лишат регистрации…
– За что?
– Ну, вы сами догадываетесь!
– А я тебе говорила? – впуталась Матрёна. – Как святишь воду – не опускай крест в порожнюю посуду! А то сила твоя в пустоту уходить будет!
– В церкви, – продолжил кандидат богословия, – запомните, отченька, я вам столько раз говорил! – ничего нового ни с амвона, ни в журнале не скажешь!
– Иными словами: таракан, найденный в пермско-каменноугольных породах, отложившихся триста пятьдесят миллионов лет назад, судя по отпечаткам, ничем не должен отличаться от современного таракана?
– Совершенно верно!
– Когда я должен явиться к Владыке?
– В пять вечера.
– Сон в руку… – подумал бедокур.
Епископ одной из центральных епархий России, в которой теперь служил бывший архивариус, был родом из-под Рязани.
Здоровый сельский паренёк чуял, где надо промолчать, а где и слово молвить. В семинарии сие драгоценное качество заметили. Митрополит приблизил земляка к себе, сделав его чем-то вроде ординарца. Учился он кое-как, отбояриваясь тем, что помогает великому иерарху, разъезжающему с миссией миротворца по белу свету: сегодня в Англии, завтра на Кипре.
Сдав выпускные экзамены в академии, подшефный митрополита удостоился давно чаемых лычек епископа, заняв пост заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений. Подписывая бумаги, он рисовал впереди своего монашеского имени маленький музыкальный ключ в форме крестика, что свидетельствовало о его благочестии и посильных трудах на ниве Божией.
Если человек не понимал его распоряжений, раздражал, переспрашивал, отвязывался от него, коротко выпроваживая одним словом:
– Аминь!
Если такая же ситуация случалась в провинции, не церемонясь, ронял, как Христос Лазарю:
– Вон!
Прилетая из Москвы в тот город, где окормлял вверенную ему епархию, Аминь Аллилуевич устраивал на Пасху празднество в капитально отремонтированных покоях.
Мягко пружинила модная югославская мебель. Толстый ковёр приглушал топот архипастырских овец.
В трапезной был накрыт не слишком узкий, не слишком широкий стол под белой скатертью.
«Колокольные дворяне» неловко озирались по сторонам, разыскивая стулья или лавки.
Обсосанный по всем каналам традиционный православный консерватизм дал трещину – в манере пить и жевать стоя сквозил модерн, нечто европейское, что встречается на приёмах в посольствах или на правительственных пирушках.
– Забегаловка!.. Рюмочная! – бубнил про себя не один осанистый протоиерей, тоскуя по сидячему застолью.
Им бы в жарко натопленную, тесную каптёрку, где кафедралы перед службой меняют цивильное платье на богослужебные одежды; тут висят их чёрные подрясники с несвежими подворотничками; на столе валяются куски хлеба, банка из-под мёда; к стене пригвождён двумя канцелярскими кнопками прошлогодний церковный календарь с фотографией резиденции Патриарха, у входа в которую на часах по изволению Духа Святаго стоит милиционер. А в шифоньере белеют пачки панихидного сахара впритык с «Октоихом», ножницами, катушкой ниток…
Вошёл Владыка в шёлковой рясе. «Если бы на нём сидел бархатный сюртучок, он был бы застёгнут на две нижние пуговицы, позволяя рассмотреть ослепительно чистое нижнее бельё…», – не преминул бы заметить Лермонтов, столкнувшись с ним нос к носу.
Пропели что полагается, перекрестились, и, не теряя даром времени, стали беспощадно истреблять коньяк, шампанское, бутерброды с ноздреватым сыром, апельсины, трюфели… Иные из гостей последний раз пили с архиереем месяц назад в подсобке кладбищенской церкви после литургии. Рядом за дверью ждали три гроба. Окончив трапезу горячим капустным пирогом, епископ к удивлению родни мертвецов и сослуживцев вызвался сам отпеть пленников могил. Преосвященный не только сказал прочувствованное слово прощания, но и, не морщась, облобызал незнакомые трупы, показав подчинённым и всем, кто присутствовал, образец истинно христианского отношения к смерти.
Откатив рукава рясы, Аминь Аллилуевич ловил вилкой на блюде ломтик веснушчатой от сала колбасы, старался рассеять натужно парадную сдержанность пасомых приличным анекдотом.
У входа прикрывал горло, стесняясь, стягивая воротник рубашки с оторванной пуговицей, соборный староста. Секретарь епископа (цыплячий рот под тараканьими усами) поднёс ласковому деду стопку огненной жидкости и лепесток сыра, памятуя, что вымя дойной коровы следует подкуривать ладаном.
Барахталась скука.
И тогда Господь отверз уста новому клирику, которого зампред ОВЦС полгода назад не без труда протащил в сан пресвитера.
– Владыка! Можно ли в пасхальную ночь попросить милиционера снять в храме фуражку?
Вино вспыхнуло – духовенство дружно загалдело. Одни утверждали: замечание следует сделать, но в максимально мягкой форме; другие брали под защиту мундир участкового, ведая из опыта, что такое блюститель порядка, когда находится при исполнении служебных обязанностей: менталитет мента – непобедим; третьи иронично косились на говорунов, употреблявших конфессиональную феню, а кто-то, залезая бородой в ухо молодого священника, прошепелявил интонациями подкрадывающейся подагры:
– На вас акт составили?
Князь Церкви тем временем кумекал, как отвязаться от нелепости, портившей фуршет. Слово, что воробей, здесь скажешь – завтра на Лубянке поймаешь. Он попробовал незаметно перевести неприятный разговор в надёжное русло обличения личных недостатков духовенства. Но укрыться в гавани грехов не давал радикал, чей голос батареей на берегу палил из всех стволов:
– Как же поступить, Владыка?
Ответ с исчерпывающей полнотой истины и благочестия гласил:
– Не трогать!
Кабы кто из милиционеров закурил в храме, или, к примеру, справил малую нужду у царских врат не хуже Гулливера, погасившего таким макаром пожар во дворце лилипутов, тут уж делать нечего! Надо приглашать к порядку, ибо что сделает Бог с врагами Давида, и ещё больше сделает, если до рассвета утреннего оставит хоть одного мочащегося к стене?
– А наш батюшка их едва не выгнал! – ужалил отец Борис.
Архиерей предпочёл это не расслышать, поднял бокал за здоровье Патриарха. И, когда прощался со всеми, благословляя и подставляя щёку для поцелуя, не сказал ни единого слова бывшему архивариусу. А тот в развесёлом настроении зашагал домой, подметая асфальт полами новенькой рясы под восхищённые взгляды удивлённой босоты.
Муж и жена ждали Владыку в коридоре…
Что могло взвинтить архиерея? Батюшка, точно Цезарь Октавиан Август, который был настолько осторожен, что иногда беседовал со своей супругой по заранее подготовленному конспекту, никогда не выскакивал на амвон, как сумасшедший с бритвой в руке. Он придирчиво проверял каждую фразу подготавливаемой проповеди. Знал: любой оборот чутко ловит не только паства, но и настоятель, жадный до его сказа с амвона, как муха до браги. Мордастый староста жёг глазами, будто прожекторами при наступлении Красной армии ночью на Берлин, прикидывая, какой фрагмент вдохновенного разглагольствования исподтишка зафиксировать в блокнот, дабы обеспечить уполномоченного по делам религий трофейными придирками…
Аминь Аллилуевич вышелушился из туалета.
Батюшка с матушкой по очереди припали к длани Владыки. Рука бывшего тракториста благоухала импортным мылом.
Молча проследовали в залу.
Его Преосвященство (камень, земля вокруг суха, и сам он сух, но стоит отвалить в сторону – брызнут мокрицы), указав им на диван, как на скамью для подсудимых, сам сел в курульное кресло.
– Я пригласил вас вдвоём, так как должен решить, будете ли вы, отец, служить в дальнейшем или сегодня же пойдёте под запрет… Кто вам дал право говорить на литургии, будто у нас закрывают церкви, царит пир, бульдозеры сметают храмы?
– Владыка, рукоположив меня в духовный сан, вы дали право нести Слово Божие в народ…
– Но, обращаясь к пастве, вы учитываете ситуацию, положение Церкви?
– Конечно.
– Коим образом?
– Я не трещал про бульдозеры. В проповеди на Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, говоря о пире во дворце безстудного Ирода, сравнил закрытый храм с отрубленной головой пророка…
– Если вы хотите таким способом вести борьбу с атеизмом, вам нужно было остаться вне Церкви, не принимать сан!
– Почему?
– Потому что вы прёте против официального курса Чистого переулка, против Патриархии, против меня! Вас поддерживает прикаспийский архиерей? Ему нравятся ваши проповеди? Почему же он в таком случае не посвятил вас хотя бы в дьяконы? Почему вы обратились ко мне?!
– У него нет такой власти, как у вас.
– Разве перед хиротонией вы не дали клятву не выступать ни с какими нелояльными выпадами? Кто позволил вам заявить с амвона, что вы не коммунист?!
– Да я на самом деле не коммунист!
– Это никого не интересует! Вы не должны были об этом информировать приход!.. Ваш прикаспийский Владыка хвалит вас на расстоянии, а в своей епархии ничего похожего вам не позволил бы!
– Отпустите меня в другую епархию.
– Я запрещаю вам служить!
– До конца жизни?
– Я поставлю перед Патриархом вопрос о снятии с вас сана!
– За что?
– Ни за что! Есть превосходная зацепка – ваша болезнь, психическая неполноценность. Вы – шизофреник!
– А что вы думали о моей шизофрении, когда меня рукополагали в духовный сан? Ведь это не было тайной.
– Я не обязан вам отчитываться. Я отчитываюсь перед Патриархом!
– И не только перед ним.
– А перед кем ещё?
– Перед заграницей.
– Подлец!
– Нет, это вы подлец!
– Вон отсюда! С завтрашнего дня больше не служите!
На улице свистела осень. Баба-дворник высоко поднятой метлой сбивала с деревьев последние листья.
– Удар милосердия! – усмехнулся пресвитер.
На другой день сиротинки Христовы принесли мёду, хлеба, яблок, курицу.
– Батюшка! Да что это? Куда ж?!
– Чтоб у них повылазило!
– А Борис – лисица: «Я тут ни при чём!»
– Это его работа.
– Он, он! Третьего священника съедает… Залез в овсы и ест людей…
Пастырь утешал женщин:
– Ничего, Господь терпел…
– И долго сие будет продолжаться? – подражая супружнице протопопа Аввакума, спросила после визита прихожанок Лана.
– Всю жизнь, Марковна! – в тон ей ответил иерей, стоя у окна…
По улице ехала телега. На ней в обнимку с баранами спали цыгане. Седой возница дремал, правя понурой лошадью.
– Господи! – подумал Гладышевский. – Вот она, моя жизнь…
Жена подошла сзади, тихо обхватила руками:
– Ты отстаиваешь свои принципы там, где опасно, и отказываешься от них, когда их легко соблюдать; ты бесконечно щедр, добр и восхитительно жесток (всё незаметно для себя). Обладаешь подозрительностью лесного зверя и доверчивостью ребёнка… Честолюбив, но не стал рабом своего честолюбия; веришь и сомневаешься… Знаешь, что красив и никогда не желаешь помочь этой красоте жить дольше. Понимаешь то, что никак не поймут другие, и не знаешь то, что известно всякому… Зависим от всего, и при этом остаёшься самым свободным человеком – я утомила тебя перечислением? – это всё ты, мой любимый…
– Фантастики начиталась! – фыркнул косатик.
Аминь Аллилуевич почти сутки не спал.
Он чувствовал себя на вышибоне.
Неприятности насели со всех сторон: и в столице, и в провинции. В Москве на него точил зубы Совет по делам религий, в епархии, где управлял выкормыш великого митрополита, один сельский пастырь (его ставленник!) отказался наотрез голосовать на выборах в верховные органы власти… Спрашивается, из-за чего?! Из-за того, что попа пригласил к себе уполномоченный, а там… сотрудник КГБ, представив себя служителю культа работником ОБХСС, сказал:
– Вы, как нам известно, в недавнем прошлом пограничник. Зарекомендовали себя как образцовый воин-патриот. Давайте и дальше служить Родине. Религия – ваше частное дело. Но – Родина! Родина у нас одна… Будете приходить к нам и делиться, как идут дела на приходе, какова посещаемость, кто приезжает к дьякону, какие книжки кто распространяет, что говорят. Село-то у вас вон какое большое!
– В деревне… среди старух… книжки?
– Не смущайтесь, не торопитесь… Вы где мясо покупаете? В сельпо?
– Да мне мясо бабки сами несут!
На самом деле наследников «железного Феликса» интересовали не столько сельские жители, сколь городские, в гостях у которых частенько сиживал, приезжая из деревни, вчерашний пограничник. Сиживал у камина в квартире бывшего кандальника. На горящих берёзовых чурках пыхтел чёрный от сажи, накрытый рваной брезентовой рукавицей чифир-бак. Эту посудину с ручкой из крепкой проволоки хозяин прихватил с собой из зоны, где от звонка до звонка отбухал восемь лет. Нарезали ему полный каравай лагерной пайки за то, что никак не хотел согласиться с теми, кто утверждал, будто у него музыкальный слух ниже, чем у глушителя зарубежных радиопередач, воображающего себя, как в опере Вагнера, сапожником Гансом Саксом, который при каждой фальшивой ноте поющего писаря громыхал молотком. Обиженный музыкант решил взорвать глушилку, но соучастник операции, струсив, сдал его до начала диверсии…
Бузотёра вызвали из села в город к оперуполномоченному Чалыку, лысому, как ствол заградительного пулемёта, бьющему в упор по драпающим паникёрам.
В утробе политического сыска никаких украшений, только портрет Дзержинского, который (по словам Ивана Денисовича из Рязани) отсидел при царе столько, сколько любой колхозник, арестованный в период коллективизации. Силуэт председателя ВЧК, выпиленный пионерским лобзиком из толстой фанеры, соседствовал с просторной цветной политической картой мира, заменявшей здесь обои. Над стальным сейфом сиял рекламный плакат Аэрофлота, заманивая иностранцев посетить СССР. Серебристый авиалайнер летел в ослепительном голубом просторе над Москвой со сталинскими высотками, новыми домами, парками, редкими церквами… В окне многоэтажки заботливая старуха перебирала поношенные детские платья, вынимая их из полиэтиленовой торбы – принесла от соседей, чья дочь уже выросла. Бабка сортировала шмотки, авось пригодятся внучке. Рядом, надеясь избавиться от грибка, мазал зелёнкой пальцы ног рыхлый зять, задрав растопыренную ступню на письменный стол… В комнате для свиданий в «Бутырке» озорница лет девяти нацепила на голову папкин арестантский картуз – козырьком на затылок – и любовалась на себя в зеркале, висящем в коридоре острога… На Калининском проспекте пряталась в тень огромных зданий маленькая церквушка, будто Марина Мнишек под юбки своих фрейлин, когда толпа ворвалась в Кремль убить её…
Но над сельским пастырем парил не аэроплан, а делал разворот «ястребок», истребитель, который не уклоняется от встреч с противником, наоборот, ищет его, находит и уничтожает.
Чалык распахнул «Уголовно-процессуальный кодекс»…
– Уберите, – усмехнулся священник. – Я знаю. «Ответственность за отказ от дачи показаний или ложное свидетельство». В качестве кого и на предмет чего я здесь?
Опер глянул на своего шефа Малину. Тот (кит с двухметровым пенисом) молча сидел за другим столом, как «дремлющий – в природе – в себе – сущий дух».
– Продолжайте, – кивнул начальник.
– Мы слышали, – доверительным тоном начал Чалык, – к вам в гости собирается…
– Так он приедет не один!
– А с кем?
Батюшка назвал имя физика-правозащитника, гремевшее по всему свету.
– Вы, конечно, разыгрываете нас, – с сожалением констатировал офицер. – Нас интересует дата прибытия вашего друга, и чем он тут намерен заниматься.
– Да отдыхать он будет! После ссылки. Вы же знаете!
– Мы предлагаем вам одноразовую услугу. Вы – нам, мы – вам. Вы хотите перебраться из села в город? Мы поможем.
– Не понимаю…
– Вам известно, что в уголовном кодексе есть статья за недонесение о готовящемся преступлении?
– Самая отвратительная статья, её отменят!
– Никогда! Вы напрасно не желаете нам помочь. Ваши коллеги сговорчивее.
– Слушайте, мой знакомый не планирует никого грабить или резать…
– И всё-таки подумайте… Ваша непонятная дружба с музыкантом-диверсантом, а также предстоящий визит…
– Я отказываюсь вас понимать!
– Ну, тогда, – пошёл в лобовую атаку китовый дух, – сидите в деревне, города вам не видать! Чего ради мы будем драть за вас жопу?!
У «мечты, цветущей стихами», оказался плоский рахитический таз.
Теперь архиерею надо было улаживать предвыборный скандал, звонить, стращать, выяснять, беседовать, заискивать, упрашивать… История могла стать известной Патриарху. Святейший недолюбливал креатуру великого митрополита. Покойный митрополит был главным персонажем докладных записок Патриарха в Совет по делам религий, а тот платил Святейшему той же монетой, сообщая куда надо, будто у кормчего Церкви есть в Москве зазнобушка…
В Совете по делам религий на Смоленском бульваре окопался в международном отделе тип, имеющий лапу едва ли не в ЦК. По характеру службы Шибякин контачил с заместителем председателя ОВЦС. Случалось, позвонит: « – Нет ли у вас, Валентин Фёдорович, м-г-м, чего-нибудь такого. У нас ожидаются гости, да-да, фээргэшники, немцы… Значит, договорились? Несколько Библий, десяток пластинок с церковными песнопениями… Превосходно! Интуристы останутся довольны.»
Епископ тут же нагружал посыльного. Шибякин расцветал при встрече, шептал Валентину Фёдоровичу, что Совет непременно добьётся для него архиепископства, как бы Патриарх ни возражал!
Однажды Шибякин позвонил и высокопоставленно-будничным тоном принялся клянчить что-нибудь посущественнее, чем Священное Писание, для двух иноземных дам королевской крови. Аминь Аллилуевич предложил золотые часы.
Отправив презент, спустя несколько дней доложил об этом начальству. Неожиданно обнаружили: никаких закордонных персон не было. Шибякин просто скоммуниздил часики для жены и дочери.
Подарки вернули. Комбинатор удержался на бульваре, но теперь из покровителя переквалифицировал себя в короеда. Цеплялся за всякие мелочи, подтачивая авторитет зампреда ОВЦС, не брезгуя сплетнями, будто епископ напивается порою до положения риз…
Рязанец парировал выпады. Но бульварный противник заключил военный союз с двумя коллегами. Выкормыш великого митрополита им стал неугоден после того, как он, заведуя протоколом, посадил их на приёме в честь румынского Первосвятителя (поесть и нахлобыстаться нахаляву за счёт Церкви клерки были мастера!) не там, где хотелось. Воинствующие материалисты с апломбом вышибал дали клятву Ганнибала сжить шефа протокола если не с бела света, то по крайней мере из ОВЦС. Интриганство этих бульварных сошек, их нечистоплотность были в руках архиерея, который постоянно общался с представителями зарубежных газет, радио и телевидения, а также церковными и государственными деятелями, горючей смесью. Если бы епископ предал информацию огласке, она спалила бы его врагов. Но зажечь бикфордов шнур не мог, поскольку сам оказывал нередко деликатные услуги Конторе Глубокого Бурения. Патриархия и Лубянка срослись, как два пальца на ноге Сталина. Аминь Аллилуевич удобрял текст своего послания к богохранимой пастве по случаю Дня победы над Германией цитатой из трудов корифея народов, соревнуясь с таксистом, который украсил пластмассовый набалдашник рычага переключения передач обликом медали генералиссимуса с надписью: «Наше дело правое – мы победили!». Что ему, бутафору в омофоре, было до Августина и Шлейермахера? Те считали недостойным для Церкви участие в юбилее по поводу военного поражения чужого государства.
Ко всем сюрпризам добавился инцидент с «буколиками» бывшего студента, смело тычущего с амвона нестандартными фактами, цитирующего непопулярных авторов, не желающего понимать, что это недопустимо.
Управляющий епархией решил поговорить с ним ещё раз, заперев раздражительность на ключ. Попа онучей не учат.
– Что вы пугаете меня заграницей? – хладнокровно начал Владыка, собрав в кулак уже седеющую, с опаловыми подпалинами, бороду.
Батюшка на сей раз сообразил, что возражать администратору – предел нравственной распущенности. Всё равно, что рядовому в строю пререкаться с сержантом.
– Простите, Ваше Преосвященство, я был чересчур резок…
– За рубежом и без вас знают, что я – коммунист.
– Я так не считаю… Просто все говорят – верхушка… предала Церковь.
– Кто говорит?
– Народ.
– А мне плевать!.. Что вы мечетесь? Ничего нельзя изменить! Ну, не называя фамилий, скажите: много ли таких, как вы? Есть ли у вас про-грам-ма?.. Если бы митрополит Сергий не предпринял исторически правильные шаги, не сидеть бы мне с вами в этом кабинете!
– Я не думаю, что своим существованием Церковь обязана исключительно мудрости митрополита Сергия…
– Если пикнем, храмы закроют! Где тогда народ сможет причащаться?
– Там, где причащаются святые – в острогах ссылках, лагерях. История Церкви ведает такие каноны.
– Сейчас есть только одна организация… Она спасает Церковь!
– Церковь спасает Христос!
– Комитет госбезопасности, – аргументировал Аминь Аллилуевич, будто мальчик, который наматывает на свою письку вату и марлю, чтобы на пляже в плавках ничем не отличаться от взрослых мужчин, – единственная сила, которая сдерживает партаппарат от того, чтобы нас не размазали по стенке… Вы это не понимаете… Я живу в Москве и дальше вас вижу. Мы не сможем вместе служить… Вы внутри себя – бунт и раскол…
– А разве иным должен быть настоящий мужчина?
– Я отпущу вас в другую епархию… Но характеристику не дам. Постарайтесь договориться, чтобы вас взяли без характеристики.
– Кто из архиереев на это согласится?
– В других краях, отче, вы можете отчебучить очередной фокус… Станут выяснять: «Чей? Кто рукоположил?». А у меня и без вас забот по горло!
– Но ведь…
– Я человек простой, из села… Я ничего не боюсь… Вы думаете, цепляюсь за место? Да у меня денег на три жизни хватит! Вы лучше о себе подумайте, у вас семья, дочь… Нельзя быть до такой степени самовлюблённым эгоистом! Гордыня пожирает вас!
– Владыка…
– Вокруг ваших «эклог» – возня. Вы всему хотите дать христианскую оценку… Блюдите, како опасно ходите!.. Я подтвердил, что не нахожу в вашей гомилетике ничего противоестественного… Если хотите – побеседуйте с ним сами… Кое-кто очень сожалеет, что дал агреман на ваше рукоположение. Найдёте себе нишу в другой епархии – сообщите мне, отпущу… Но до того момента – ни одного слова с амвона, никаких проповедей!
В холодном притворе Введенской церкви, продолбив лунку, занялись подлёдным ловом нищенки, разбросав в проходе сеть протянутых рук.
– Отец! Живой! – радостно заголосили, увидев молодого пресвитера. – Ну ты и отчаянный!
С улыбкой благословляя говорливых баб, Гладышевский прошёл в алтарь и на коленях прижался головой к престолу.
К нему подскочила со склянкой Матрёна:
– Батюшка! Там больная ждёт, нацеди воды с-под копья!
Часть вторая
Во второй части нашего повествования помещаем керигмы, которые главный герой, став священником, произнёс в храме и из-за которых у него приключилось немало сложностей в отношениях с церковным и гражданским начальством, поскольку проповедь, по мнению Кьеркегора, наиболее трудное из искусств. Кому не интересен отпечаток вечности (здесь уместно вспомнить не одного Кьеркегора, но и Плотина, считавшего, что не существует никакого времени и даже никакого мельчайшего момента времени, где не отражалось бы вечность), читать их не обязательно.

