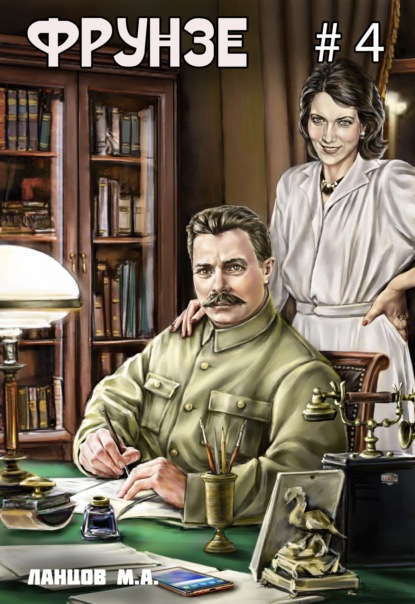
Полная версия:
Фрунзе. Том 4. Para bellum
– Не совсем. Я предлагаю сделать так. Части постоянной готовности станут собственно армией. Учебные части оставить как есть. А территориальные части упразднить, создав на их основе народную милицию[14]. Последняя станет организованным резервом, из которого мы будем комплектовать армию и выделять в случае необходимости части и подразделения для решения самостоятельных задач.
– Вы просто предлагаете переименовать территориальные части? – спросил Триандафилов.
– Никак нет. Гражданин призывается. Проходит учебку, сначала основную, потом – по первой военно-учетной специальности. И отправляется в запас, то есть домой. Однако если он желает, то может записаться в народную милицию. Это дело добровольное. В ней он будет регулярно посещать сборы, сдавать нормативы по боевой и физической подготовки, время от времени привлекаться к учениям и маневрам армейских частей, служить в гарнизонах на зарплате и так далее.
– Думаете, многие захотят? – грустно спросил Буденный.
– Еще конкурс устраивать будем. – усмехнулся Фрунзе. – Потому что гражданин, пока он состоит в народной милиции, будет получать ежемесячные денежные компенсации. Небольшие, но постоянные и заметные. Хоть и заметно меньшие, чем зарплаты. Скажем, рублей по десять. Будет получать налоговые льготы. Обретет приоритет при поступлении в учебные заведения на конкурсной основе. Льготное лечение. Раз в год будет получать компенсацию для приобретения униформы. Получит право на открытое ношение оружия и применение его для самозащиты и поддержания общественного порядка. Более того, после завершения двадцатилетней службы в рядах народной милиции будет окончательно уволен в запас, получив надбавку к пенсии. Ну и так далее. Тут можно подумать над сеткой и конкретным цифровым значением этих льгот. Я уверен – желающих будет хватать, и нам придется очень серьезно работать, отбирая кандидатов.
– И какой вы хотите развернуть штат народной милиции?
– А вот это нам с вами и нужно решить. Прикинуть, сколько мы сможем себе позволить, не надрываясь. И сколько нужно, исходя из международной обстановки. Заодно решить, что делать с учебными частями да военкоматами.
– А что вы с ними хотите делать? – несколько задумчиво спросил Свечин.
– У нас около 150 миллионов населения. Из них примерно половина – мужчины. Ну почти. Из которых что-то порядка трети подходят по возрасту для мобилизации, то есть порядка 25 миллионов. Ну хорошо – четверть, около 18 миллионов. Совсем возрастных и задействованных на важных производствах лучше не трогать. Где-то треть из них имеет боевой опыт либо Империалистической, либо Гражданской войны. А кто-то – обеих. Но сколько из них и в каком плане пригодны к войне – вопрос. Ведь времена были лихие. Случайных людей в армию заносило эшелонами. А нужны ли в армии «хлебушки» и прочие «мякиши»?
– Что вы имеете в виду? – нахмурился Свечин.
– Военные комиссариаты должны тщательнее отбирать призывной контингент. Не только по физическим данным, но и по психическим и морально-нравственным. Думаю, вы прекрасно понимаете, что если человек не хочет служить, то это потенциальный дезертир, перебежчик, саботажник и так далее. Зачем он в армии? А при 18 миллионах потенциальных резервистов, которых нужно либо учить, либо переучивать, уверен, выбор будет. Мы технически не в состоянии их всех прогнать через учебные части, приводя к единой норме базовой подготовки, даже за десять лет. И выбирать все одно придется.
– А морально-нравственный критерий отбора? Зачем он? – спросил Шапошников.
– У людей с оружием много искушений, поэтому давать его людям с дурными наклонностями – плохая идея. Через это мы будем плодить мясников и моральных уродов. Понятно, «томных девушек» произвольного пола в армию нет нужды призывать, но и откровенным садистам там не место.
– Если сделать возможным самоотвод, то много будет косить от призывной службы, – заметил Буденный.
– Это так. А значит, за службу должны идти какие-то плюшки. Например, занятие каких-либо руководящих постов разрешить только для тех, кто прошел службу. Или там разрешение на открытие дела выдавать только после службы. Если годен – то в обычных учебных частях. Если не годен или взял самоотвод – то удвоенный или утроенный срок в социально значимой профессии. Например, медбратом в больнице утки потаскать. Или еще чем заниматься. Плюшки эти должны быть, с одной стороны, значимы, а с другой – без них человек бы не чувствовал себя ущербным, живя обычной жизнью маленького человека. Кстати, возможность пройти службу вольноопределяющимся по военной или альтернативной линии должна, я думаю, сохраняться до окончания мобилизационного возраста, то есть, считай, до старости.
С этими доводами Михаила Васильевича в целом согласились все. Как и с теми, что нужно полностью реорганизовывать работу военных комиссариатов. Ведь им теперь предстояло проводить большую и социально значимую работу. Для чего решили и зарплаты поднять радикально, и личную ответственность внести, и ротации, с выводом из структуры военкоматов после трех-четырех лет службы. Да и комплектовать личный состав военкоматов из ветеранов армейских, вручая им разовый контракт в качестве увольнительного поощрения по службе. И так далее.
Ну и коснулись вооружения.
Армии однозначно требовалось если не самое лучшее оружие, то уже точно близкое к этому. И ее основой по задумке Фрунзе должны были стать механизированные соединения. Первоначально в формате сочетания моторизованной пехоты на грузовиках с танковыми частями. С дальнейшей пересадкой пехоты на бронетранспортеры и боевые машины пехоты при сохранении танковых компонентов. Причем танки сюда должны идти лучшие, а не мобилизационный шлак. Артиллерия здесь также должна быть переведена на различные подвижные платформы, став самоходной, то есть вывести из армии буксируемую артиллерию в полном объеме. Исключая минометы и подобные системы, но их можно скорее отнести к носимой или вьючной.
Особняком стоял армейский спецназ, такой как воздушно-десантные части, штурмовые инженерно-саперные, горная и морская пехота и так далее. Здесь требовалось действовать по ситуации. Все-таки много специфики, и не всю ее можно было удовлетворить на текущем уровне развитии науки и техники.
Общая парадигма – армия должна стать мобильным, бронированным кулаком.
С народной милицией такого, увы, прокатить не могло. Просто в силу того, что промышленность Союз, даже получившая boost в последние пару лет, все еще была довольно слабой. Да, в оригинальной истории Союз сумел только в 1945–1947 годах завершить моторизацию. Но это было возможно только благодаря сильнейшему перекосу экономического и промышленного развития, а также почти полумиллионному парку грузовиков, которые он получил по линии ленд-лиза и без которых на 1941 год пехота РККА имела очень ограниченную моторизацию.
И порываться прыгнуть выше головы, проведя сплошную моторизацию вооруженных сил, не было, по мнению Фрунзе, никакого смысла. С одной стороны, все эти грузовики остро требовались в народном хозяйстве. Особенно сейчас – на старте. Когда имелся пусть и маленький, но экономический эффект от каждого грузовика. С другой стороны, этого и не требовалось. Во всяком случае, в ближайшие лет десять.
Так что народная милиция должна была формироваться по схеме легкой пехоты. Ну почти. Потому как оставлять ее совсем без артиллерии и бронетехники не имело никакого смысла. Опыт боевых действий на Украине показал – даже один бронеавтомобиль может изменить ход боя целой роты, а то и батальона.
Что влекло за собой определенные выводы.
Так, например, вся буксируемая артиллерия будет переводиться сюда – в народную милицию. И механизироваться. Потому что таскать ее лошадьми – разорение для экономики.
Пехота должна будет передвигаться на своих двоих… колесах, то есть на велосипедах. Ибо выпустить один-два и даже три миллиона крепких армейских велосипедов не представлялось стратегической проблемой. А потом их еще и модернизировать можно относительно легко, оснастив планетарным редуктором с двумя-тремя скоростями.
А вот в качестве усиления здесь должны были идти отдельные подразделения, край – части АБТ. Развернутые на основе бронеавтомобилей и гусеничной техники. Причем тяжелые танки и самоходки сюда поставлять было бы перебором, ибо дорого. Требовалось скорректировать НИОКР и родить что-то вроде малого или среднего танка сопровождения для обеспечения устойчивости этих легких войск. Желательно малого танка. И безусловно, держащего основные противотанковые средства противника. Хотя бы до уровня 37–45-мм пушек.
Само собой, все, что можно, нужно унифицировать. Но и не усердствовать особенно, потому что легкая танковая платформа, разрабатываемая ранее в Союзе, подходила для этого достаточно условно. Слишком слабо защищенная. А повышение ее стойкости без изменения конфигурации корпуса выливалось бы в излишне большой вес. И, как следствие, цену. Ведь в эти годы стоимость танка складывалась примерно на 70 % из стоимости его корпуса, а тот в известной степени диктовался его массой. Броневая сталь стоила денег и немалых.
– Опять перемены? – усмехнулся Свечин после совещания.
– Не опять, а снова, – вернув улыбку, ответил Фрунзе.
– Не боитесь, что эти все метания приведут к трагедии?
– А разве тут есть метания? Генеральная линия на войска постоянной готовности сохранилась, лишь дополнилась. Изменения касаются только второстепенных структур. Да и там больше нужно навести в них порядок и придать им какой-то смысл. Ну, кроме формальной обязанности. По сути, территориальные части и выступали в роли народной милиции в этой войне.
– Так да не так. Территориальные части по сути своей – иные войска. И статус другой имели. И задачи. И способы дислокации да комплектования. Про мотивацию я и не говорю.
– Думаете, что народная милиция – плохая задумка?
– Почему же? Идея необычна и не лишена смысла. Но люди пойдут в нее ради выгоды. И в случае серьезной войны вряд ли будут заинтересованы крепко драться.
– А простые обыватели, не имеющие подготовки, будут заинтересованы?
– Они сражаются за свой дом.
– А если их дом далеко? – повел бровью Фрунзе. – Условностей в таких делах много.
– Да, но эти милиционеры будут по сути своей сражаться за деньги. Наемники. Как и войска постоянной готовности.
– А что вам не нравится в этом?
– Ну как же? Наемники славятся своей ненадежностью. Нет денег – нет наемника.
– Во-первых, Александр Андреевич, наемник – это любой человек, который получает за свой труд плату, то есть трудится по найму. Во-вторых, вы знаете другой разумный способ комплектации войска? Землю им за службу давать хотите? Или, может, в рекруты забривать? Или вы думаете, что человек будет крепко служить за спасибо? Единицы – может быть. Для остальных же любовь к Родине должна быть взаимной. Ибо если Родина тебя не любит, то твоя к ней любовь отдает каким-то мазохизмом. Не так ли?
– Умеете вы все перекрутить… – фыркнул недовольный Свечин.
– А что не так? В свое время Самуэль Джонсон сказал, что патриотизм – последнее прибежище негодяя. Но не в том смысле, что патриотизм – это что-то плохое. Нет. Это очень доброе и светлое чувство. Просто нам, как чиновникам и руководителям государства, очень важно не оказаться мерзавцами, которые спекулируют на нем ради своих грязных делишек. Как это сделать? Не секрет. Приветствовать патриотизм граждан. И отвечать на него встречным добрым чувством… и делом. Прежде всего делом, ибо какое же чувство без дела? Правильно – пустяшное, то есть делать так, чтобы любовь к Родине стала обоюдной. Думаю, что вы понимаете: заставлять людей драться и рисковать своей жизнью за спасибо вряд ли будет этой самой взаимной любовью. Ведь мы живем в материальном мире. И у мужчины есть семья и финансовые обязательства перед ней. Посему весьма паскудно оставлять семью такого честного защитника без средств к существованию, пока он отдает долг Родине. Ну или держать в черном теле, покуда этот мужчина готовится защищать свое Отечество.
– Вы, полагаю, меня не поняли совершенно, – покачал головой визави.
– Отчего же? Понял. Просто у нас в среде чиновников, в том числе военных, есть странная болезнь со времен царя Гороха – испытывать патологический страх перед платой за труд. Прикрываясь разной степени возвышенности тезисами. Но я думаю, что любой труд должен быть оплачен. Тем более такой рисковый. Не так ли?
Свечин лишь усмехнулся.
Скосился на Триандафилова. Тот пожал плечами и развел руками, дескать: «А что я?».
– Хорошо. Пусть так. Я с вами не согласен, но у меня нет аргументов. Нужно подумать. Внутреннее чутье мне говорит о том, что такой подход неправильный. И я не могу от него просто так отмахнуться.
– Тогда, как появятся аргументы, вернемся к обсуждению данного вопроса. А пока пообещайте мне, что не станете саботировать работу наркомата.
– Боже упаси! Михаил Васильевич, как вы подумать об этом могли? Обещаю, конечно. В конце концов, вы начальник, и вы ставите передо мной задачи. И то, как их нужно делать. В таких же делах это вообще пустое. Потому как вы правы – царская призывная армия себя не оправдала. При всей нашей ностальгии она была посмешищем. А другой альтернативы я предложить не могу. И, признаться, не хочу.
– А вот это очень зря. Я не тиран и не диктатор. Мне главное в этом деле – укрепление нашей обороны. Так что, если придумаете что-то интересное, обязательно предлагайте. Реализуем или нет – вопрос. Но из таких идей и складывается будущее. Мы ведь не хотим, как иные генералы, готовиться к прошедшей войне?
– Очевидно, нет, – расплылся в улыбке Свечин.
Остальные присутствующие тоже отозвались эмоционально. Эту присказку Фрунзе часто говорил. Наверное, слишком часто, из-за чего она уже жужжала в головах подчиненных, заставляя думать не о прошлом и настоящем, но и о будущем…
Глава 4
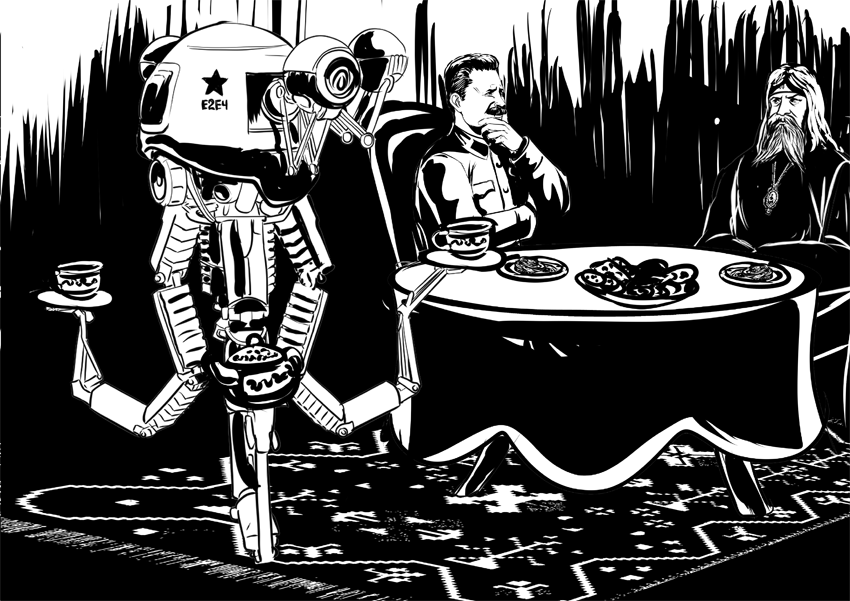
1928, ноябрь, 19. Москва
– Добрый день, – поздоровался Фрунзе, встречая своего гостя. – Проходите, проходите. Рад вас видеть.
Патриарх Петр прошел в прихожую. И, раздевшись, проследовал за хозяином жилища в комнату. К столу с чаем.
– Признаться, я сильно раздумывал, принимать ваше приглашение или нет, – произнес он, присев на стул.
– Понимаю, – улыбнулся нарком. – Но я рад, что вы отозвались.
– Почему вы пожелали встретиться вот так? Почему не в рабочем кабинете?
– А почему нет?
– Это выглядит странно. Мы ведь с вами не дружим и даже не приятельствуем.
– А зря. Добрые личные отношения в нашем деле только на пользу пойдут.
– Думаете?
– Уверен. Попробуйте вот это печенье. Супруга испекла. Что? Не нравится? М-да. Тогда я тоже не буду пробовать. Шучу, – улыбнулся Фрунзе и охотно откусил печенье.
– Шуточки у вас…
– Вы знаете, что произошло в Германии?
– Могу только догадываться. Безумие какое-то. Временная оккупация части германских земель под надуманными предлогами.
– Вы полагаете, что временная? – скептично хмыкнул нарком.
– Так полагают мои знакомые, проживающие в тех землях.
– Наивные чукотские валенки… – пожав плечами, прокомментировал это заявление Михаил Васильевич. – В сложившихся условиях сближение России, ох, простите, Советского Союза и Германии стало неизбежным. И грозит в горизонте десяти-двадцати лет появлением непробиваемого, просто ультимативного военно-политического и экономического объединения. Чего ни англичане, ни французы допустить не могут, из-за чего и устроили украинский мятеж вкупе с польским вторжением. Когда же стало ясно, что их задумка провалилась, – пошли ва-банк.
– На оккупацию Германии?
– На раздел. И заняли ее земли западнее Эльбы. Насколько мне известно, там в ближайший год будут создано два государства: Ганновер и Бавария, которые станут протекторатами Великобритании и Франции соответственно.
– А почему они пошли только до Эльбы? Почему они не стали оккупировать всю Германию?
– Потому что Райхсвер перешел в полном составе на восток. Ну и вмешались мы. Западный корпус РККА переброшен к Эльбе и сейчас срочно оснащается тяжелыми вооружениями. А по закрытым дипломатическим каналам мы дали понять: еще шаг восточнее – и война. Причем сами немцы в этой войне выступят на нашей стороне. Так что в сжатые сроки мы получим обстрелянных добровольцев с опытом Мировой войны на десятки дивизий. Это в дополнение к нашим силам. А легкие вооружения мы уже сейчас делаем в довольно неплохом объеме. Достаточном для того, чтобы в горизонте полгода-год развернуть очень внушительную группировку по Эльбе и перейти к полномасштабному наступлению.
– Ясно… – чуть помедлив, обдумывая слова, сказал Петр Полянский. – Бедные немцы. Если все так, как вы говорите, то их державу разорвут на три куска. Уже разорвали.
– А еще есть Швейцария и Австрия. Они тоже населены немцами.
– Да-да, безусловно. Но для чего вы мне это говорите?
– Что вы знаете о протестантах?
– Опять какой-то подвох?
– Чем протестанты отличаются от христиан и мусульман?
– От христиан? Они ведь тоже христиане.
– Вы правы, это вопрос с подвохом, – прищурился Фрунзе.
– Тогда не ходите вокруг да около.
– Так сложилось, что века с XVI наше отечество предпочитало договариваться с протестантами, оппонируя католикам. Что раз за разом заканчивалось для нас довольно плохо. Не знаете почему?
– Я весь внимание.
– По делам их узнаете их. Так ведь?
– Так.
– А кто у нас отец лжи?
– К чему вы клоните?
– В протестантской этике есть один фундаментальный момент, который отличает их и от христиан, и от мусульман, и от иудеев. А именно разрыв между делами и спасением. Добрые дела для них не являются важным компонентом спасения души. Достаточно веры. Иными словами, творить ты можешь все что угодно, главное – регулярно ходить в церковь и верить. Но, согласитесь, это крайне странно. Ведь если ты веришь в Христа и держишься его концепции Нагорной проповеди, то вряд ли будешь открыто и публично поощрять что-то, что ей принципиально противоречит. Тому же золотому правилу[15].
– Православные и католики тоже творят злые дела.
– Так и есть. Но одно дело, как ты делаешь гадость, прекрасно понимая, что это гадость и после смерти тебе придется за это все отвечать. И совсем другое – когда ты творишь подобные вещи, не считая это чем-то плохим. Масштаб, массовость и обыденность зла принципиально иная.
– В теории.
– И на практике тоже. Что мы знаем о протестантах? Они отличились в самой безумной охоте на ведьм[16]. В вырезании коренного населения целого континента[17]. В создании человеческих ферм для разведения рабов[18]. В самой горькой и отчаянной работорговле. В создании концентрационных лагерей смерти для неугодного населения[19]. И так далее. Нет никаких сомнений – представители любых конфессий творят мерзости и гадости. Но тут какой-то просто уникальный случай. Я не говорю, что все протестанты – плохие люди. Я говорю о том, что этика и мораль их религии очень сильно напоминает скрытый сатанизм. По делам. И по тому, как эти дела совпадают с их словами.
– Я понял вас, – нехотя кивнул патриарх. – И да, что-то в ваших словах есть. Но к чему вы это говорите мне?
– В Германии в целом и в Восточной Германии в частности сейчас тяжелейший кризис. Коллапс, считай. Из-за разрушения экономических связей и логистических цепочек. Люди теряют средства к существованию. И они будут продолжать это делать. Я хотел бы, чтобы Русская православная церковь открыла на территории востока Германии благотворительные миссии. И, кроме непосредственной помощи населению, скажем так, не забывали про прозелитизм.
– Это… неожиданно…
– Для финансирования гуманитарных миссий будет создан специальный фонд, куда деньги станет вносить и советское правительство. Анонимно, разумеется. Официально это станет фондом помощи, собираемой православной общиной Союза. И, как вы понимаете, если деньги пойдут не туда…
– Зачем вам это? – после долгой паузы спросил патриарх, проигнорировав угрозу.
– Мы не можем отдавать восток Германии англичанам или французам. Запад Германии во многом будет поделен по конфессиональному признаку. Протестантский север отойдет Лондону, а католический юг – Франции.
– Я уже понял. Но как же коммунизм?
– Коммунизм выступает пугалом для Запада. Он слишком радикален. Да и в обозримом будущем любые попытки построения коммунизма обречены на провал. Для этого не готовы ни люди, ни средства. Если вы заметили, в рамках Союза мы тоже отходим от него в сторону более умеренной социал-демократии. Социал-демократия же в силу своей умеренности не дает подходящей идеологии. Достаточно яркой, чтобы заместить традиционные религии. Даже в горизонте пары столетий. Так или иначе, нам нужно будет находить компромиссы для взаимовыгодного сожительства с этими самыми традиционными религиями.
– Традиционными религиями? Не только с православием?
– Да. Советский Союз – многонациональная и многоконфессиональная страна. Кроме того, мы считаем, что сотрудничество с соседями выгоднее борьбы с ними. В том числе и с такими, которые уважительно относятся к религии. Например, мы сейчас ведем переговоры с мусульманскими духовными лидерами Ирана…
И дальше Фрунзе рассказал о проекте экономического сотрудничества, который Союз предложил шаху Реза Пехлеви.
В 1927 году Иран вернулся к идее строительства Трансиранской железной дороги от побережья Каспийского моря до Персидского залива. К этому времени в стране уже имелись железные дороги, но короткими участками в разных ее концах и общей протяженностью сильно менее тысячи километров. Причем еще и с разной колеей.
В 1924 году были попытки договориться с американской компанией Ulen. Но не срослось. В 1927 году за дело взялся международный синдикат Syndicat du Chemin du Fer en Perse, состоящий из американской компании Ulen and Company и германского промышленного объединения Konsortium für Bauausführungen in Persien, образованного Philipp Holzmann, Julius Berger и Siemens Bauunion. И вроде бы все пошло…
Но грянул гром.
А именно кризис 1928 года. Сначала долговой кризис фактически парализовал работу американских строителей. Им стало резко не до Ирана, который ко всему прочему еще и платить своевременно не мог. А потом произошла оккупация Западной Германии, и из сделки выпал германский консорциум.
Строительство же дороги оказалось подвешенным в воздухе.
Тут-то Советский Союз и подсуетился.
Он выступил с предложением построить сначала железнодорожную линию от Баку до Тегерана через Решт и Казвин. А потом, во вторую очередь, от Тегерана к Персидскому заливу и, если потребуется, в другие регионы Ирана.
Реза Пехлеви в свое время утвердил закон, что финансирование строительства железной дороги возможно только из государственной казны. Дабы не влезать в международные кредиты, которых умудрились набрать его предшественники. Денег же у Ирана на эту роскошь не имелось. Во всяком случае, в моменте и в полном объеме. Союз предлагал ему создать совместное акционерное общество «Иранские железные дороги». Деньги и ресурсы на строительство должны будут поступать из Союза. Иран же потихоньку стал бы выкупать акции, переводя это акционерное общество в свою государственную собственность.
И никаких кредитных процентов.
Фактически форма оплаты в рассрочку. С нюансами, но не принципиальными.
В целом выгодное предложение. Особенно учитывая сложное положение Ирана. Но у Союза были свои условия. Тут и так называемая «русская колея», и закупка всего подвижного состава в Союзе, и запрет владения как прямо, так и через посредников акциями «Иранских железных дорог» гражданами каких-либо государств, кроме как Советского Союза и Ирана, из-за чего шах медлил. Видя в этом проекте стремление усилить влияние северного соседа у него в державе.
Ключом его политической программы было стремление к максимальному суверенитету Ирана. А подобные проекты ставили бы его страну в вынужденную экономическую зависимость от Союза. Просто в силу удобства транспортных коммуникаций.
Да, торговый оборот с северным соседом у Ирана увеличивался. Да, Союз уже не выступал как богоборческое государство и умудрился как-то примириться с духовенством, которое теперь не осуждало сотрудничество с ним. Но это-то и пугало Реза Пехлеви, из-за чего переговоры находились в подвешенном состоянии.
И хочется, и колется, и мама не велит.
Но Фрунзе не отступал.
Потому что видел в этом проекте массу стратегических выгод. Прежде всего, конечно, это увеличение торгового оборота с Ираном. В первую очередь ради приобретения его сельскохозяйственного сырья.
Дальше шел резон в виде прокачки собственной промышленности. В принципе, ее можно было «качать» и у себя. Но платить за этот проект Фрунзе собирался преимущественно трудовыми векселями, то есть, фиатными деньгами для внутреннего обращения. Инвестируя в промышленность Союза «воздух», обеспеченный только его авторитетом. А вот Иран должен был оплачивать рассрочку уже вполне себе натуральными товарами. Так что с точки зрения торгового и экономического эффекта этот проект выглядел очень и очень интересно. Во всяком случае, на стадии первоначальной прокачки обновляемой промышленности. Тем более что он позволял среди прочего вливать сельскохозяйственное сырье в развивающийся Волжско-Камский промышленный регион. Ведь эта железная дорога будет облегчать вывоз товаров к южному побережью Каспийского моря. А оттуда уже кораблями класса «река – море» можно было все дешево развозить по местам переработки.

