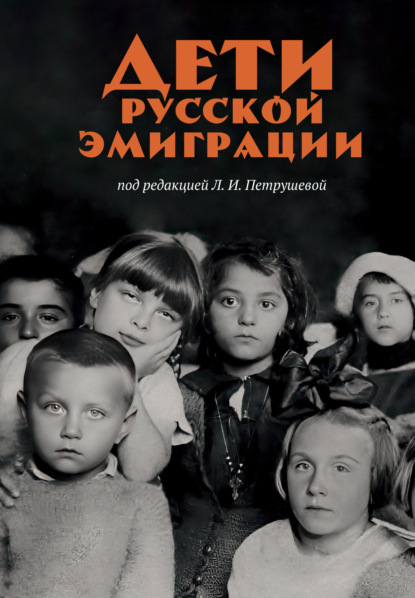
Полная версия:
Дети русской эмиграции
• Ковенская начальная школа № 22, основана в 1920 г., состояла в ведении Министерства просвещения. Число учащихся – 136 человек, из которых 21 – эмигранты. Директор Л. В. Воробьев.
• Ковенская начальная школа № 38, основана в 1922 г., состояла в ведении Министерства просвещения. Число учащихся – 102 человека. Число детей эмигрантов – 28 человек. Директор Н. И. Софронов.
• Кибартская русская начальная школа, состояла в ведении органов местного самоуправления. Число учащихся – 83 человека, из них 23 – эмигранты. Директор Г. Ф. Кудрявцев.
• Жеймельская русская начальная школа, состояла в ведении органов местного самоуправления. Число учащихся – 60 человек. Директор Исидорова.
• Ежеренская русская начальная школа. Число учащихся – 70 человек. Директор Э. Ф. Хохлов.
• Княжестокская русская начальная школа. Число учащихся – 30 человек. Директор А. Е. Таранчук.
• Поневежеская русская начальная школа. Число учащихся – 30 человек. Директор Л. П. Фалеева.
• Абельская русская начальная школа. Число учащихся – 37 человек. Директор Г. Котова.
• Колайнская русская начальная школа. Число учащихся – 30 человек. Директор А. П. Кузнецов.
• Вилкомирская русская начальная школа. Число учащихся – 32 человека. Директор Ф. Адамчик[64].
Большинство западноевропейских стран являлись странами вторичной эмиграции, среди них были крупнейшие центры русской эмиграции – Франция и Германия, а также страны с немногочисленной эмиграцией, такие как Англия, Швейцария, Венгрия, Бельгия, Греция. К тому времени, когда основные потоки беженцев достигли этих стран, русские и иностранные источники финансирования детских учреждений практически иссякли. Их едва хватало на то, чтобы содержать русские школы на Балканах и в лимитрофных государствах. Дети в этой группе стран, как правило посещали местные национальные школы, получая бесплатное начальное образование в государственных школах. РЗГК в этих странах поддерживал в основном среднюю школу, как правило созданную по частной инициативе. Возросшая роль иностранной школы в обучении русских детей объяснялась еще и тем, что надежда на скорое возвращение на Родину отодвигалась на неопределенное время. Все это привело к тому, что даже в Германии и Франции было создано непропорционально малое по отношению к числу беженцев количество русских детских учреждений.
Большой приток русских беженцев в Германию начался в конце 1919 г. Следует принять во внимание, что на территории страны в лагерях находилось большое число военнопленных периода Первой мировой войны, которые не относились к категории беженцев, хотя не все из них после освобождения вернулись на родину. Все это затрудняло подсчет численности выходцев из России. По данным Союза земских и городских деятелей, в Германии в 1921 г. проживало около 300 000 русских беженцев[65]. К 1923 г., когда экономическое положение страны резко ухудшилось, их численность стала сокращаться. По данным РЗГК, которые привел В. В. Руднев в книге «Зарубежная русская школа», к 1924 г. их число составляло не более 150 000[66].
В Германии численность детей до 18 лет, прошедших регистрацию, в 1921 г. составляла 512 человек, из которых 169 человек были детьми дошкольного возраста и 343 человека – школьного. В русских школах обучалось 245 детей[67]. Эта цифра нуждается в уточнении, т. к. в нее не вошло число детей, проживавших в Баварии и Восточной Германии.
К 1929–1930 учебному году в Германии сохранили свою деятельность:
• Гимназия Св. Георга, создана в декабре 1920 г. в Берлине. Ее основателем был пастор И. А. Мазинг. Преподавание велось на русском и немецком языках. Обучение было платным. В 1929–1930 учебном году в гимназии обучалось 96 учащихся. Директор М. Ф. Вахтсмидт.
• Школа при Русской академической группе, создана в начале 1921 г. в Берлине. Обучение совместное. Занятия проводились во второй половине дня в помещении немецкой частной школы. Содержалась на субсидии РЗГК, а также русских и немецких благотворительных организаций. 15 % учащихся вносили плату за обучение, для остальных обучение было бесплатным. Гимназия была восьмиклассным учебным заведением с приготовительным классом и детским садом. К 1930 г. в гимназии обучалось 74 человека[68]. Директор гимназии И. М. Малышева-Штейн.
Кроме того, в начале 1920-х г. для детей русских беженцев была организована прогимназия в лагере «Шейэн», в которой обучалось 53 человека, начальная школа в Александер-Гейли, где обучалось 14 человек, начальная трехклассная школа в лагере для русских беженцев «Альтенау», русский пансион при Балтийской школе, школы грамотности в лагерях для военнопленных. Деятельность этих учебных заведений субсидировал РЗГК через своего уполномоченного в Германии. В тесном контакте с Земско-городским комитетом работал созданный в 1921 г. Комитет помощи русским детям. Комитет возглавляла Л. И. Пален. В Германии РЗГК удалось организовать деятельность адресного стола, в число задач которого входил розыск детей и родителей. Кроме субсидий, необходимых для деятельности русских учебных заведений, РЗГК выдавал стипендии остро нуждающимся русским детям, обучавшимся в немецких средних школах. На организацию помощи русским детям в Германии Земгор тратил 70 000 марок в месяц[69].
Среди всех центров русской эмиграции, возникших в результате расселения беженцев из послеоктябрьской России, Франция занимала особое место. Несмотря на то что эта страна не сделала исключения для наших соотечественников и не сразу открыла для них свои границы, не оправдала их надежд на благоприятные условия для проживания, за Парижем прочно утвердилось название интеллектуальной и культурной столицы Русского Зарубежья. Официальный Париж не имел конкретной политики в отношении русских беженцев. С одной стороны, французское правительство пришло на помощь русским беженцам еще в Константинополе, поддерживало беженцев на территории Франции, оказывало помощь ряду открытых здесь русских учебных заведений, оплачивало труд педагогов по русским предметам во французских лицеях, где обучались дети из России. С другой стороны, правительство рассматривало пребывание русских во Франции как временное, ожидая, когда одни из них смогут натурализоваться, а другие покинут страну. Экономическое развитие Франции стимулировало приток сюда трудовой эмиграции. Привлекая на тяжелые виды труда, французские власти выдавали тысячи виз для въезда, правда вместе с направлением на конкретные места работ. Тем не менее Франция притягивала своими условиями для проживания. Только в 1930 г. был принят «Статус русских эмигрантов во Франции», несколько укрепивший их правовое положение. Многие из русских изгнанников любили эту страну, знали ее культуру и литературу, владели французским языком. Францию ценили за предоставленную возможность сохранять национальную культуру и традиции. Нигде культурная жизнь не была столь интенсивной и богатой, как в Париже. Францию называли Меккой русской эмиграции.
Франция по праву относилась к числу крупнейших центров русской эмиграции, хотя вопрос о численности русских беженцев в этой стране и на сегодняшний день относится к наиболее спорным. Согласно статистике Лиги Наций, во Франции в 1922–1924 гг. их проживало около 400 000 человек[70]. По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. число русских эмигрантов во Франции составляло 65 000 человек[71]. По данным РЗГК, которые В. В. Руднев привел в книге «Зарубежная русская школа», к 1924 г. численность русских беженцев во Франции составляла 200 000 человек[72].
В материалах съезда русских педагогов, состоявшегося в Париже в мае 1929 г., указывалось, что во Франции в этот период проживало 150–200 тыс. выходцев из России, из них число детей – 16–22 тыс. человек, в русской школе обучалось 1500 человек[73].
Во Франции не было создано единого административного органа, ведавшего вопросами создания и финансирования русских школ. Больше других известна Франко-русская комиссия при Институте славяноведения, в составе которой была создана подкомиссия по средней школе.
Как и в других странах русского рассеяния, главная забота о русских детских учреждениях лежала на самих русских эмигрантах. В статье «Наша смена», опубликованной в газете «Последние новости» от 3 марта 1929 г., было подчеркнуто: «Как ни тяжела эмигрантская жизнь, как ни трудно нам “подымать” наше молодое поколение, но мы его не забросили, мы его пытаемся поднять без помощи государства, без опоры на какую-либо власть, только общественной волей, только общественными силами»[74].
Большой вклад в дело оказания помощи русским детям во Франции сделал созданный в Париже Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам, о котором неоднократно упоминалось выше. Помощь со стороны РЗГК носила в большей степени адресный характер и выражалась в выплате стипендий или оплате обучения.
Со второй половины 1920-х гг. финансовое обеспечение русской школы во Франции, как и в других странах Европы, сократилось. Это заставило эмигрантскую общественность много внимания уделять поиску источников получения денежной помощи. С целью привлечения денежных средств на нужды русской эмиграции с 1927 г. во Франции проводились «голодные пятницы». Свое название эта акция получила, по словам митрополита Евлогия, в память о крестных муках Христа, когда он освятил и благословил человеческие стремления облегчить страдания страждущих и голодных. Сбор от проведения первой акции пошел на нужды безработных из числа русских эмигрантов. С 1928 г. сборы поступали на поддержание детских учреждений, созданных в разных городах страны. Так, в результате проведения «голодной пятницы» в 1929 г. сборы были направлены на расширение и поддержание деятельности детского приюта в Монморанси. Для сбора средств были созданы многочисленные пункты, адреса которых указывались в русской эмигрантской прессе. Такими пунктами были редакции газет, русские рестораны, магазины, библиотеки. В городах и сельских населенных пунктах, где русские колонии были немногочисленны, проводился поголовный обход всех членов колонии. Результаты проведения «голодной пятницы» освещались в прессе. Авторами статей были многие известные деятели эмиграции. Среди них митрополит Евлогий, писатель A. M. Ремизов, политический деятель и публицист П. Н. Милюков, бывший артист Мариинского театра А. Д. Александрович и др. В русских газетах публиковались списки многочисленных жертвователей.
Франция была одной из немногих стран, где Земско-городской комитет мог рассчитывать на получение денежных средств, которые можно было собрать из беженских источников. Условия жизни и труда эмигрантов позволяли рассчитывать на то, что большинство имевшихся русских детских заведений могли быть обеспечены материальными средствами, необходимыми для их поддержания. Денежные сборы приносили примерно 250–300 тыс. франков в год[75].
К числу первых русских учебных заведений не только во Франции, но и в Европе относился Морской корпус в Бизерте (Тунис), военно-учебное заведение, созданное для воспитанников Севастопольского морского корпуса и Владивостокских гардемаринских классов. В 1921 г. в нем обучалось 350 детей[76]. Директором Корпуса был вице-адмирал Герасимов. В 1922 г. французское военное командование предписало ликвидировать гардемаринские роты. В результате учебная программа Морского корпуса была приближена к программе русского реального училища. В мае 1925 г. корпус был расформирован.
Русская начальная школа, начавшая свою работу в Бизерте на броненосце «Георгий Победоносец», была закрыта. Часть ее окончивших продолжила свое образование в Русской школе в Париже.
Одной из старейших русских школ среди других эмигрантских учебных заведений была средняя школа в Париже. Школа была учреждена в феврале 1920 г. при российском посольстве по инициативе группы русских педагогов и при содействии российского посла В. А. Маклакова и его сестры М. А. Маклаковой. Первоначально школа состояла при комитете Oeuvre de Guerre, позднее она была передана Обществу помощи образованию детей беженцев из России. Директором школы был назначен бывший директор Московской Медведниковской гимназии В. П. Недачин. Школа имела два отделения – классическое и реальное. В 1920 г. в школе обучалось 30 человек, в 1929–1930 гг. – 182 человека. За десять лет школу окончило около 600 учащихся. Плата за обучение до 1926 г. составляла 750 фр. в младших, 1000 фр. в средних, 1200 фр. в старших классах в год. 75 % учащихся вносили лишь половину платы или были освобождены от нее. Деятельность школы финансировалась многими эмигрантскими организациями. Только парижский Земгор с 1922 по 1929 г. субсидировал на деятельность школы 336 000 фр. Среди тех, кто финансировал школу, было и французское правительство, которое отпускало 25 000 фр. в год. Парижский муниципалитет выделял ежегодно по 3000 фр. В те периоды, когда школа испытывала финансовые трудности, ей на помощь приходили многие представители русской эмиграции. В их числе великая княгиня Мария Павловна, которая внесла 50 000 фр. на ее содержание. Всемирно известная балерина А. П. Павлова устроила благотворительный вечер, сбор от которого дал школе 26 850 фр.[77] В 1927 г. на помощь русской школе пришла Л. П. Детердинг, благодаря которой в 1929 г. школа разместилась в перестроенном особняке на окраине Парижа. Школа стала носить ее имя. Русская школа в Париже существовала до 1961 г.
В состав сети русских учебных заведений, созданных во Франции, также входили:
• Русская школа «Александрино» в г. Ницца, среднее учебное заведение, основано в 1925 г. С 1922 г. существовала как детский приют с курсами начальной школы. Содержалась на средства Попечительского комитета великого князя Андрея Владимировича. Состояла в ведении Русской академической группы в Париже. Обучение было платным. Число учащихся – 40 человек. Директор А. Н. Яхонтов.
• Детский очаг при женской обители «Нечаянная радость» (под Парижем). Среднее учебное заведение, основано в июле 1926 г. по инициативе монахини Евгении. Содержался на средства, выделяемые митрополитом Евлогием. Состоял в его ведении. Число учащихся – 30 человек. Руководила работой очага настоятельница обители монахиня Евгения.
Начальная русская школа во Франции в 1926–1927 учебном году была представлена такими учебными заведениями как:
• Русская церковная школа в Париже, создана в 1921 г. старшей сестрой Парижского сестричества В. В. Неклюдовой. Состояла в ведении митрополита Евлогия и Приходского совета. Число учащихся – 90 человек. Руководила работой школы В. В. Неклюдова. Попечительница великая княгиня Мария Павловна.
• Русская начальная школа в Досине (под Лионом), создана в 1926 г. Число учащихся – 20 человек. Директор Г. И. Яворский.
• Школа-интернат в Марселе, создана в 1923 г. Содержалась на средства РЗГК. Число учащихся – 11 человек. Руководили школой Л. П. Гомеля и Е. С. Чорба.
К числу начальных школ относились также церковно-приходские школы, созданные в 1925–1926 гг. в Шалоте, Больфоре, Ужине, Нильванже, Крезе, Билланкуре.
Кроме того, во Франции были созданы многочисленные курсы по «русским предметам» при французских лицеях и русские отделения при французских учебных заведениях. В 1926–1927 гг. их сеть выглядела следующим образом:
• Русское отделение при женском лицее Мольер в Париже, среднее учебное заведение, основано в 1921 г. по инициативе Русской академической группы во Франции. Содержалось на средства французского правительства. Состояло в ведении Института славяноведения. Число учащихся – 28 человек. Заведующая отделением М. Д. Городцова.
• Курсы при лицее Жансон в Париже, среднее учебное заведение, основано в 1921 г. Находилось в ведении Особой комиссии при Институте славяноведения. Содержалось на средства французского правительства. Число учащихся – 25 человек. Заведующий генерал Н. Н. Головин.
• Курсы при мужском лицее в Ницце. Число учащихся – 28 человек. Заведующий А. В. Ельчанинов.
• Курсы при женском лицее в Ницце. Число учащихся – 19 человек. Заведующая Р. В. Смесова.
• Курсы по подготовке на аттестат зрелости в Париже (вечерние курсы по программе старших классов гимназии), созданы в 1923 г. по инициативе Русского народного университета. Обучение было платным. Число учащихся – 48 человек. Возглавлял курсы проф. Д. М. Одинец.
• Русская экзаменационная комиссия по курсу средней школы в г. Ницце, основана в 1923 г. Русской академической группой в Париже. Содержалась на взносы экзаменовавшихся. В 1926–1927 гг. держали экзамен 43 человека. Председателем комиссии был проф. П. П. Мигулин.
• Русская экзаменационная комиссия в Париже, создана в 1920 г. Содержалась на взносы и плату за экзамены. Возглавлял работу Совет комиссии. В 1926 г. держали экзамены 75 человек. Председатель комиссии В. И. Недачин.
• Русские курсы заочного преподавания в Париже, созданные в 1921 г. по инициативе вмериканского Христианского союза молодых людей. Обучающиеся проходили полный курс гимназии и реального училища. Число учащихся – 500 человек.
К числу учебных заведений относились также:
• Приют для девочек великой княгини Елены Владимировны им. цесаревича Алексея (департамент Сены и Уазы). Число воспитанниц – 20 человек. Руководили работой приюта В. В. Комстодиус и великая княгиня Елена Владимировна.
• Русский детский сад в Париже, создан в 1924 г. РЗГК. Число воспитанников – 39 человек. Заведующая B. C. Краевская-Сергеева.
• Общежитие для мальчиков в Шавиле. Учащиеся получали помощь в подготовке школьных заданий. Содержалось на средства благотворительных организаций и плату за содержание. Число учащихся – 24. Заведующий Н. П. Булюбаш.
• Летняя колония «Русь» в г. Савойя, в которой проводились подготовительные занятия по «русским предметам». Создана в 1920 г. Содержалась на взносы родителей и средства благотворительных организаций. Находилась в ведении П. А. и С. А. Базаровых. Число воспитанников – 25 человек.
• Школьная колония для девочек при РОКК. Число воспитанниц – 36 человек.
• Школьная колония для мальчиков при РОКК. Число воспитанников – 68 человек.
• Курсы «Лекции о России», созданы в г. Париже в 1926 г. при председателе Общества бывших воспитанников Николаевского кавалерийского училища. Возглавлял работу курсов генерал Е. К. Миллер.
• Курсы русского и иностранных языков в г. Антибе, созданные в 1925 г. Содержались на плату за обучение. Число посещавших – 54 человека. Заведующий курсами проф. Е. П. Ковалевский[78].
• Приют-школа семьи Рябушинских в Ариане (близ Ниццы), основан в 1921 г. Заведующий А. Н. Яхонтов. Содержался на средства Рябушинских. Число воспитанников составляло 20 человек.
• Общежитие для детей русских эмигрантов А. П. Павловой (Fondation Anna Pavlova) в Сен-Клу (близ Парижа), основано в 1922 г. Проживало 16 девочек. Содержалось на личные средства А. П. Павловой. Заведующая гр. В. де Герн[79]. В приюте воспитанницы обучались Закону Божьему, остальные предметы изучали в разных учебных заведениях.
• Франко-русский приют в Каннах, основан в 1923 г. по инициативе Франко-русского комитета помощи беженцам на юге Франции. Содержался на пожертвования благотворительных организаций. Состоял в ведении Комитета. 37 воспитанников приюта посещали французские школы, 27 занимались в подготовительных классах приюта. Все воспитанники приюта изучали «русские предметы». Число воспитанников – 64 человека. Директор А. Н. Боборыкина. Попечительница приюта кн. А. Б. Голицына[80].
• Школа-приют Лафайета, основана в 1918 г., с 1922 г. среднее учебное заведение, в котором обучалось 100 детей, из которых 28 – русские эмигранты. Содержалась на средства Франко-англо-американского общества[81].
Для русской молодежи из числа не успевших окончить высшие учебные заведения в России, а также для молодых людей, получивших среднее образование уже в эмиграции, во Франции были открыты Русский народный университет, Франко-русский институт, Русский политехнический институт, Высший технический институт, Коммерческий институт, Тракторная школа, Православный богословский институт, Русская консерватория имени С. В. Рахманинова.
Большая заслуга в создании русских вузов принадлежала Русской академической группе в Париже, председателем которой был проф. А. Н. Анциферов, который к тому же возглавлял Совет русских высших учебных заведений во Франции, а также парижскому Земско-городскому комитету. Открытый в 1921 г. Русский народный университет в 1924 г. перешел в ведение РЗГК. В 1925–1926 гг. на разных курсах университета состояло 1467 слушателей. Как было указано в «Бюллетене Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей» № 59, в 1929 г. число слушателей на курсах по подготовке на аттестат зрелости, созданных при университете, составляло 269 человек[82]. Кроме того, финансовую поддержку Земско-городской комитет оказывал Коммерческому институту, созданному в Париже в 1925 г. Дипломы института были признаны во Франции. Институт имел два курса. Число слушателей в 1929 г. составляло 65 человек[83].
Заслуживают серьезного внимания и самой высокой оценки усилия эмигрантских организаций в создании учебных заведений для русских детей в странах с немногочисленной эмиграцией из России.
В сентябре 1922 г. в городе-государстве Данциге по инициативе группы педагогов была открыта восьмиклассная гимназия, директором которой был Н. К. Штемберг. Гимназия существовала за счет оплаты за обучение. В 1923–1924 учебном году в ней обучалось 85 учеников. 70 % состава учащихся – дети эмигрантов[84]. В 1926 г. гимназия прекратила свою работу.
К числу стран с немногочисленной эмиграцией относилась Венгрия, в которой в 1921 г. пребывало 5000 русских эмигрантов[85]. По инициативе Русского комитета и местного комитета РОКК на средства РЗГК в 1921 г. в Будапеште была открыта русская начальная школа. В 1926–1927 учебном году ее посещало 15 учеников. Директором школы был прот. Г. Ломано[86].
По сведениям Союза земско-городских деятелей, в 1921 г. в Греции проживали 4000 русских беженцев[87]. К 1926 г. их численность несколько снизилась. Число детей составляло 234 человека, из которых 152 были детьми школьного возраста. В русских школах обучалось 70 учеников, в греческих – 39[88].
В марте 1921 г. в Афинах была открыта прогимназия (с 1926 г. гимназия) для детей русских беженцев. Средства на ее содержание выделял РЗГК. В 1921–1922 учебном году Афинскую гимназию посещали 54 ученика, в 1922–1923 гг. – 45, в 1923–1924 гг. – 32, в 1924–1925 гг. – 33, в 1925–1926 гг. – 44, в 1926–1927 гг. – 40, в 1927–1928 гг. – 42, в 1928–1929 гг. – 40[89]. Первым директором прогимназии был протоиерей Сергий (Снегирев), позднее этот пост занимали Е. К. Апостолиди-Констанда, Л. А. Бобошко, И. Х. Володимо, Ф. М. Бурковский, А. Д. Лебедев.
Как и большинство русских учебных заведений, Афинская гимназия испытывала недостаток в денежных средствах. Чтобы пополнить бюджет, руководство гимназии ежегодно проводило в помещении клуба «Филадельфия» новогодние елки, сборы от которых помогали пополнить школьный бюджет. Тем не менее в 1930–1931 учебном году гимназия оказалась в сложнейшей ситуации, когда парижский Земгор практически прекратил субсидирование школы из-за отсутствия денежных поступлений от гуманитарных организаций в США в связи с начавшимся экономическим кризисом. Дирекция гимназии в поисках новых источников финансирования обращалась за помощью в различные международные организации. Международное бюро им. Ф. Нансена в ответ на просьбу о помощи в письме от 22 октября 1931 г. сообщило, что оно может выделить только 46 500 драхм на содержание «послеобеденных курсов русских предметов»[90]. Тем не менее гимназии удалось сохранить свою деятельность до 1935 г.
Кроме Афинской гимназии в Греции в марте 1921 г. открылась русская гимназия в Салониках. Салоникская гимназия являлась восьмиклассным средним учебным заведением, находившимся в ведении РЗГК и содержавшимся на его субсидии. В 1926–1927 учебном году в ней обучалось 22 ученика. Первым директором был С. В. Зубарев, впоследствии работой школы руководили Е. Г. Пащенко, священник И. И. Голоколосов[91]. Гимназия существовала до 1930 г.
В Швейцарии, где число эмигрантов из России в 1921 г. составляло 4000 человек[92], в 1924 г. по инициативе протоиерея Женевской церкви С. Орлова была создана Русская школа в Женеве. Школа работала по типу воскресных школ. Ее посещали дети в свободное от занятий в швейцарских школах время и изучали «русские предметы». Содержалась на средства Школьного комитета. По сведениям Педагогического бюро, в 1927 году школу посещали 27 учеников[93].
В Бельгии было создано три русских детских учреждения, которые посещали 245 русских детей. Около 300 детей посещали бельгийские школы. В Бельгии были открыты приют и школа в Жодуане, первые воспитанники которого были переведены в 1922 г. из Польши; пансион и школа в Льеже, интернат в Намюре, воспитанники которого были переведены из Константинополя[94].



