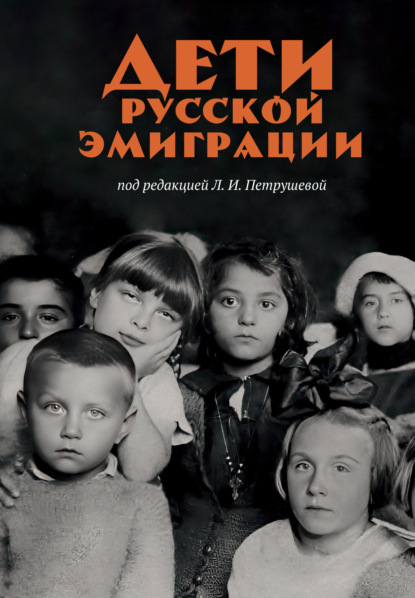
Полная версия:
Дети русской эмиграции
К концу 1920-х гг., когда начался мировой экономический кризис, деятельность Объединения русских учительских организаций, как и деятельность учительских организаций в разных странах, по объективным причинам постепенно прекратилась.
К учителю-эмигранту жизнь предъявила много суровых требований. Перегруженность педагогической работой в школе отягчалась борьбой за сносные условия жизни. Тем не менее русский учитель в новых труднейших условиях жизни не только приспособился к ним, но и оказался достойным преемником лучших традиций российской школы. Русские педагоги-эмигранты с честью выполнили возложенную на себя миссию.
«Здесь я могу окончить образование, учиться и жить спокойно и, не боясь, говорить правду. Но детство, дорогое детство прошло и не вернется никогда»
(из сочинения ученицы Шуменской гимназии)Для преобладающего числа детей, севших за парту в русской беженской школе, начался новый этап в их жизни. Многое из того, что пришлось пережить, осталось в прошлом, школьные учителя и воспитатели стали значить больше, чем в обычной жизни. Не менее важное значение национальная школа имела для русских детей и в более поздний период, когда надежд на возвращение на Родину не осталось. Она не только позволила им получить образование, но и помогла определиться и выбрать профессию. Большинство школ было реформировано, их программы обучения стали включать в себя новые предметы, преподававшиеся в учебных заведениях Европы, что позволило в будущем рассчитывать на получение высшего образования. Это стало возможным благодаря огромному подвижническому труду русского педагога и общественного деятеля, содействие которым оказали и международные организации, без помощи которых решить эту задачу было невозможно.
Исторические источники, имеющиеся в распоряжении современных историков, дают различные показатели численности детей русских беженцев, в том числе детей школьного возраста, поскольку их регистрация не проводилась. Трудности в собирании подобной информации носили и объективный характер. Как уже упоминалось выше, русские беженские школы возникали стихийно без конкретного плана. Поэтому те данные, которые удавалось получить, достаточно быстро устаревали. К середине 1920-х гг. экономическое состояние большинства европейских стран стабилизировалось, уменьшилось стихийное передвижение беженских масс из одной страны в другую. Появлялись объективные условия для укрепления позиций уже существовавших эмигрантских школ. Тем не менее статистические сведения о численности детей и в этот период, собранные организациями, занимавшимися школьным строительством, также нуждаются в уточнении.
По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. число русских детей в Европе составляло 19 526 человек[16] (по данным Американского Красного Креста – 20 500 человек: на Балканах – 10 847, в Финляндии – 6096, Эстонии – 2420, Африке – 1128).[17] В. В. Руднев в книге «Зарубежная русская школа. 1920–1924» (Париж, 1924) привел как более близкие к истине следующие данные: численность детей школьного возраста, нуждавшихся в национальной школе, составляла 18 000–20 000, русская беженская школьная сеть в Европе к 1 января 1924 г. включала в себя 43 средних учебных заведения и 47 низших, в которых обучалось 8835 детей (6937 – в средней, 1898 – в низшей, в интернате содержалось 4380 детей).[18]
По сведениям РЗГК, к началу 1930 г. в европейских странах продолжали свою деятельность 118 учреждений, созданных для детей русских эмигрантов, которые посещали 7673 человека: дошкольных учреждений – 29 (число детей в них 820 человек), начальных школ и приютов – 52 (число детей в них 1452 человека), средних школ 37 (число детей в них 5401 человек).[19]
Русские учебные заведения за рубежом по своему происхождению делились на две основные группы. Одну из них составляли беженские школы, созданные в странах, где расселились беженцы из России, другую группу составляли бывшие «имперские школы», сохранившиеся на территориях государств, отделившихся от России (Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Бессарабия). Эти школы посещали дети коренного русского населения и дети эмигрантов.
Анализируя положение и перспективы развития беженской школы в Европе, 2-й съезд педагогических организаций отметил несоответствие между числом русских эмигрантов и числом детей, посещавших русскую школу в перечисленных выше условных группах. В славянских государствах с общим числом беженцев в 110 000 человек было открыто 42 школы, которые посещали 5510 учащихся, в лимитрофных государствах с общим числом беженцев 220 000 человек открыта 31 школа, которую посещали 2850 учащихся. В то же время в государствах Центральной и Западной Европы с общим числом беженцев 420 000 человек открыты 17 школ с числом учащихся 620 человек.[20]
Примерно таким же это соотношение оставалось и в конце 1920-х гг., что подтверждают данные РЗГК. К 1928–1929 учебному году в западноевропейских государствах осуществляло свою деятельность 120 школьных и дошкольных учреждений, в которых обучалось 7500 детей. В то же время в славянских странах, где численность эмигрантов из России составляла 75 000 человек, в русских национальных школах обучалось около 4900 детей, в местных – около 3200. В западноевропейских странах число российских эмигрантов составляло 325 000 человек. При этом в русских школьных заведениях обучалось 2600 детей, в местных – 650.[21]
Вопрос финансирования школьных учреждений являлся одним из самых важных. Поиск стабильного финансирования всегда оставался в центре внимания. Основные денежные средства на помощь русским беженцам в основном находились в распоряжении Парижского земско-городского комитета. Поэтому преобладающее большинство детских учреждений, созданных в Европе, были организационно связаны с этим комитетом. Средства на их содержание РЗГК получал из так называемых «русских источников» (от Совета послов), от правительств славянских стран, от иностранных гуманитарных организаций. Поскольку размеры денежной помощи, которую удавалось собрать, постоянно сокращались, РЗГК главное внимание сосредоточил на финансировании культурно-просветительских учреждений и, главным образом, русских школ с целью сохранения уже созданной в Европе их достаточно широкой сети. Кроме школ финансировалась лишь деятельность Бюро труда, некоторых юридических и медицинских учреждений в ряде стран.
На 2-м съезде педагогических организаций в докладе В. В. Руднева «Финансовое положение и перспективы беженской школы» отмечалось, что общий бюджет русских школьных учреждений составлял в 1924 г. 16 500 000 франков. Из них 3 500 000 фр. (21 %) поступило из русских источников, 13 000 000 фр. (79 %) – из иностранных источников. Бюджеты на поддержание русской школы в различных странах строились по-разному. Так, в славянских государствах финансовая поддержка составляла 97 % от общего числа поступивших из иностранных источников средств и распределялась следующим образом: 6 500 000 фр. (50 %) – Югославия, 5 000 000 фр. (39 %) – Чехословакия, 10 000 фр. (8 %) – Болгария[22].
Первой приняла огромную волну беженцев с юга России Турция. По сведениям Союза земств и городов, в 1921 г. численность русских беженцев составляла 90 000 человек[23], из них 2852 ребенка[24]. Как известно, Галлиполийский период в истории беженства длился всего около года. От огромной волны русских к 1924 г. на берегах Босфора осталось около 10 000 человек[25]. По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, к 1926 г. в Стамбуле осталось около 5000 русских[26]. Политические и хозяйственные условия не позволяли думать о прочном оседании в Турции русского беженства. Условия жизни в этой стране были чрезвычайно трудными. Отсутствие жилья, безработица, голод, эпидемии сопутствовали пребыванию здесь русских изгнанников. Положение усугублялось еще и тем, что жить им пришлось в совершенно чужой и непривычной социокультурной среде без знания языка и обычаев народа этой страны. К тому же в Турции в этот период была очень сложная внутриполитическая обстановка, связанная с национально-освободительным движением, которое возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк. В 1921–1922 гг. подразделения Русской армии были эвакуированы в Болгарию и Югославию. Исходя из создавшейся ситуации, члены ВСГ, много сделавшие для создания русских школ в Турции, поставили перед собой неотложную задачу перевести их в Чехословакию, Болгарию, Сербию и другие европейские страны.
В 1920 г. несколько русских школ были открыты на острове Халки, на острове Лемнос, в беженских лагерях «Селимье» и «Тузла». В июне 1920 г. в Константинополе была открыта Крестовоздвиженская гимназия, финансовую поддержку которой оказывал американский проф. Уиттимор. В марте 1922 г. гимназия была переведена в Болгарию (в Пещеру). В декабре 1920 г. в Константинополе была открыта гимназия ВСГ с интернатом, попечительский совет которой возглавила А. В. Жекулина. Работа гимназии финансировалась Земгором. Гуманитарную помощь оказывали проф. Уиттимор, Американский Красный Крест, Международный Красный Крест и др. А. В. Жекулиной, которая использовала личное знакомство с заместителем министра иностранных дел Чехословакии В. Гирсой, в 1921 г. удалось перевести учащихся Константинопольской гимназии в полном составе, а также преподавателей и членов их семей из Турции в Чехословакию, в Моравскую Тржебову. На базе первой Константинопольской гимназии была создана вторая. Эта Константинопольская гимназия была переведена в Болгарию и дала начало Шуменской и Долне-Ореховицкой гимназиям.
В феврале 1921 г. в Галлиполи командованием Русской армии по инициативе баронессы О. М. Врангель для детей, находившихся в лагере, была учреждена гимназия, среднее учебное заведение, в котором обучался 191 ученик. Все преподаватели избирались Педагогическим советом и утверждались командиром 1-го армейского корпуса. В июне 1921 г. гимназия стала носить имя барона П. Н. Врангеля. Условия работы педагогов были чрезвычайно трудными – гимназия разместилась в палатке питательного пункта, организованного Американским Красным Крестом, ученики всех классов занимались одновременно, им не хватало столов и скамеек, учебников и тетрадей. Финансирование гимназии осуществлял ВСГ. При гимназии был создан интернат. С ликвидацией галлиполийского лагеря часть учащихся гимназии была переведена в Болгарию, другая часть вместе с учениками Константинопольской гимназии – в Чехословакию.
В Константинополе остались две содержавшиеся английским благотворительным обществом The British Relief and Reconstruction Fund средние школы. Одна из них – для русских мальчиков, была открыта в Эренкее (до 1924 г. в Буюк-Дере). В ней обучалось около 200 учеников. Другая – для русских девочек, открыта на острове Проти. В ней обучалось 60 учеников[27].
Созданию широкой сети школьных заведений для детей русской эмиграции способствовала политика правительств Чехословакии, Югославии и Болгарии.
Как уже не раз упоминалось, особое место среди этих стран занимала Чехословацкая Республика. По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. в Чехословакии находилось 5000 русских беженцев[28]. По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, к 1925 г. число беженцев составляло около 30 000 человек[29]. Правительство страны не только проводило в жизнь собственную специальную программу в отношении русской эмиграции, но и с 1923 по 1929 г. перечисляло средства на содержание русских учебных заведений в других странах. В Прагу приехали тысячи русских детей и молодых людей из разных стран для обучения в средних и высших учебных заведениях, которое было бесплатным. Прага стала центром по подготовке кадров для России и получила название «русский Оксфорд». Тем не менее следует принять во внимание, что ЧСР также считала пребывание русских беженцев в стране временным. Об этом свидетельствует и принятый в 1928 г. закон об охране национального рынка труда, который не позволял эмигрантам, прибывшим после 1 мая 1923 г., рассчитывать на трудоустройство в этой стране.
Правительство Чехословакии полностью содержало две русские средние восьмиклассные школы:
• Русская гимназия в Моравской Тржебове (с 1925 г. Русская реформированная реальная гимназия), в 1922 г. была переведена из Турции. В 1922 г. в гимназии обучалось более 500 русских детей, в 1929–1930 учебном году – 419. Первым директором гимназии был А. П. Петров. Впоследствии ее возглавили А. Е. Когосьянц, В. Н. Светозаров. Гимназия находилась в ведении Министерства народного просвещения Чехословакии.
• Русская гимназия в Праге (Русская реформированная реальная гимназия Земгора, с 1933 г. Русская реальная гимназия), создана в сентябре 1922 г. по инициативе Объединения российских земских и городских деятелей в Чехословакии. Первоначально ее посещало 60 учеников. В 1924 г. в ней обучалось 230 русских детей, в 1929–1930 учебном году – 296[30]. С 1928 г. гимназия находилась в ведении Министерства народного просвещения. Директорами гимназии были Ф. С. Сушков, Я. И. Святош, В. А. Ригана.
В 1935 г. Пражская гимназия была объединена с гимназией в Моравской Тржебове. Директором гимназии был назначен В. Н. Светозаров, впоследствии этот пост занял П. Н. Савицкий.
Русские учебные заведения в Чехословакии имели права соответствующих чешских государственных школ. Учителя русских школ состояли на государственной службе. Дети русских эмигрантов имели возможность получения высшего образования как в чешских высших учебных заведениях, так и в созданных здесь русских – Русском педагогическом институте имени Яна Амоса Коменского, который готовил кадры для русских учебных заведений, Русском юридическом факультете, Русском институте сельскохозяйственной кооперации, Русском народном университете, Высшем училище техников путей сообщения.
Большую роль в судьбе русской эмиграции и поддержке русских школьных заведений сыграла Югославия. Король Александр I Карагеоргиевич и политические и общественные круги оказывали содействие российским эмигрантам. Первые беженцы появились здесь еще в 1919 г. Кроме гражданской эмиграции в страну в 1923 г. были переведены части Русской армии генерала П. Н. Врангеля. По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. в стране находилось 35 000 русских беженцев[31], из которых 7000 – дети[32]. Численность русских беженцев в 1925 г. составляла 38 000 человек[33].
Югославия занимала первое место среди всех европейских стран по числу обучавшихся и содержавшихся за счет правительства детей русских беженцев. По данным Державной комиссии по делам русских беженцев, к 1924 г. здесь проживало 5317 русских детей, из них 4025 были детьми школьного возраста, т. е. примерно половина от общего числа детей, обучающихся в русской школе в Европе[34].
За счет правительства содержалось большинство русских школьных учебных заведений, в том числе эвакуированные из России три кадетских корпуса (Крымский, Донской, Русский) и два девичьих института (Харьковский и Донской Мариинский). Часть детских учреждений содержалась на средства РЗГК. Эти учреждения находились в ведении уполномоченного Всероссийского союза городов (ВСГ). Ряд учебных заведений субсидировался Державной комиссией по делам русских беженцев и РЗГК.
Много внимания со стороны Российского земско-городского комитета помощи российским гражданам за границей (РЗГК), осуществлявшего свою деятельность совместно с Временным главным комитетом Союза городов, потребовали дети, проживавшие в небольших русских колониях, разбросанных в десятках населенных пунктов. Для этих детей были созданы несколько своеобразные детские учреждения – «детские дома» (для детей младшего возраста по типу детского сада с начальными формами обучения), а также «школьные группы» (несколько классов среднего учебного заведения – в зависимости от числа учащихся и их возраста). Русские школы имели статус государственных.
К 1929 г. в Югославии сеть русских школьных учреждений выглядела следующим образом:
• Русский кадетский корпус в г. Белая Церковь (с интернатом), вывезен из России в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Находился в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 35 человек. Директор генерал Б. В. Адамович.
• Русский Донской кадетский корпус в г. Горажда (с интернатом), вывезен из России в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Находился в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 32 человека. Директор генерал Е. В. Перет.
• Крымский кадетский корпус в г. Белая Церковь (с интернатом), вывезен из России в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Находился в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 382 человека. Директор генерал М. Н. Промтов.
• Русско-сербская гимназия в Белграде, создана в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Находилась в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 32 человека. При гимназии создан интернат. Первый директор проф. В. Д. Плетнев, затем проф. И. М. Малинин.
• Харьковский девичий институт в г. Нови-Бечее (с интернатом), вывезен из России в 1920 г. Находился в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 31 человек. Начальница М. А. Неклюдова.
• Мариинский Донской институт в г. Белая Церковь (с интернатом), вывезен из России в 1920 г. Состоял в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 29 человек. Начальница Н. В. Духонина.
• Русско-сербская девичья гимназия в г. Велика-Кикинда (с интернатом), создана в 1921 г., восьмиклассное учебное заведение. Находилась в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 29 человек. Начальница Е. А. Абациева.
• Белградская женская гимназия ВСГ, создана в 1920 г., восьмиклассное учебное заведение. Число учащихся – 31 человек. Начальница С. И. Леднева.
• Поновическая гимназия в г. Храстовце, создана в 1922 г., семиклассное учебное заведение. Находилась в ведении ВСГ. Число учащихся – 19 человек. Директор М. А. Павловский.
• Реальное училище в г. Нови-Сад, создано в 1921 г. по инициативе ВСГ и РЗГК, восьмиклассное учебное заведение. Число учащихся – 113 человек. Начальница В. Ф. Шкинская.
• Земунское реальное училище, основано в 1921 г. по инициативе ВСГ, семиклассное учебное заведение. Находилось в ведении Державной комиссии. Число учащихся – 62 человека. Директор В. П. Малинина.
• Загребское реальное училище, основано в 1922 г. по инициативе ВСГ, семиклассное учебное заведение. Содержалось на средства Державной комиссии, находилось в ее ведении. Число учащихся – 39 человек. Директор А. С. Лавров[35].
Кроме того, в различных городах страны при Державной комиссии были созданы 14 детских домов, в которых находилось на воспитании 650 русских детей[36].
В 1929 г. была проведена реорганизация трех кадетских корпусов, на базе которых были созданы I Русский великого князя Константина Константиновича кадетский корпус и II Русский императора Александра III Донской кадетский корпус.
Болгария, также сыгравшая важную роль в судьбе послереволюционной эмиграции из России, была одним из центров размещения русских учебных заведений. По данным Союза земских и городских деятелей, в 1921 г. число русских эмигрантов составляло 9000 человек[37]. К 1923 г. оно возросло и достигло 34 000 человек[38]. По данным Верховного комиссариата по делам беженцев, к 1925 г. число беженцев составляло 28 340 человек.[39]
Первые русские школы были предназначены для детей беженцев, прибывших в Болгарию в начале 1920-х гг. из Одессы, Новороссийска, Крыма. Вскоре сюда были переведены русские школы из Турции и Африки. Кроме того, в Болгарии имелись условия для создания еще целого ряда средних и начальных учебных заведений и специальных курсов. Их созданием и поддержкой занимались представители Земско-городского комитета, Всероссийского союза городов и учрежденного в феврале 1920 г. Русско-болгарского культурно-благотворительного комитета, Центрального комитета по устройству русских детей в Болгарии.
Благодаря настойчивым рекомендациям Лиги Наций, куда Болгария первой из побежденных стран вступила уже в конце 1920 г., правительство А. Стамболийского приняло на территории страны не только русских гражданских беженцев, но и части Русской армии генерала П. Н. Врангеля. Как и другие страны, принявшие у себя беженцев, Болгария должна была взять на себя часть расходов на их содержание, которые засчитывались в качестве взносов. Материальную помощь русским беженцам следовало рассматривать не только как часть обязательств перед Лигой Наций, но и как способ выплаты болгарского долга старой России. Поэтому не было ничего удивительного в том, что «русский вопрос» являлся актуальным в политике Болгарии на протяжении всего межвоенного периода.
Строго выполняя указания Верховного комиссариата по делам беженцев, кабинет А. Стамболийского все же рассматривал присутствие русских эмигрантов на территории Болгарии как временное. Стремясь в международной политике нормализовать отношения с Советской Россией, осенью 1921 г. болгарское правительство намеревалось принять у себя детей из Советской России, где свирепствовал сильнейший голод. Однако их приезд не состоялся. Вскоре в результате переговоров с представителями Лиги Наций в Болгарию должны были приехать около 5000 русских детей из Константинополя, Египта, положение которых было также очень сложным. Но, как уже упоминалось, в страну были переведены учащиеся Галлиполийской гимназии имени генерала П. Н. Врангеля, Крестовоздвиженской гимназии В. В. Нератовой, старшие классы Донского кадетского корпуса, вывезенного из Измаилии. Всего 593 ребенка[40]. Для учащихся переведенных школ правительством Болгарии на бесплатной основе были выделены помещения. Шуменская гимназия вместе с интернатом разместилась в помещении бывшей дивизионной больницы. Пловдивской гимназии Главного командования Русской армии были предоставлены артиллерийские казармы. В конце сентября 1922 г. эта гимназия была переведена в г. Горно-Паничерево, где ей были отведены барачные постройки, поскольку здание казарм потребовалось на нужды болгарского правительства. Крестовоздвиженская гимназия с интернатом разместилась в двухэтажном здании бывшей казармы.
В конце 1921 – начале 1922 г. во внутренней и внешней политике коалиционного правительства А. Стамболийского стали очевидными признаки политического сближения с Советской Россией, что серьезно осложнило положение военной эмиграции. В адрес врангелевских частей были выдвинуты обвинения в организации заговора с целью свержения правительства. Из страны были высланы более 50 русских офицеров, из которых большинство были генералами. Отношения болгарских властей и русских беженцев стали настолько напряженными, что была закрыта российская дипломатическая миссия. Такое отношение сказалось и на положении русских школьных учреждений. Были проведены обыски в ряде русских школ, в частности в Шуменской гимназии. Обыску подверглись частные квартиры преподавателей, был произведен личный досмотр преподавателей и учащихся из числа мальчиков. Опасаясь закрытия гимназии, председатель РЗГК кн. Г. Е. Львов вынужден был обратиться с письмом к председателю правительства 3 июня 1922 г., в котором написал: «Мы не сомневаемся, что упомянутые обыски явились следствием простого недоразумения и что результаты их с достаточной полнотой выявили их необоснованность»[41].
Тем не менее русская школа в 1921–1922 гг. переживала тяжелейший финансовый кризис. Болгарское правительство не отпускало необходимых средств на содержание русских учебных заведений. Их содержание практически перешло к РЗГК, который вынужден был приложить много усилий к поиску денежных средств. Положение усугублялось к тому же инфляцией, которая приводила к еще большему росту долгов. Парижский Земгор постоянно увеличивал размеры выделяемых средств, но дети ходили полураздетые и голодные, а учителя не получали зарплаты. Вставал вопрос о частичном закрытии школ. О положении русской эмигрантской школы в Болгарии представители Российского земско-городского комитета и Всероссийского союза городов регулярно информировали Верховный комиссариат по делам беженцев, рассчитывая на увеличение финансовой помощи со стороны Лиги Наций. Верховный комиссариат предпринял шаги к стабилизации положения. Так, еще в июле 1922 г. представитель Лиги Наций Коллинс провел в Софии совещание с директорами русских школ, на котором поставил в известность собравшихся о намерениях отправить 200 учащихся во Францию для размещения их в фермерских семьях на случай, если Лига Наций не сможет найти дополнительные источники финансирования школьной сети в Болгарии. Участники совещания настоятельно просили найти другой выход. Предложения со стороны Лиги Наций об отправке детей русских эмигрантов во Францию и Бельгию звучали неоднократно и ранее, но развития это начинание не получало. Педагоги и общественные деятели, боясь того, что, быстро ассимилировавшись, дети перестанут ощущать себя носителями русской культуры, эту возможность использовали лишь в отношении детей старше 17 лет и сирот, которых не удалось поместить в учебные заведения, и они оставались вообще без присмотра.
Отношения между руководством страны и российской эмиграцией нормализовались лишь после государственного переворота 9 июня 1923 г., когда на смену кабинету А. Стамболийского к власти пришло правительство А. Цанкова. В августе 1923 г. правительство А. Цанкова приняло решение о выделении регулярного пособия русской школе в размере 500 000 левов[42]. Пособие покрывало лишь часть расходов, но все же значительно улучшило положение русских учебных заведений.



