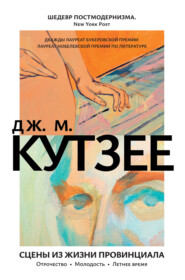скачать книгу бесплатно
Как-то раз на него нападает опрометчивая доверчивость, и он просит Гринберга и Гольдштейна поделиться с ним самыми первыми их воспоминаниями. Гринберг отвечает отказом – участвовать в такой игре ему неохота. Гольдштейн же рассказывает нечто длинное и бессмысленное о том, как его возили на берег моря, – он этот рассказ почти и не слушает. Ибо назначение игры состоит, разумеется, в том, чтобы он мог пересказать свое первое воспоминание.
Он смотрит на улицу, высунувшись из окна их квартиры в Йоханнесбурге. Смеркается. По улице несется издали машина. Собачка, маленькая, пятнистая, перебегает перед ней дорогу. Машина сбивает собачку: колеса проезжают точно посередине ее тела. Собачка уползает, визжа от боли, задние ноги ее парализованы. Она, конечно, умрет… но тут его отрывают от окна.
Воспоминание великолепное, превосходящее все, что удалось вычерпать из своей памяти бедному Гольдштейну. Но правдиво ли оно? Почему он высовывался из окна, если на улице было пусто? Действительно ли видел, как машина сбивает собаку, или просто услышал ее вой и подбежал к окну? Вполне возможно, что видел он только собаку, приволакивавшую задние ноги, а машину, ее водителя и все остальное придумал.
Есть у него и еще одно первое воспоминание, внушающее ему больше доверия, однако его он никому пересказывать не стал бы, и уж тем более Гринбергу с Гольдштейном, которые раструбят об этом по всей школе и обратят его в посмешище.
Он сидит рядом с матерью в автобусе. Время, надо полагать, холодное, потому что на нем красные шерстяные рейтузы и шерстяная шапочка с помпоном. Мотор автобуса урчит, они поднимаются к дикому, пустынному перевалу Свартберг.
В руке у него фантик от конфеты. Он выставляет фантик за окно, чуть приоткрытое. Фантик трепещет и похлопывает на ветру.
– Можно его отпустить? – спрашивает он у матери.
Та кивает. Он отпускает фантик.
Клочок бумаги взлетает в небо. Внизу нет ничего – только мрачная пропасть перевала, окруженная остроконечными горными пиками. Вытянув шею, он следит за бумажкой, продолжающей отважно порхать, пока она не скрывается из виду.
– Что с ним теперь будет? – спрашивает он у матери, однако она вопроса не понимает.
Таково еще одно его первое воспоминание, тайное. Он все время думает о фантике, одиноком в огромной пустоте, брошенном им, чего делать, конечно, не следовало. Когда-нибудь ему придется снова поехать на перевал Свартберг, отыскать фантик и спасти. Таков его долг: и умирать, не исполнив его, нельзя.
Мать от души презирает людей, у которых «руки не тем концом вставлены», – к числу их она относит его отца, но также и своих братьев, в особенности старшего из них, Роланда, который мог бы сохранить ферму, если бы работал как следует, чтобы расплатиться по долгам, да не сделал этого. Один из многочисленных дядьев с отцовской стороны (у него их насчитывается шесть кровных да еще пять, ставших дядьями в результате женитьбы), тот, которого она любит больше всех прочих – Жубер Оливье, – установил в Скипперсклофе электрогенератор, да еще и самостоятельно выучился на дантиста. (Во время одного из приездов на эту ферму на него напала зубная боль. Так дядя Жубер усадил его на стул под деревом, просверлил ему в зубе дырку – без всякой анестезии – и забил ее гуттаперчей. Такой дикой муки он в жизни своей не испытывал.)
Когда что-нибудь в их доме разбивается или ломается – тарелки, украшения, игрушки, – мать все чинит сама: связывает бечевками или склеивает. Поскольку узлов она вязать не умеет, все, что она связывает, разваливается. Что склеивает – тоже, но тут уже мать винит во всем клей.
Ящики кухонных буфетов заполнены погнутыми гвоздями, кусками веревок, скатанными из фольги шариками, старыми марками. «Зачем нам все это?» – спрашивает он. «На всякий случай», – отвечает мать.
Когда настроение у нее плохое, она отрицает всяческую книжную ученость. Детей следует посылать в ремесленные училища, говорит она, а оттуда – на работу. Выучиться на краснодеревщика или плотника, научиться работать с деревом – самое милое дело. Фермерство ее разочаровало: фермеры нынче разбогатели, слишком обленились и приобрели чрезмерную склонность к тому, чтобы выставлять напоказ свой достаток.
А все потому, что цена на шерсть подскочила до небес. Радио рассказывает, что японцы готовы платить по фунту стерлингов за фунт тонкой шерсти. Фермеры-овцеводы покупают новые машины и ездят отдыхать на приморские курорты. «Ты должен отдать нам часть твоих денег, раз так разбогател», – говорит мать дяде Сону, когда они приезжают в Фоэльфонтейн. Говоря это, она улыбается, притворяется, будто шутит, но нет, ничего подобного. Дядя Сон смущается, бормочет в ответ какие-то слова, разобрать которые ему не удается.
Мать рассказывает, что ферма предназначалась не для одного дяди Сона, она была равными частями завещана всем двенадцати сыновьям и дочерям. Чтобы уберечь ее от продажи с аукциона, сыновья и дочери решили продать свои части дяде Сону и получили по долговой расписке на несколько фунтов каждая. А теперь, благодаря японцам, ферма стоит тысячи фунтов. И Сон обязан поделиться с родней деньгами.
Он стыдится грубости, с которой мать говорит о деньгах.
– Ты должен стать доктором или юристом, – говорит она. – Вот кто хорошие деньги зарабатывает.
А в другой раз она заявляет, что все юристы жулики. Он не спрашивает, как укладывается в эту картину отец, юрист, который хороших денег не зарабатывает.
Докторам плевать на пациентов, говорит мать. Они дают тебе таблетки, и все. А хуже всех доктора-африкандеры, потому что они еще и не смыслят ничего.
В разное время мать говорит то одно, то другое, и потому он не знает, что она думает на самом деле. Он и его брат спорят с ней, ловят ее на противоречиях. Если она считает, что фермеры лучше юристов, почему же тогда вышла за юриста? Если считает книжную ученость глупостью, зачем стала учительницей? Но чем больше они с ней спорят, тем шире она улыбается. Умение ее детей обращаться со словами доставляет ей такое удовольствие, что она соглашается с ними по всем пунктам, своих мнений почти не отстаивает – ей хочется, чтобы они побеждали в спорах.
Он ее удовольствия не разделяет. И не считает эти споры забавными. Он хочет, чтобы мать твердо верила хоть во что-нибудь. Рождаемые преходящими настроениями огульные суждения матери раздражают его.
Сам-то он станет, скорее всего, учителем. Такой будет его жизнь, когда он вырастет. Жизнь предстоит, похоже, довольно унылая, но что ему еще остается? Долгое время он намеревался стать машинистом. «Кем ты станешь, когда вырастешь?» – спрашивали его тетушки и дядья. «Машинистом!» – пищал он, и все кивали и улыбались. Теперь-то он знает, «машинистом» – это именно тот ответ, какого ждут от маленького мальчика, так же как от маленькой девочки ждут, что она скажет: «Медицинской сестрой!» Но он уже не маленький, он – часть большого мира, ему надлежит забыть о фантазиях, в которых он правил большим железным конем, и вести себя реалистично. В школе он учится хорошо, а в чем еще он хорош, не знает, значит следует остаться в школе и подниматься там со ступеньки на ступеньку. Возможно, когда-нибудь он даже инспектором станет. Во всяком случае, ни в какой офис он служить не пойдет: работать с утра до ночи и получать всего две недели отпуска в году? Ну уж нет.
Учителем чего он станет? Это он способен представить себе лишь очень смутно. Он видит человека в спортивном пиджаке и фланелевых брюках (так, судя по всему, одеваются все мужчины-учителя), идущего по коридору с книгами под мышкой. Картина эта возникает только на миг и сразу исчезает. Разглядеть лицо он не успевает.
Он надеется, что, когда придет время, его не пошлют учительствовать в город вроде Вустера. Хотя, возможно, Вустер – это просто чистилище, через которое должен проходить человек. Возможно, людей посылают в Вустер, чтобы тем самым испытывать их.
Как-то раз мисс Остхёйзен велит своим ученикам написать за время урока сочинение на тему «Что я делаю по утрам». Они должны описать то, что делают перед тем, как пойти в школу. Он понимает, чего от него ждут: рассказа о том, как он застилает кровать, моет после завтрака посуду, как нарезает бутерброды, которые понесет в школу. На самом-то деле ничем подобным он дома не занимается – все делает мать, – однако врет достаточно гладко, чтобы не попасться. Правда, описывая чистку обуви, он заходит слишком далеко. Обувь свою он ни разу в жизни не чистил. И потому пишет в сочинении, что сначала оттирает ее щеткой от пыли, а потом намазывает кремом. Против этого места мисс Остхёйзен ставит на полях большой синий восклицательный знак. Он чувствует себя униженным и молится о том, чтобы она не заставила его прочитать сочинение вслух перед всем классом. В этот вечер он, чтобы не допустить такую же промашку еще раз, внимательно наблюдает за чистящей его обувь матерью.
Он позволяет матери чистить его обувь, как позволяет ей делать для него все, что ей хочется. Единственное, чего он ей больше не позволяет, – это входить в ванную комнату, когда он там голый.
Он знает, что он лжец, плохой человек, но не изменяется. Не изменяется, потому что изменяться не хочет. Возможно, его отличие от других мальчиков связано с матерью, с их ненормальной семьей, но оно связано также и с его враньем. Если он перестанет врать, ему придется чистить свои башмаки, разговаривать вежливо и вообще вести себя точь-в-точь как нормальные мальчики. И он больше уже не будет самим собой. А если он не будет самим собой, какой ему тогда смысл жить?
Он лжец, да еще и бессердечный: миру в целом он лжет, а к матери относится бессердечно. Он же видит: мать мучает то, что он, вырастая, все сильнее отдаляется от нее. И тем не менее ожесточает свое сердце и не жалеет ее. Единственное его оправдание состоит в том, что он безжалостен и к себе. Он врет всем, но только не себе самому.
– Как по-твоему, когда ты умрешь? – однажды спрашивает он у матери, бросая ей вызов и удивляясь собственной смелости.
– Я умирать не собираюсь, – отвечает она. Отвечает весело, однако в веселости ее присутствует некая фальшь.
– А если раком заболеешь?
– Раком заболевают только те, кого бьют в грудь. Я раком не заболею. Я буду жить вечно. И не умру.
Он понимает, почему мать так говорит. Она говорит так ради него и брата, чтобы они не беспокоились. Слова ее глупы, но он все равно благодарен ей за них.
Вообразить ее умирающей он не может. Мать – самое прочное и устойчивое, что есть в его жизни. Скала, на которой он стоит. Без нее он обратится в пустое место.
А груди свои она оберегает от ударов с большим тщанием. Самое первое его воспоминание – еще более раннее, чем те, что о собаке или о фантике, – это воспоминание о ее белых грудях. Он подозревает, что мог, когда был младенцем, причинять им боль, бить по ним кулаками, потому-то она сейчас и отказывает ему в них так решительно – она, не отказывающая ему ни в чем.
Рак – это великий страх ее жизни. Он же обучен тому, чтобы опасаться боли в боку, относиться к каждому ее уколу как к приступу аппендицита. Успеет ли «скорая помощь» доставить его в больницу раньше, чем прорвется аппендикс? Очнется ли он после наркоза? Мысль о том, что его будет резать незнакомый доктор, ему не по душе. С другой стороны, у него появится шрам, будет что людям показать, а это хорошо.
Когда в школе на перемене всем раздают изюм и арахис, он сдувает с арахиса красную, тонкую, точно бумага, кожицу, про которую говорят, что она собирается в аппендиксе и загнивает.
Он и сам увлеченно занимается собирательством. Собирает марки. Оловянных солдатиков. Карточки с изображением австралийских крикетистов, английских футболистов, автомобилей мира. Чтобы раздобывать их, приходится покупать пачки сделанных из обсыпанной сахарной пудрой нуги сигарет с розовыми кончиками. Карманы его вечно полны погнувшихся липких сигарет, которые он забыл съесть.
Он возится часы напролет с конструктором, доказывая матери, что умеет кое-что делать своими руками, и не хуже других. Собирает ветряную мельницу, которая на самом деле приводится в движение парой шкивов, – впрочем, крылья ее крутятся так быстро, что по комнате и вправду начинает гулять ветерок.
А еще он трусцой бегает по двору, подбрасывая на ходу теннисный мяч и ловя. Какова истинная траектория мяча: взлетает ли тот отвесно вверх, а после отвесно же падает, как это видит он, или описывает в воздухе подобие петли, которую мог бы увидеть неподвижный наблюдатель? Когда он заговаривает о таких вещах с матерью, в глазах ее появляется отчаянное выражение: мать понимает, что они важны, и стремится также понять почему, но не может. Он же хочет, чтобы мать интересовалась ими сама, а не только потому, что они интересны ему.
Если в доме возникает необходимость сделать что-то, чего ни он, ни она не умеют, – починить протекающий кран, к примеру, – мать призывает с улицы цветного, любого, какой мимо идет. Почему, сердито спрашивает он, ты так веришь в цветных? Потому что они привыкли работать руками, отвечает мать. Поскольку в школу они не ходили и поскольку книжной ученостью не обременены, хочет, похоже, сказать она, то и знают, как что устроено в настоящем мире.
Глупая какая-то вера – в то, что не учившиеся в школе должны знать, как починить кран или отремонтировать плиту, – и все же она настолько отлична от верований всех остальных людей, настолько эксцентрична, что он самому себе вопреки находит ее приятной. Пусть уж мать ждет от цветных чудес, все лучше, чем вообще ничего от них не ждать.
Он то и дело пытается добиться от нее хоть какого-то толку. Евреи – эксплуататоры, говорит мать, и тем не менее предпочитает докторов-евреев, поскольку они понимают, что делают. Цветные – соль земли, говорит она, но при этом вечно сплетничает с сестрами о людях, которые изображают белых, а у самих негритянская кровь по жилам течет. Он не в силах понять, как можно придерживаться одновременно верований, столь противоречивых. Что же, по крайней мере, у матери есть верования. И у ее братьев тоже. Норман, к примеру, верит в монаха по имени Нострадамус и в его пророчества насчет конца света; верит в летающие тарелки, которые по ночам садятся на землю и крадут людей. А вот представить себе отца и его родичей беседующими о конце света он не в состоянии. У них всего одна жизненная задача – избегать споров, никого не обижать и неизменно оставаться дружелюбными; в сравнении с родными матери они – люди скучные и пустые.
Он слишком близок к матери, и мать слишком близка к нему. И по этой причине семья отца – несмотря на участие в охоте и множество иных совершаемых им, когда он гостит на ферме, мужественных поступков – своим его не считает. Бабушка его поступила, быть может, и слишком сурово, отказав им троим в приюте, когда они, в 1944-м, жили на половину жалованья младшего капрала и были слишком бедны, чтобы покупать масло или чай. Однако инстинкт ее не подвел. Семья, которой правила тогда бабушка, была осведомлена о тайнах теперешнего дома № 12 по Тополевой авеню, в котором на первом месте стоит старший сын, на втором – второй, а мужчина – муж, отец – занимает последнее. То ли мать была недостаточно осторожна и не сумела утаить этот секрет, то ли отец тишком нажаловался кому-то из родичей. Подобное извращение естественного порядка вещей родные отца находят глубоко оскорбительным для их сына и брата, а стало быть, и для них самих. Они не одобряют этого и, не позволяя себе грубостей, неодобрения своего не скрывают.
Иногда, разругавшись с отцом и пытаясь переиграть его по очкам, мать принимается горестно жаловаться на холодность, с которой относится к ней отцовская родня. Однако по большей части – ради сына, ибо она знает, насколько важное место занимает в его жизни ферма, а предложить взамен ее ничего не может, – мать старается снискать расположение этой родни, да еще и способами, которые он находит тошнотворными. Эти усилия матери стоят в одном ряду с ее шуточками по поводу денег, которые вовсе никакие не шуточки. У нее нет гордости. Или, говоря иными словами, ради него она готова на все.
Ему хочется, чтобы она была нормальной. Тогда и он смог бы стать таким.
То же самое с двумя ее сестрами. У каждой по одному ребенку, по сыну, и каждая опекает своего, душит заботами. Самый близкий его друг на свете – двоюродный брат Хуан, живущий в Йоханнесбурге: они переписываются, предвкушают, как будут вместе отдыхать на море. И тем не менее ему не нравится наблюдать за тем, как Хуан сконфуженно выполняет каждое распоряжение матери – даже когда ее нет поблизости и проверить она ничего не может. Из всей четверки сыновей только он не сидит целиком и полностью под каблуком у матери. Он вырвался на свободу, вернее, вырвался наполовину: у него есть друзья, которых выбрал он сам, он уезжает из дома на велосипеде, не говоря, куда направляется и когда вернется. А его кузены и брат друзей лишены. Все они бледные, все робкие, все сидят по домам под присмотром неистовых матерей – такими он их себе представляет. Его отец называет троицу сестер-матерей «тремя ведьмами». «Пламя, прядай, клокочи! Зелье, прей! Котел, урчи!»[5 - Акт IV, сцена 1 (перев. Ю. Корнеева).] – говорит отец, цитируя «Макбета». И он, испытывая злобное наслаждение, соглашается с этим.
Когда жизнь в Реюнион-Парке особенно допекает мать, она говорит, что лучше бы ей было выйти за Боба Брича. Он эти слова всерьез не принимает. И все равно не может поверить своим ушам. Если бы она вышла замуж за Боба Брича, где же сейчас был бы он? И кем он был бы? Сыном Боба Брича? Или это сын Боба Брича был бы им?
Уцелело всего одно свидетельство реального существования Боба Брича, на которое он случайно натыкается в одном из альбомов матери: нечеткая фотография двух молодых мужчин в длинных белых брюках – мужчины стоят, обняв друг друга за плечи, на морском берегу и щурятся от яркого солнца. Одного он узнает: это отец Хуана. А кто второй? – от нечего делать спрашивает он у матери. Боб Брич, отвечает она. Где он сейчас? Умер, говорит мать.
Он вглядывается в лицо покойного Боба Брича. И ничего общего с собой не находит.
Больше он ни о чем ее не расспрашивает. Однако, слушая сестер, складывая два и два, узнает, что Боб Брич приезжал в Южную Африку для поправки здоровья, что, проведя здесь год или два, возвратился в Англию и там умер. Умер от чахотки, однако разбитое сердце, намекают сестры, вполне могло ускорить его кончину – сердце, разбившееся потому, что темноволосая молодая учительница с темными недоверчивыми глазами, с которой он познакомился в Плеттенберхбае, не согласилась стать его женой.
Он любит перелистывать фотоальбомы. Какими бы мутными ни были групповые снимки, ему всегда удается найти на них мать: девушку, в робком, настороженном облике которой он распознает женскую версию себя самого. По альбомам он прослеживает ее жизнь в 1920-х и 1930-х годах: сначала фотографии спортивных команд (хоккей, теннис), потом снимки, сделанные во время ее путешествия по Европе – в Шотландии, Норвегии, Швейцарии, Германии; Эдинбург, фьорды, Альпы, Бинген-на-Рейне. Среди ее памятных сувениров присутствует цанговый карандаш из Бингена, сбоку у него имеется крошечная дырочка, и, если заглянуть в нее, увидишь замок на скале.
Иногда они перелистывают альбомы вместе, он и она. Мать вздыхает, говорит, что ей хочется еще раз увидеть Шотландию, ее вереск и колокольчики. Он думает: у нее была до моего рождения целая жизнь. И радуется за мать, потому что теперь у нее никакой жизни не осталось.
Ее Европа полностью отличается от Европы из фотоальбома отца, в котором южноафриканские солдаты позируют на фоне египетских пирамид или на булыжных улочках итальянских городов. Впрочем, в этом альбоме он разглядывает не столько фотографии, сколько перемешанные с ними листовки – те, которыми немецкие аэропланы забрасывали позиции союзников. Одна объясняет солдату, как устроить себе высокую температуру (нужно наесться мыла); другая изображает очаровательную женщину, сидящую с бокалом шампанского на коленях жирного, крючконосого еврея. «Тебе известно, где сейчас твоя жена?» – осведомляется подпись под картинкой. А еще у них в доме есть синий фарфоровый орел – отец нашел его под развалинами одного здания в Неаполе и привез в вещмешке домой: имперского орла, который теперь стоит на столе гостиной.
Тем, что его отец воевал, он гордится безмерно. Узнав, сколь немногие из отцов его друзей сражались на войне, он удивляется – и радуется. Почему отец дослужился всего лишь до младшего капрала, ему толком неизвестно: рассказывая друзьям об отцовских приключениях, он этого «младшего» тихо опускает. А еще он очень дорожит фотографией, снятой в Каире, в фотоателье, – на ней его красивый отец заглядывает, закрыв один глаз, в дуло винтовки: волосы аккуратно причесаны, берет засунут, как того требует устав, под погон. Будь его воля, эта фотография тоже стояла бы на каминной полке.
О немцах отец и мать держатся мнений противоположных. Отцу нравятся итальянцы (они сражались не от души, говорит отец: только одного и хотели – сдаться и возвратиться домой), а вот немцы ему ненавистны. Он часто рассказывает историю про немца, застреленного в сортире. Иногда в этом рассказе немца убивает сам отец, иногда один из его друзей, однако жалость во всех вариантах отсутствует, только насмешка над замешательством немца, который пытался одновременно и руки поднять, и штаны подтянуть.
Мать знает, что слишком открыто немцев лучше не хвалить, но порой, когда он и отец вместе наскакивают на нее, об осторожности забывает. «Немцы – самый лучший народ в мире, – заявляет она. – Это ужасный Гитлер довел их до таких страшных страданий».
Ее брат Норман с ней не соглашается. «Гитлер научил немцев гордиться собой», – говорит он.
В 1930-х мать и Норман вместе путешествовали по Европе: не только по Норвегии и нагорьям Шотландии, но и по Германии – Германии Гитлера. Их семья – Брехеры, дю Били – происходит из Германии, по крайней мере из Померании, которая теперь находится в Польше. Хорошо ли это – происходить из Померании? Тут он не уверен. Но по крайности, он знает, откуда произошел.
– Немцы не хотели сражаться с южноафриканцами, – говорит Норман. – Они любят южноафриканцев. Если бы не Смэтс, мы ни за что не стали бы воевать против Германии. Смэтс – настоящий скельм, мошенник. Он продал нас британцам.
Отец и Норман недолюбливают друг друга. Когда отцу требуется уязвить мать – при их ночных ссорах на кухне, – он попрекает ее братом, который в армию не пошел, а маршировал вместо этого с «Оссевабрандвагом». «Это ложь! – гневно заявляет она. – Норман не состоял в „Оссевабрандваге“. Сам у него спроси, он тебе скажет».
Он спрашивает у матери, что такое «Оссевабрандваг», и она отвечает – да глупость, люди, которые с факелами в руках маршировали по улицам.
Пальцы правой руки Нормана желты от никотина. Живет он в Претории, в гостиничном номере, – уже три года там живет. На жизнь зарабатывает продажей составленной им брошюры о джиу-джитсу, печатая объявления о ней в «Претория ньюс». «Изучайте японское искусство самообороны, – говорится в объявлениях. – Шесть простых уроков». Люди присылают ему по почте заказы и деньги, десять шиллингов, а он отправляет им брошюрки: каждая состоит из одного сложенного вчетверо листка, на котором изображены различные захваты. Если джиу-джитсу денег приносит мало, Норман продает от имени агентства по недвижимости участки земли и получает за это комиссионные. Каждый день он до полудня лежит в постели – пьет чай, курит, читает журналы, «Аргоси» и «Лилипут». А после полудня играет в теннис. Двенадцать лет назад, в 1938-м, он стал чемпионом Западной провинции в соревнованиях одиночек. Он и сейчас еще строит планы насчет выступления на Уимблдоне, но уже в парных соревнованиях – если удастся найти партнера.
Под конец своего гостевания, перед тем как уехать в Преторию, Норман отводит его в сторонку и сует ему в нагрудный карман рубашки коричневатую банкноту, десять шиллингов. «На мороженое», – шепчет Норман: каждый год одни и те же слова. Он любит Нормана, и не только за подарки – хотя десять шиллингов – это огромные деньги, – но и за памятливость, за то, что дядя никогда не забывает преподносить их.
Отец же отдает предпочтение другому брату, Лансу, школьному учителю из Кинг-Уильямс-Тауна, также служившему в армии. Есть еще третий брат, самый старший, тот, что потерял ферму, но о нем никто, кроме матери, не упоминает. «Бедный Роланд», – бормочет, покачивая головой, мать. Роланд женился на женщине, которая называет себя Розой Ракоста, дочерью польского графа в изгнании, хотя настоящее ее имя, по словам Нормана, – София Преториус. Норман и Ланс не любят Роланда из-за фермы, а еще за то, что он подкаблучник Софии. Роланд с Софией держат в Кейптауне пансион. Он был там однажды с матерью. София оказалась большой толстой блондинкой, расхаживавшей в четыре пополудни по дому в атласном пеньюаре и курившей вставленную в мундштук сигарету. А Роланд – тихим мужчиной с грустным лицом и красным, похожим на луковицу носом, который стал таким после того, как Роланда вылечили с помощью радия от рака.
Ему нравится, когда отец, мать и Норман затевают спор о политике. Он наслаждается их страстностью, пылом, смелыми высказываниями. А еще его удивляет то, что он оказывается согласным с отцом, которому меньше всего желает победы: англичане хорошие, а немцы плохие, Смэтс хорош, а националисты дурны.
Отцу нравится «Объединенная партия», нравится крикет и регби, и все же отца он не любит. Он этого противоречия не понимает, однако понимать и не хочет. Он еще до того, как узнал, так сказать, отца, до того, как отец вернулся с войны, решил, что любить его не станет. И потому не любит он, в некотором смысле, абстракцию: ему просто не хочется иметь отца, во всяком случае такого, который живет в одном с ним доме.
Особенно не нравятся ему отцовские привычки. Не нравятся так сильно, что он содрогается от омерзения при одной лишь мысли о них: о том, как громко сморкается отец по утрам в ванной, о распространяемом отцом парном запахе мыла «Спасательный круг», о колечке пены и сбритых волосков, которое отец оставляет в раковине ванной. А пуще всего ненавистен ему собственный запах отца. С другой же стороны, он вопреки своей воле любуется опрятной одеждой отца, темно-бордовым платком, которым тот воскресными утрами повязывает вместо галстука шею, его подтянутой фигурой, живостью разговора, блестящими от бриолина волосами. Он и сам мажет волосы бриолином, отращивает челку.
Походы к парикмахеру он тоже ненавидит – настолько, что даже пробует, добиваясь прискорбного результата, подстричь себя сам. Судя по всему, парикмахеры Вустера сообща решили, что мальчиков следует стричь коротко. Стрижка начинается с того, что электрическая машинка грубейшим образом выкашивает тебе волосы с боков головы и сзади, а продолжается под безжалостное щелканье ножниц, по завершении которого на голове остается какая-то щетка – ну и разве что маленький чубчик спереди. Еще до окончания стрижки он начинает корчиться от стыда; потом платит шиллинг и бежит домой, со страхом думая о том, как пойдет завтра в школу, о ритуальном осмеянии, которому подвергается там каждый заново подстригшийся мальчик. На свете существуют настоящие стрижки и существуют те, свидетельствующие о злобности парикмахеров, которые приходится сносить в Вустере; однако куда нужно отправиться, что сделать или сказать и сколько заплатить, чтобы получить настоящую, он не знает.
Глава шестая
Он хоть и ходит субботними вечерами в биоскоп, однако фильмы уже не захватывают его так, как это было в Кейптауне, где ему снились кошмары, в которых с ним происходило то же, что с героями сериалов, – то его расшибали в лепешку падающие лифты, то он срывался с обрыва. Он не понимает, почему Эррол Флинн, который, кого бы ему ни приходилось играть, Робин Гуда или Али-Бабу, выглядит всегда одинаково, считается великим актером. Конные погони, вечно одни и те же, ему надоели. «Три придурка»[6 - Three Stooges – трио американских комиков, выступавшее в 1922–1970 гг. и снявшееся в 190 короткометражных фильмах студии Columbia Pictures.] начинают казаться глуповатыми. И трудно же верить в Тарзана, если актер, который его играет, то и дело меняется. Единственный фильм, который производит на него впечатление, – это тот, где Ингрид Бергман садится в поезд, который везет больных оспой, а потом умирает. Ингрид Бергман – любимая актриса его матери. Но если жизнь устроена именно так, не может ли и мать умереть в любую минуту, просто не удосужившись прочитать выставленную в окне табличку?
Есть еще радио. Передачу «Детский уголок» он уже перерос, но сохраняет верность сериалам: «Супермену», ежедневно передаваемому в 17:00 («Вставай! Вставай и улетай!»), и «Магу Мандрагору» – ежедневно в 17:30. Правда, любимая его постановка – «Арктический гусь» Пола Гэллико, которую «Служба А» передает по просьбам слушателей снова и снова. Это история дикого гуся, который проводит суда от Дюнкерка к Дувру. Он слушает ее со слезами на глазах. И хочет стать когда-нибудь таким же верным другом, каким был арктический гусь.
Передают по радио и постановку, сделанную по «Острову сокровищ», – один получасовой эпизод каждую неделю. У него есть эта книга, правда, читал он ее еще маленьким, не понимая, что там за история приключилась со слепым и черной меткой, хороший человек Долговязый Джон Сильвер или плохой. Теперь, после каждого услышанного по радио эпизода, ему снятся страшные сны с участием Джона Сильвера: сны о костыле, которым тот убивает людей; о коварной, слащавой заботливости, с которой опекает Джима Хокинса. Лучше бы сквайр Трелони не отпускал Долговязого Джона, а убил негодяя: он уверен, что Джон еще возвратится со своими головорезами и мятежниками, чтобы отомстить, – точно так же, как возвращается в его сны.
А вот «Швейцарский Робинзон»[7 - Der Schweizerische Robinson (1812) – детский приключенческий роман швейцарского пастора и писателя Йоханна Давида Висса (1743–1818) о семье, попавшей на необитаемый остров после кораблекрушения.] – передача куда более утешительная. Эта книга у него тоже имеется – с красивой обложкой и цветными картинками. Особенно нравится ему та, на которой под деревом стоит на спусковых салазках корабль, построенный швейцарской семьей с помощью инструментов, спасенных ею во время кораблекрушения, – корабль доставит домой и ее, и всех ее животных, совсем как Ноев ковчег. Так приятно покинуть Остров сокровищ и окунуться в мир швейцарской семьи. В нем нет ни плохих братьев, ни кровожадных пиратов; все радостно трудятся, выполняя указания мудрого, сильного отца (на картинке у него грудь колесом и длинная каштановая борода), с самого начала знающего, что нужно сделать, чтобы всех спасти. Он только одного не понимает – зачем им, так уютно и счастливо устроившимся на острове, вообще возвращаться куда-то.
Имеется у него и третья книга, «Скотт Антарктический». Капитан Скотт – один из его безусловных героев: оттого ему эту книгу и подарили. В ней есть фотографии, на одной из них капитан Скотт сидит и пишет что-то в той самой палатке, в которой потом замерз до смерти. Он часто разглядывает эти фотографии, однако в чтении самой книги далеко не продвинулся: она скучная, в ней нет увлекательного рассказа. Ему нравится только история про Тита Оутса, который обморозился, – нравится, как тот подбадривал товарищей, а потом вышел в ночь, в снега и льды, и тихо, не поднимая шума, скончался. И он надеется, что когда-нибудь сможет стать таким, как Тит Оутс.
Раз в год в Вустер приезжает «Цирк Босуэлла». Все его одноклассники ходят на представления и целую неделю в школе только о цирке и разговаривают, ни о чем другом. На них даже цветные дети ходят в некотором смысле: эти ребятишки часами околачиваются вокруг шатра, слушают оркестр, подглядывают в щелки.
Они собираются посетить цирк в субботу вечером, когда отец будет играть в крикет. Мать хочет, чтобы получился праздник для всех троих. Однако, зайдя в кассу, с ужасом узнает, как дороги субботние билеты: 2 шиллинга 6 пенсов для детей, 5 шиллингов для взрослых. Денег, которые она взяла с собой, не хватает. Она покупает билеты ему и брату. «Идите, я здесь подожду», – говорит она. Ему идти не хочется, однако мать настаивает на своем.
Оказавшись внутри шатра, он чувствует себя несчастным, ничто его не радует; он подозревает, что и с братом творится то же самое. Когда представление заканчивается, они выходят из шатра и видят мать, которая так никуда и не ушла. И после этого он несколько дней не может отогнать от себя мысль о том, как мать терпеливо ждала их под жгучим декабрьским зноем, а он в это время сидел в цирке и его развлекали, точно какого-нибудь короля. Слепая, неодолимая, жертвенная любовь матери к нему и брату – к нему в особенности – беспокоит его. Лучше бы она не любила его так сильно. Мать любит его без памяти, значит и он должен любить ее без памяти: такую она ему навязывает логику. Разве сможет он когда-нибудь расплатиться с ней за всю ту любовь, которую она на него изливает? Мысль о том, что ему так и придется всю жизнь никнуть под гнетом этого долга, обескураживает и бесит его настолько, что он перестает целовать мать и даже прикасаться к ней отказывается. И когда она отворачивается от него с безмолвной обидой, он намеренно ожесточает себя, настраивает против нее, не желая ей уступать.
Временами, когда ее одолевают горькие чувства, мать произносит длинные монологи, которые обращает к себе самой, сравнивая в них свою жизнь в стоящем на бесплодной земле поселке с той, какую она вела до замужества, – изображаемую ею как непрерывный кругооборот приемов и пикников, субботних поездок на фермы друзей, тенниса, гольфа и прогулок с собаками. Говорит она негромко, почти шепотом, в котором выделяются лишь свистящие да шипящие звуки, а он сидит в своей комнате, брат – в своей, и оба напрягают слух, стараясь расслышать ее, о чем она наверняка знает. Вот еще одна причина, по которой отец называет мать ведьмой: разговаривает сама с собой, не иначе как заклинания творит.
Идилличность ее жизни в Виктории-Уэст подтверждают фотографии из альбомов: мать и еще какие-то женщины в длинных белых платьях стоят с теннисными ракетками посреди чего-то, похожего на вельд; или – мать обнимает за шею собаку, немецкую овчарку.
– Кто это? – спрашивает он.
– Это Ким. Самый лучший, самый преданный пес, какой у меня был.
– А что с ним случилось?
– Съел отравленное мясо, которое фермеры разбросали для шакалов. И умер у меня на руках.
В глазах ее стоят слезы.
После того как в альбоме появляется отец, собаки там больше не встречаются. Вместо них он видит отца и мать на пикниках – с друзьями, были у них в то время друзья – или одного отца в щегольских усиках, с самоуверенным видом позирующего у капота старомодного черного автомобиля. Потом появляются его фотографии, десятки фотографий, начиная с первой – пухлого младенца с пустым лицом держит перед камерой темноволосая напряженная женщина.
На всех этих снимках, даже на тех, что с младенцем, мать поражает его моложавостью. Ее возраст – загадка, которая интригует его бесконечно. Она своих лет не открывает, отец притворяется не знающим их, даже ее братья и сестры, похоже, поклялись хранить эту тайну. Когда мать уходит из дома, он роется в документах, лежащих в нижнем ящике ее туалетного столика, ищет свидетельство о рождении, но безуспешно. По некоторым ее обмолвкам он знает, что мать старше отца, который родился в 1912-м, но насколько старше? Он решает, что мать родилась в 1910-м. Значит, когда родился он сам, ей было тридцать, а сейчас сорок. «Тебе сорок лет!» – торжествующе сообщает он матери и внимательно вглядывается в ее лицо, надеясь увидеть свидетельства своей правоты. Мать загадочно улыбается. «Мне двадцать восемь», – говорит она.
День рождения у них общий. Она родила его в свой день рождения. Это означает, говорит мать и ему, и всем прочим, что он – подарок от Бога.
Он называет ее не матерью и не мамой, а Динни. Как и отец, и брат. Откуда взялось это имя? Никто, по всему судя, не знает, однако братья и сестры зовут ее Верой – стало быть, не из детства. Он внимательно следит за тем, чтобы не назвать ее Динни при посторонних, так же как остерегается называть тетю и дядю просто Эллен и Норманом, а не тетей Эллен и дядей Норманом. Однако говорить «дядя» и «тетя», как полагается хорошему, послушному, нормальному ребенку, – это сущий пустяк в сравнении с велеречивостью африкандеров. Африкандеры не решаются говорить «ты» или «вы» тому, кто старше их годами. Он пародирует речи отца: «Mammie moet ’n kombers oor Mammie se knieё trek anders word Mammie koud» – Маме следует накрыть одеялом мамины колени, а то мама простудится. Хорошо, что он не африкандер и не обязан разговаривать на такой манер, точно много раз поротый раб.
Мать решает, что ей нужна собака. Самые лучшие из них – немецкие овчарки, – они умнее и вернее всех прочих, однако найти кого-нибудь, продающего овчарку, им не удается. И они останавливаются на щенке, который наполовину доберман, наполовину непонятно кто. Он настаивает, что имя собаке выберет сам. Лучше всего, конечно, был бы Борзой – он хочет, чтобы собака у него была русская, но, поскольку доберман – не борзая, он дает щенку кличку Казак. Что это значит, никто не понимает. Все думают, что kos-sak – «мешок с едой», – и посмеиваются.
Казак оказывается псом непонятливым, непослушным – бегает по окрестностям, топчет чужие огороды, гоняет кур. А однажды решает проводить его до школы. Отогнать дурака не удается – он кричит, швыряется камнями: пес прижимает уши, прячет хвост между ног и исчезает, но, стоит ему усесться на велосипед, возвращается и снова скачет за ним. В конце концов ему приходится одной рукой волочь Казака за ошейник до самого дома, толкая другой велосипед. Домой он приходит разгневанным и в школу возвращаться отказывается, все равно опоздал.
Казак не успевает еще вырасти, как кто-то скармливает ему толченое стекло. Мать ставит несчастному клизмы, чтобы вымыть стекло из желудка, но безуспешно. На третий день пес уже просто лежит, задыхаясь, и даже руку ее не лижет. Мать посылает его в аптеку за новым лекарством, которое кто-то ей присоветовал. Он бежит туда, прибегает обратно – слишком поздно. Лицо у матери осунувшееся, замкнутое, она даже пузырек из его руки не берет.
Он помогает похоронить завернутого в одеяло Казака в глине, в самом низу их сада. И ставит на могиле крест, на котором написано краской: «Казак». Заводить другую собаку он не хочет – не стоит, если они вот так умирают.
Его отец играет за крикетную сборную Вустера. Что и могло бы стать для него еще одним знаком отличия, предметом гордости. Отец – юрист, а это почти так же хорошо, как доктор; он участвовал в войне; играл в регби за команду кейптаунской лиги; теперь играет в крикет. Но у всего этого имеются неприятные уточнения. Как юрист отец больше не практикует. Он воевал, но дослужился лишь до младшего капрала. Играл в регби, однако во втором составе команды «Гарднз», а ее никто всерьез не принимает, потому что в Большой лиге она неизменно занимает последнее место. Теперь отец играет в крикет, но опять-таки за вторую сборную, на матчи которой никто не ходит.
Отец – боулер, не бэтсмен. Биту он как-то не так отводит, что ли, и потому промахивается по мячу.
Причина, по которой бэтсмен из отца не получился, состоит в том, что он вырос в пустыне Кару, где в крикет никто не играет, а значит, и научиться ему было не у кого. Подача мяча – это другое дело, подающими, боулерами, рождаются, не становятся.
Мячи отец подает медленные, крученые. И иногда сразу выбивает шесть очков, а иногда бэтсмен, увидев медленно плывущий к нему по воздуху мяч, теряет голову, замахивается что есть сил и мажет. Похоже, в этом метод отца и состоит: в терпении и коварстве.
Команду Вустера тренирует Джонни Уордл, играющий, когда на севере наступает лето, за крикетную сборную Англии. То, что Джонни Уордл согласился приехать сюда, – великая удача для Вустера. Это заслуга Вольфа Хеллера – Вольфа Хеллера и его денег.