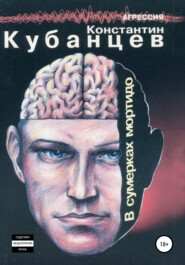скачать книгу бесплатно
Татьяна, свободная по субботам от уроков, шла навстречу своей судьбе.
Она не спешила. Глазея по сторонам, Татьяна скорее прогуливалась, направляясь в гастроном почти для развлечения – лишь бы оттянуть неприятный момент возвращения домой, где предстояло подтирать вонючие лужи и слушать невразумительную монотонную брань.
Радость обоих была искренней. Толику, давно утратившему чувство понимания женской красоты, Татьяна показалась милой и привлекательной. В течение последних лет именно такие женщины, с некрасивыми, уставшими лицами, окружали его в рабочих общагах, дешевых закусочных, на вокзалах и в поездах – каменщицы и штукатуры, поварихи и проводницы, продавщицы обощных ларьков. От них Татьяну выгодно отличало чисто умытое лицо и аккуратно уложенные волосы.
Согласившись прогуляться с другом давно минувшей юности, Татьяна, неожиданно для самой себя, почувствовала легкое приятное возбуждение – и подобное чувство было чем-то новеньким, не испытанным ранее, выходящим за привычные рамки ее самоощущения.
Далее, все происходило точно так, как в сотнях, тысячах раз до нее. Стакан водки приятно опьянил. Толя выглядел галантным и мужественным. На приглашение отужинать у него дома и отметить встречу – отказать было неудобно.
Удивительно, но случайная встреча закончилась в постели.
И первый сексуальный опыт в ее жизни не показался Татьяне неприятным. Ей не было больно. В то же время льстило, что сильный и уверенный мужчина, каким казался, да и на самом деле был Толя Котов, захотел именно ее, а не одну из молодых куколок, готовых раздвинуть ноги для любого.
Толя, в свою очередь, действуя уверенно и быстро, оценил приятную простоту отношений с послушной и доброй женщиной.
В тот первый вечер и был зачат Николай Анатольевич Котов.
Через две недели Татьяна и Анатолий поженились.
И случилось так, что их брак, скоропалительный, в чем-то даже смешной, не логичный, оказался удачным.
На удивление соседям и родственникам, Татьяне, да и самому себе, Толик остепенился. К жене с первых дней совместной жизни стал относиться уважительно и бережно. За чужими юбками не волочился. Сына любил, в меру баловал, сердцем понимая, что его сын – единственный продолжатель рода Котовых. Он по-прежнему крепко выпивал, но теперь – только по субботам.
– Как положено, – бурчал он в ответ на робкие Татьянины попытки прекратить возлияния.
По воскресеньям – опохмелялся. Последние годы жизни – в одиночестве. Вторую половину дня полулежал в кресле перед телевизором, отдыхал. В понедельник равнодушно шел на завод. Работал как все, в передовиках не числился, но и обузой для бригады не был. Когда сыну исполнилось три, стал брать Николая на воскресные прогулки. Анатолий полюбил сидеть в сквере на лавочке. Он тянул прохладное пиво, растягивая удовольствие, и рассуждал сам с собой “за жизнь”, чувствуя себя в эти минуты солидным, повидавшем на своем веку, отцом семейства. Коля сидел рядом, молча слушая отца. Зимой, по тем же воскресным дням, несмотря на головную боль после “вчерашнего”, Анатолий таскал радостного Коленьку за собой на санках до ближайшего пивного ларька. Таких прогулок Коля, в тайне от родителей, с нетерпением ждал всю неделю.
Вот в такой “типичный” воскресный день у Анатолия, ему было сорок шесть, случился первый инфаркт. Перенес он его легко. Провалялся на больничной койке всего две недели.
– Все будет хорошо, прекрати выть, – процедил Анатолий в ответ на Татьянины вздохи и всхлипы в день выписки. И через три дня, в очередную субботу, уговорил, “как заведено”, поллитровку прозрачной. Не слушая жену, беззлобно хмыкнул, потрепал мельтешащего рядом Николая по голове и рано улегся спать.
Через год повторный инфаркт свалил его на месяц. А еще через шесть, Анатолия не стало. Третий приступ он не перенес.
За полтора года, от момента первого “звоночка”, Татьяна морально подготовилась к подобному исходу. И когда ожидаемое случилось – поплакала, как полагается, исполнила по православному обычаю ритуал: девять дней, сорок… в церквях побывала, отмолила за упокой души, и, успокоившись, выплеснула на восьмилетнего Николая разом весь водопад нерастраченной женской любви.
Коля, в то время, был в сущности обычным ребенком. По-детски – добрый, а иногда, также по-детски – неоправданно жестокий. И вот тут, в неспокойное сумбурное море детского сознания, влили полную лохань яда. Пострашнее укуса змеи. Яда унизительной, рабской, ослепляющей материнской любви.
Николай превратился в идола и бога – безгрешного, но окруженного врагами и недоброжелателями.
Какое-то время детская душа противилась, сопротивлялась. Понятия о дружбе и чести, чтимые и в школе, и среди дворовой шпаны, находили отклик в его сердце и разуме, но, в конце концов, и они не выдержали бешеную атаку материнской любви, все сметающей на своем пути.
К пятнадцати годам Николай твердо представлял, что он единственный, неповторимый, и только его тело и его дух имеют ценность в этом, созданном для него, мире.
Убедиться в этом и сформулировать этот постулат для себя самого, помог случай.
Тот день намертво врезался Николаю в память, как самый счастливый в жизни.
Как и большинство дворовых пацанов того времени, он играл в футбол. Он любил играть. Любил еще и потому, что получалось у него неплохо. Была природная координация и скорость, амбиции, заставляющие изо всех сил доказывать, что он, Николай Котов, лучший. Это были, пожалуй, главные составляющие его таланта. Возможно, в другое время, при других обстоятельствах – сложилась бы успешная футбольная карьера. Не получилось.
– Гол! Го-ол… – разносится над стадионом.
– Котов, Котов! – скандируют трибуны.
– Ник! – орут во всю глотку пацаны и знакомые девчонки.
Никогда ранее и, конечно, никогда потом он не был так переполнен ощущением светлой, «цветной» радости, необузданной и легковозбудимой силы. Эти чувства кипели в нем, вызывали физическую дрожь, покалывание в мышцах.
Мысли стремительно носились вокруг единственного предмета, который в тот миг олицетворял центр мироздания. И этим центром, ядром, этой бриллиантовой песчинкой, вокруг которой все и было закручено, от начала начал, был он сам.
С этого мгновения его эго разрасталось, словно плесень в питательной среде, переваривая дружбу, любовь, сыновний долг. С этого дня он вступил во взрослую жизнь. Юношеские обиды и ссоры, вздор и пустяки, необходимые как залог дружбы на всю жизнь, теперь требовали растянутой и изощренной мести. Превосходство над ним – вызывало огонь на уничтожение. Измерением любви стали… нет, он никого больше не любил.
С годами характер, сформированный в одночасье, лишь претерпевал метаморфозу, известную под термином мимикрия. Свойство это распускалось нежным бутоном в сложном характере юноши.
Через несколько лет, необузданный юношеский эгоцентризм сменился на звериную безжалостность, холодный расчет и неправдоподобное упорство.
Такие качества не остаются невостребованными.
Сначала “случилась” армия.
Последние школьные годы пронеслись, как короткий летний дождь, и только констатировали, что спортивная карьера ему не светит! По очевидной для всех причине: спорт – это труд и пот, грязь мокрых полей и изнуряющая жажда тренировок, боль и кровь падений и ударов, и объективное признание того, что ты – никогда не станешь лучшим, потому что есть Пеле, Боби Мур, Стрельцов. Все это изначально перечеркивало жирным черным крестом чувство радости от будущих побед и ту эйфорию, возникающую где-то в спинном мозге, когда слышится как двадцать тысяч человек орут в унисон твое имя.
Его отчислили из команды. И он проглотил обиду.
Вопрос “что делать?” – чеканил шаг.
Продолжать учебу или идти работать? Ни то, ни другое не входило в его планы. Армейская служба высветилась как единственная альтернатива. (Имел значение и последний аргумент – уклонение от воинской обязанности грозило многими осложнениями). И он, как и тысячи его сверстников, оказался на призывном пункте.
Далее – нестройная колонна, одетых в плохонькое, семнадцатилетних парней прошагала по центру города. Вокзал. Плацкартный вагон. Казарма. Триста коек, стоящих через тумбочку. Солдатская роба и сапоги. Первый удар в лицо от “деда”. Хлесткий, сильный. Просто так!
Тот солдат был обычным деревенским парнем. Не злодей, не убийца. Он бил, потому что год назад били его. Он, не напрягая свой скудненький умишко, искренне считал, что так – положено. Загляни он в глаза подвернувшегося под руку паренька, может быть и рассмотрел бы в них черную пропасть ненависти, смертельную. Был бы шанс убежать.
Утерев рукавом гимнастерки кровавые сопли и улыбнувшись разбитыми губами, Николай медленно, смотря строго перед собой, молча отошел на безопасное расстояние. Но сделав лишь первый шаг, он уже знал, ударивший его, умрет. Оставалось уточнить: где, когда и как.
Пропитанная запахом немытых тел, тухлым запахом старого белья, грязных одеял и матрацев, хлорки, смешанной с запахом сортира, наполненная звуком разнокалиберного храпа, сопенья и хрюканья, скрипом ржавых коек, ночь в казарме – то, что надо, чтобы придумать и разработать до мельчайших деталей план первого убийства. Первого в жизни Николая Котова.
Он лежал на койке, на спине, абсолютно неподвижно, плотно, но не жмурясь, закрыв глаза, чуть запрокинув голову назад, расслабив плечи и раскинув руки вдоль туловища. Его дыхание было свободным и глубоким, а пульс редким – пятьдесят ударов в минуту. Ни один мускул его тела не дрогнул, пока его мозг, под воздействием каких-то еще не раскрытых, не установленных гормонов или ферментов, создавал, а точнее, синтезировал и прокручивал, словно ленту видео, отснятую классным режиссером, сцену убийства, по ходу дела уточняя детали, инстинктивно отыскивая оптимальный вариант.
Когда в 6.00. дневальный в голос прокричал “Подъем!”, оповещая о начале нового дня, заполненного, как и череда предыдущих, преодолением “тягот и лишений воинской службы”, сон Ника был ровным и спокойным, как у человека без внутренних противоречий и умеющего решать поставленные перед ним задачи.
Первые три недели солдатского “бытия” прошли гладко. Выполняя приказы и правила нового распорядка своей жизни, Ник как бы наблюдал за всем происходящим со стороны, обособившись за “берлинской” стеной своего эгоизма. Его лицо потеряло подростковую округлость, стало суше и, казалось, чуть вытянулось. Глаза, скрываемые от других легким наклоном головы вперед, уже не выдавали чувств.
…Так неспокойный океан, во время штиля, напоминает мутное болото.
…И лишь лучший в мире компьютер, именуемый человеческим мозгом, чьей постоянной, бесшумной, непредсказуемой работе нельзя помешать, продолжал накапливать биты информации, продолжал собирать и сортировать, фиксировать полезное и отбрасывать не существенное, просчитывать варианты, рационализируя действие до почти гениальной простоты.
И вот наконец настал тот день, когда рядовой второго года службы Федоров Алексей не проснулся по команде.
– Леха, сука, подъем, – скорее проворчал, чем потребовал дневальный, сопроводив, однако, свои слова вялым пинком без определенного места назначения.
– Оставь, нажрался он вчера.
– В одиночку?
– Ага.
– Вот сука.
На этом дискуссия, что делать с непроснувшимся телом, закончилась и старослужащие, презрительно кривя губы, разбрелись кто покурить, кто сполоснуть опухшее со сна лицо.
Через полчаса казарма опустела и тишина просторного помещения, не нарушаемая изнутри, наконец-то приобрела зловещий характер.
В три часа дня во время короткого солдатского безделья к койке Федорова приблизился рядовой Сидоренко.
К тому времени Федоров был мертв в течение четырнадцати часов и тело имело очевидные признаки наступившей смерти. Лицо оплыло и приобрело однородную… нет, не бледность, а желтизну. Роговица глаз помутнела, губы высохли, язык распух и его кончик, раздвинув зубы, появился изо рта. Кисть правой руки, свисавшая с койки, отекла, а пальцы приобрели синюшную окраску.
В армии Сидоренко многое повидал и узнал. Довелось ему сталкиваться и со смертью. На первом году службы он и еще трое новобранцев, дрожа от страха и зажимая носы пальцами, вытаскивали из канализационного люка тело паренька, повесившегося там. Мальчишка не сумел приспособиться к “скотской” жизни в военной части и не придумал ничего лучшего. Видел он и своего товарища Мишку Кольцова, забитого насмерть пьяным сержантом. Они дружили с детства, вместе уходили служить, надеялись вернуться вместе. С того времени прошел год, но до сих пор вдруг выплывало из темноты мертвое Мишкино лицо, разбитое до неузнаваемости, покрытое коркой засохшей крови. В общем, кое-что повидал рядовой Сидоренко и уже заболел цинизмом и равнодушием. Поэтому, обнаружив труп, остался абсолютно спокоен: не заорал, не заохал. Немного пугала непонятная причина смерти, да беспокоил тот факт, что именно он, Сидоренко, нес вахту этой ночью. Он закурил, чуть подтянул одеяло, накрыв Федорова с головой, и пошел искать капитана, командира роты.
Когда около восьми часов вечера в казарму вернулись измотанные долгим жарким днем, потные, грязные, отупевшие от усталости и крика командиров, новоиспеченные солдаты, ни тела рядового Федорова, ни обнаружившего его Сидоренко в казарме не оказалось.
– Слыхал, Леха, сука, откинулся.
– Ну да, бля? Как, когда, бля?
– Выжрал в одного, бля, что-то не то!
– А нефига в одного! Бля!
Кто-то в курилке смачно сплюнул и, побросав бычки, солдаты побрели готовиться к отбою. Посмертные слова прозвучали!
Но Сидоренко в роту не вернулся. О нем жалели. Он слыл веселым, компанейским парнем.
Лежа на койке, перед тем как погрузиться в крепкий и здоровый сон, Ник еще раз пережил события предыдущей ночи. Их воспроизведение в его патологическом сознании не носило характер яркого психологического впечатления. Это был просто детальный анализ своих действий со стороны.
За пару недель до описываемых событий Ник начал подкармливать, а точнее подпаивать приговоренного им к смерти. Ежевечерне рядовой Федоров стал находить под своей замызганной армейской подушкой чистенькую, сияющую кристальной прозрачностью, вожделенную и манящую бутылку водки. С момента ее обнаружения и до момента сдергивания пробки «за козырек», времени поразмыслить над тем, откуда она, желанная, взялась, естественно, не оставалось. Далее, мыслительный процесс приостанавливался окончательно и Федоров погружался если не в забытье, то, значит, в сон без сновидений.
В течение первой недели с начала проведения «операции» Ник убедился в том, что, во-первых, удержаться от употребления напитка всего и сразу Федоров не может, а во-вторых, степень его бессознательного состояния после этого такова, что с его телом возможны практически любые манипуляции. Без противодействия. Вплоть до изнасилования. (Но этот вариант как месть не рассматривался).
То, что солдат, несущий ночную вахту спит, как и триста его товарищей по казарме, тоже ни для кого не являлось секретом, и Ник обоснованно рассчитывал, что никто не помешает исполнению задуманного.
Около часа ночи он поднялся со своей койки.
Луна в эту ясную летнюю ночь полноценным округлым блином ярко высвечивала среди мерцающих звездочек, и её мягкий голубоватый свет вливался в казарму через три больших окна, расположенных с одной стороны – противоположная стена была глухой, резко обозначая контуры предметов, но лишь слегка касался той части помещения, где спал пьяный Федоров.
Тщательно расправив портянки, помня, что и небольшая мозоль или потертость на стопе доставляют большие страдания, Ник натянул сапоги. Не таясь, звук шагов полностью поглощался ночным звуковым фоном, легко лавируя в тесных рядах, он подошел к кровати Федорова и склонился над спящим. Бережно, двумя руками поправил голову на подушке, расположив ее на боку. Извлек зажатый в левой ладони трехдюймовый гвоздь и аккуратно ввел его в ушную раковину. Левой рукой чуть придавил голову к подушке, одновременно, на всякий случай, зажимая рот, а правой короткий сильным движением вогнал гвоздь в ухо до шляпки.
Металлический стержень легко разорвал барабанную перепонку, раскрошил миниатюрные косточки внутреннего слухового прохода и беспрепятственно вошел в мозг. Продвигаясь вперед, он смял и разорвал тысячи нервных окончаний, именуемых нейронами и синапсами, повредил сотни тонюсеньких капиллярных сосудов, сетью пронизывающих мозг, и наконец достиг и разорвал венечную артерию и кровь под давлением сто шестьдесят мм. рт. ст. излилась в мозговое вещество, обильно пропитав его и насытив ярко-алым колером. С последним поступательным движением заточенный кончик достиг тонкой оболочки четвертого мозгового желудочка – полости, содержащей спинномозговую жидкость. Травма последнего вызвала резкую декомпрессию в системе спинного мозга и, как следствие, полный паралич всех спинномозговых нервов. Смерть наступила мгновенно.
Потратив секунду на раздумье, Ник не вытащил гвоздь. Инстинкт подсказал ему, что удаляя его, он вызовет кровотечение из раны, пусть и не значительное. Лишняя грязь. Можно замараться. Не имея специальных знаний, он представлял, что через несколько минут кровь свернется и вот тогда представится возможность забрать орудие преступления – улику – без лишнего риска.
Он пришел через час, успев полноценно вздремнуть. Подцепил двумя пальцами шляпку гвоздя и легко вытянул из ткани тела. Как он и предвидел, все произошло бескровно. Послюнявив кусочек туалетной бумаги, он осторожно протер ушную раковину. Это был последний штрих.
На обратной дороге, перед тем как лечь, он зашел в туалет, опорожнил мочевой пузырь и, спуская воду, бросил в унитаз ненужный гвоздь и маленький кусочек бумажки, чуть-чуть запачканный кровью.
В течение последующих полутора лет службы, Ник почти не вспоминал об этом эпизоде. Тот день отложился на задворках его памяти, как будничный, один из череды скучных, томительных, похожих друг на друга, как армейские сапоги – один из многих дней, развеянный по времени пылью проселочных дорог.
Глава XI
– Эй, я тебя где-то видел, – высокий длинноволосый брюнет с нагловатой ухмылкой ткнул указательным пальцем Николаю в плечо.
Николай мгновенно напрягся. Он сидел за крайним столиком, подальше от стойки бара, и цедил одну единственную за весь вечер кружку жидкого пива все, что позволял он себе, нарушая строгий спортивный режим. Стараясь, чтобы это выглядело естественно, он не спеша отодвинул кружку на край стола, освободив пространство перед сжатыми в кулаки руками, и исподлобья взглянул на говорившего. И тут же быстро, но внимательно оглядел зал – в случайные встречи он не верил. Боковым зрением Николай уловил движение, исходящее из полутемноты зала. Среди пьяно-ленивой тусовки, перетаптывающейся обычно на одном месте, вдруг наметилось перемещение с явным акцентом в его сторону. Через минуту он уже определенно выделил три или даже четыре широкоплечие фигуры с коротко стриженными затылками, перекрывающие ему пути отхода.
– Эй, я с тобой разговариваю! Я же тебя знаю! – одетый в длинный кожаный плащ, туго перетянутый в поясе, незнакомец по-прежнему стоял перед Николаем, покачиваясь на каблуках и демонстративно не вытаскивая руки из карманов.
– А я тебя – нет, – процедил Николай с расстановкой. И соврал. И высокая спортивная фигура, и насмешливые серые глаза и голос, а точнее веселая жизнерадостная интонация, казались узнаваемыми.
– Врешь, знаешь. А забыл – напомним, – весело проговорил брюнет.
Ждать далее – не имело никакого смысла. Сгруппировавшись, как перед прыжком, Николай резко толкнул стол в сторону, пружинисто вскочил и концентрированным стремительным кроссом выбросил вперед правую руку. И опоздал. Кулак рассек пустоту и Николай с трудом сохранил равновесие, двигаясь по инерции вперед и чуть влево, вслед за своим кулаком… Загрохотал опрокинутый стол. С характерным звоном раскололась тяжелая пивная кружка. Улыбчивый брюнет, ни на грамм не утратив своего хладнокровия, шагнул вправо, пропуская летевшего ему навстречу Николая, наконец-то, вытащил руки из карманов и, все с той же улыбкой, свободным плавным движением обеих рук толкнул Николая в правое плечо, добавляя его непроизвольному движению побольше инерции. Коротко охнув, Николай всем корпусом врезался в стену.
“Айкидо. Ни карате, ни самбо. Айкидо. Точно!”
Черная ядовитая змейка страха откуда-то из глубины желудка медленно поползла вверх, поближе к сердцу. Умение использовать даже простые элементы айкидо само по себе свидетельствовало о высокой степени мастерства в тонком искусстве восточных единоборств.
Едва не упав, Николай развернулся и вновь оказался лицом к лицу с высоким брюнетом.
На шаг сзади, полукругом выстроились подтянувшиеся к месту драки “качки”. Спокойные позы и ленивые, брезгливые выражение их лиц никого не могли обмануть – ни Николая, ни испуганных посетителей пивной.
Помещение стремительно пустело. Никому не хотелось подвернуться под горячую руку разбирающихся между собой бандитов.
– Восстановилась память? Прошла амнезия? – хмыкнул брюнет.
Последние слова своего главаря четыре “торпеды” посчитали шуткой и поменяли сонно-равнодушное выражение широких лиц на кривые ухмылки.
Николай стоял перед ними, чуть пригнувшись, на полусогнутых напряженных ногах, выставив вперед обе руки, правой прикрывая подбородок, левой – область печени и отступив от стены на шаг – полтора, чтобы сохранить пространство для маневра, готовый и драться, и отступать. Драться он умел, драк не боялся, но сейчас ясно понимал, что шансов выпутаться без потерь из сложившейся ситуации у него практически нет.
– А ну-ка, Витек, проверь его еще раз, – в наступившей в зале тишине спокойный голос брюнета в этот раз прозвучал зловеще, а не весело.
Бандит, стоящей слева от Николая, самый низкорослый, но такой же широкоплечий, как и все остальные, неожиданно подпрыгнул, резко выбросив вперед правую ногу.
Удар пробил блок, которым Николай пытался себя защитить, и пришелся в грудь, в область сердца и вновь отбросил его к стене. И опять он устоял на ногах. Но теперь каждый вздох его стал отдаваться резкой болью.
– Что надо? – хрипло выдохнул Николай.
Никто из стоящих перед ним не собирался его добивать. Окружившие его бандиты смотрели на него с любопытством.
Николай выпрямился. Демонстрация сопротивления потеряла смысл. Теперь все зависело от того, что от него хотят.
– Ребро не сломано? А то нам больные не требуются, – примирительно, и опять с той же жизнерадостной интонацией, с коей он завязал разговор, пошутил брюнет. Все пятеро заулыбались.