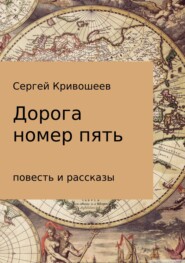 Полная версия
Полная версияДорога номер пять
Уважаемый господин президент! Написать я Вам решился после того, как прочитал в Вашей газете объявление о проведении конкурса на лучшее письмо президенту. Эта история началась накануне первых в России президентских выборов. По делам мне пришлось лететь в Хабаровск. Шел я по улице, как вдруг меня остановил взгляд монашеского вида старушки. Подозвав меня, она сказала: «Сынок, тебе выпала доля собирать державу. С нынешнего года руководить страной станет человек, который рассыпет безбожников, но при этом всем будет плохо. После него наступит твой черед. Готовься». Старушка растворилась в толпе, а я долго стоял, пытаясь осмыслить услышанное. Вернувшись домой, я рассказал жене обо всем, а она восприняла все спокойно. «Можно, конечно, и президентом поработать, – сказала она, – но в этой развратившейся Москву жить с детьми я не хочу». Как любой уважающий себя мужчина, я прислушался к мнению своей жены и, конечно, собирать чемоданы для срочного переезда в Москву мы не стали. А через четыре года произошли фантастические события, в результате которых я с семьей оказался в столице. Совершенно неожиданно местные власти стали выдавливать меня из города. Знакомые в структурах на мои вопросы о причинах давления объяснили: заказ поступил от губернатора, и при этом удивлялись: чем я, средний предприниматель, мог ему насолить? Разгадка оказалась фантастической. Однажды ко мне пришла женщина и рассказала, что уже несколько лет посещает тайное общество, которое общается с нечистыми духами. Руководителем общества является… жена губернатора. Войдя однажды, как они говорят, «в контакт», она выяснила, что погубит ее мужа человек с моими данными. Ей и был я обязан пристальным вниманием к себе. Когда знакомый священник, и не только он один, подтвердил существование такого сатанинского кружка, я бежал в маленький подмосковный городок и сейчас работаю в Москве. В ходе прошлогодних выборов я был совершенно спокоен, поскольку знал, что Президентом вновь станете Вы. Должен честно сказать, что не отношу себя к сторонникам вашей внутренней и внешней политики, за исключением нескольких последних действительно державных дел. Невзирая на это, от всей души желаю Вас крепкого здоровья и долгих лет жизни. А президентом быть я не хочу.
Сергей МАЛЫХ.
Читатель газеты вряд ли мог, на самом деле, толком понять, о чем сказано в письме. Оно опубликовано не полностью. В нем не было главного – слов о том, что, если Президент действительно любит Россию, он должен уйти сам, потому что ушло его время. Во многом на его долю выпало разрушать, а теперь пора созидать и собирать, причем жестко, без истерик и ненужных, лишних жертв, но при этом железной рукой. А потому только люди, владеющие силовыми методами борьбы и всей необходимой, прежде всего секретной, информацией, знающие тайную подоплеку мировой схватки и всю неизмеримую огромность участвующих в ней сил, способны взять на себя полноту власти и одновременно обезпечить Президенту, уже бывшему, уважение и неприкосновенность, не дать разгуляться стихии во многом справедливого гнева и ненависти тех, кто вначале взгромоздил уральского мужика на танк, а через год уже требовал повесить его и всех, кто с ним, на фонарях. Не было понятно и почему именно к автору письма подошла странная вестница и предрекла ему, «простому предпринимателю», как он сам себя назвал, собирание державы. Все в этот газетный вариант не вошло. Так или иначе, полный текст письма был передан Президенту в двух экземплярах – один официально, главным редактором газеты по кремлевской почте, и неизвестно, попал ли он в руки «первого», а второй – по совершенно иным каналам, и он точно попал.
Через месяц после публикации письма упал рубль. Информация о том, что это готовится, поступала заранее из многих источников и ложилась на стол Президенту, но он не хотел ничего слушать – казалось, он готов расстаться очень со многими иллюзиями своего прошлого, и с либеральной риторикой, и с раздачей суверенитетов, пытался нащупать самостоятельные пути в отношении и с Западом, и с Востоком, казалось, вот-вот окончательно утвердится единое государство с Белоруссией – единая Русь, где-то на горизонте маячило нечто подобное и с Украиной и Казахстаном, но вот экономику он всю отдал тем, кто заверял его уже десять лет: «Все решат деньги, все решит рынок, все решит частная собственность», и не хотел отдавать никому другому. Ему сообщали, что новый премьер также имеет серьезные интересы на Западе, к тому же еще и связи с одной из самых влиятельных американских сект, но все напрасно – если Президента кто-то очаровывал, он уже не разочаровывался никогда. Делом о падении рубля начало заниматься аналитическое управление, в котором Сазонов был уже первым заместителем начальника, но всю работу прикрыли по личному указанию. Тем временем цены поднялись едва ли не в пять-шесть раз, почти как при Гайдаре, вновь повсюду стояли огромные очереди, а самое главное – мгновенно разорился и исчез в никуда тот самый «средний класс», на который так уповали, как они уверяли сами, новые реформаторы. Те же предприниматели – их были единицы – кто сохранился, разбогатели еще неслыханнее. Впрочем, половину своего времени они проводили, как хотя бы семейство Матюхиных, не в России: Владимир Геннадиевич оставил губернаторский пост и стал директором совместного российско-американско-британского банка, авуары которого росли, как на дрожжах. Матюхин тоже жил теперь под Москвой, не там, где Гусев – в небольшом научном городке на Юго-Западе – а прямо на самой Рублевке, возле особняка особо покровительствовавшего дочери Президента нового мультимиллиардера Бориса Львовича Пинского.
Когда случился денежный обвал, Президент, как у него это обычно бывало, на две недели исчез, а потом появился, все-таки снял премьера, отправив его, впрочем, баллотироваться губернатором в Нижний на место ушедшего и ставшего лидером партии «Союз российских собственников» его же по нижегородскому комсомолу приятеля, и провел через Думу пожилого академика и одновременно разведчика, возглавлявшего многие годы Службу Внешней разведки. Гусев лично не был к нему близок, но Сазонов его знал хорошо и даже вместе работал и сказал Гусеву, что, похоже, что-то стало сдвигаться, но он и наш, и не только наш, так вот то, что Первый его назначил, исходило не от нас, хотя те, кто на самом деле его выдвигал, думского оратора Гошу Яблокова использовали втемную, как всегда, и лопух Гоша вообще ничего не подозревал, когда произносил свою пламенную речь.
Как-то осенним вечером Гусев приехал домой не так поздно и уселся в кресле у торшера с газетой в руках. Анна Васильевна, подавая ему чашку чая, спросила:
– Сережа, уже два месяца прошло после твоей публикации. По-моему, ничего не происходит. Да и что может происходить, если редакция вычеркнула то, ради чего это письмо писалось.
– Знаешь, я не хотел тебя посвящать в эти детали, но если ты настаиваешь…
– Прошу!
– Хорошо, Аня. Редактор газеты действительно вычеркнул слова о том, что Верховный уйдет досрочно и сделает преемником представителя спецслужб. Дело не в этом. А в том, что письмо доведено до Президента в своем подлинном виде.
– Ну, и как он его воспринял?
– Аня, я отвечу вопросом на вопрос. Кто стал премьером? Вот видишь? А ты говоришь, ничего не меняется. На самом деле это только начало. То, что премьер и там, и там, и по взглядам своим и там, и там, и по всему – ну, ты понимаешь – это сейчас хорошо. Нельзя резко. Все идет правильно. Вот, ты послушай, что газета «Труд» написала:
«Запад “прощается” с Россией. Многие зарубежные наблюдатели, среди которых и убежденный русофоб Збигнев Бжезинский, и советолог-либерал Питер Реддуэй, и с симпатией относящийся к нашей стране Джульетто Кьеза или Джузеппе Боффа – все они в той или иной степени хоронят наше отечество, считая, что оно навсегда уходит с исторической сцены. Нас хоронят. Одни со злорадством, другие – с грустью. А реальные дела западных политиков (расширение НАТО на восток, очередной отказ ЕС признать Россию страной с рыночной экономикой, реальное включение в военную орбиту НАТО армии Украины, стран Балтии и т.д.) говорят о том, что на России как на великой державе Запад хотел бы поставить крест. За всем этим есть логика. Кризис, переживаемый нашей страной (политический, экономический, культурный, социальный) настолько глубок, что выбраться из него, кажется, невозможно. Действительно, можно констатировать, что политики, представляющие как исполнительную власть, так и парламентскую «системную оппозицию», подвели страну к краю пропасти, и на повестке дня стоит вопрос о сохранении Российской Федерации как самостоятельного, независимого и целостного государства. Однако, как показывают опросы общественного мнения, россияне верят в то, что наша страна возродится как великая, процветающая держава, верят в неизбежность Русского Чуда – чуда экономического и духовного. И, на мой взгляд, у российского возрождения есть два гаранта – время и люди».
– А кто написал? – интересуется Анна.
– Подписано – «Иванов». Псевдоним, конечно. Какая разница? Ты два года назад такое читала?
* * *
Зимой из командировки приехал Игорь Сазонов и сразу же позвонил. Предложил встретиться.
– И где?
– Слушай, давай там же, где когда-то, – под Нахабином. Место помнишь? А то лет десять уже прошло.
– Да, десять лет. Помню.
– Ну все, тогда через полтора часа, если нет возражений.
– Возражений нет.
– Значит, жду.
В лесу припорошило, к тому же и сам лес изменился – и ели выросли, и низы подлеском подзаросли – краснела сухая бузина – и тропу ту нашли, хотя и с трудом. Сазоновскую «Волгу» и гусевскую «Хонду», привезенную еще тогда из Сиэтла, оставили на бетонке, потому особенно углубляться не стали.
– Ну что же, – начал Сазонов, – как раньше говорили, «приходит время перемен». Только теперь не таких, как раньше.
– Судя по сводкам из Совбеза – да, – ответил Гусев. – И, похоже, бизнес с государством стали как-то вместе работать. Первого нет почти все время. Кто рулит? Термос?
(Термосом в своем кругу называли премьера).
– Отчасти. Но не только. Мы с тобой уже рулим. Ты разве до сих пор не понял? Мы же еще тогда, у тебя, в Чернокрылове, на даче, говорили: кроме нас, больше некому. А раз некому, а страна до сих пор стоит, значит, мы и рулим.
– Логично.
– Самое главное: Россия развивается своим естественным путем, по своим внутренним законам, и ей не надо мешать. А ей всегда мешали – я не о людях даже говорю, а о об этих дурацких надстройках – то коммунистической, то демократической. Наше-то дело простое – следить, чтобы никто не мешал, не лез в естественный ход событий, который определяется – ну, как бы сказать – некоей тягой, тягой истории, тягой самой земли. А место очерчено. Посмотри на карту – от Карпат и до Тихого океана, от Ледовитого океана до Памира – одно пространство, по сути – чаша, котловина. И всегда, в конце концов, одно государство – скифы, гунны, хазары, Чингизхан, затем Москва. Хозяева менялись – суть оставалась. И никогда никакой демократии. И так столетия – до этого «меченого» дурака.
– Все правильно. Только вот русские у тебя где? А то все – гунны, Чингизхан…
– Подожди, и до этого дойдем. Так вот – когда загоняют медведя в клетку для лисы, он ее все равно переломает. А, переломав, еще взбесится и всех передавит. Когда у нас ввели эту демократию, медведя запихнули в лисью клетку. Что остается? – клетку перемонтировать – расширить до размеров медведя. И вот тут, кроме нас, никого нет. Но об этом тоже потом. Смотри – каждые выборы у нас тряска. На Западе – не тряска, потому что там это дело стало естественное, веками наработанное. Об этом они не говорят, но они столько своей же кровищи за три-четыре века за свою демократию и свой капитализм пролили, сколько нам и не снилось и никогда не приснится. Англичане за одни свои огораживания полстраны в гроб вогнали – а мы все – Иван Грозный, Сталин… После всего этого у них выборы – не тряска. А у нас – тряска. Так хватит. Или давайте опять за идею людей гнобить. Да еще и рисковать каждые четыре года – пронесет-не пронесет. И в какой-то момент, однажды – не пронесет. Так что нам – за эту демократию, за этот флажок триста или четыреста лет свой народ мучить? А уж не говорю, сколько денег во все это каждый раз вбухивают. Вот нас в свое время учили – при царе были расходы на двор, они разоряли крестьян. Были? Да, были. Были и лишние, и даже много лишних. Но по сравнению с нашими расходами на выборы это копейки. К тому же любые выборы – это ложь. И на Западе тоже. Весь смысл в их управляемости. Как товарищ Сталин говорил: «Нэ важна, как прагаласуют, важна, как пасчитают» – Сазонов произнес это с нарочитым акцентом. Но на Запада триста лет учились считать и управлять, а у нас на это времени нет. Да и все равно не научимся – не наше это. Мы не можем каждые четыре года рисковать страной ради пустых словес. Значит, первая и главная задача – уйти от выборов. Как это сделать? Легче всего взять и просто все смести. Как в шахматах – фигуры на пол. «Китайская ничья» называется. Есть у нас такая возможность? Есть. Кстати, накануне Беловежских соглашений Горбачев опомнился, вызвал к себе военных, говорил: «Действуйте. Все будет ваше». Они отказались, и правильно сделали. Многие нам говорят: не бойтесь, делайте, как китайцы на Тяньаньмынь. Это тоже технически возможно. Дело не в том, что будут интеллигентские протесты. И не в том, что Запад вмешается, – пока у нас есть ядерное оружие, он не вмешается, прямо, по крайней мере. Он будет подбивать соседей, раздувать у нас национальные проблемы. Это особая тема. Хотя в перспективе война все равно будет, но не сейчас. Повторяю, щит у нас пока есть. Дело в том, что все те, кто наворовал в регионах – даже самых русских – не хотят жить в государстве, которое будет работать на едином дыхании. Они тут же начнут – и вот тут-то им станет помогать Запад – отделяться, а вот этого мы остановить не сможем. Ты работал в Северске и сам знаешь – если бы Матюхин – или кто там сейчас новый? – дал денег, много денег – жителям на неповиновение, они бы забыли все обиды и за одну ночь превратились бы в хохлов – «Москва, геть!» И так везде. Именно поэтому резкие движения – не выход. Значит, надо сделать так, чтобы все новое выросло как бы из того, что сейчас. Нужны люди – или человек – которые, не ломая того, что сейчас, перевернут это, и все станет совсем другим.
– То есть, ты хочешь сказать…
– Я ничего не хочу сказать. Это решаю не я. Но раз я с тобой говорю, значит, так или иначе нам с тобой – в каком качестве, увидим – придется в этом участвовать. Готовым надо быть ко всему – к самому неожиданному. («Неужели все-таки об этом говорила та старушка?» – вспомнил Гусев). Сейчас мы идем командой. Все вместе. Но дальше придется решать вопрос о государстве как таковом. И здесь у нас есть только один выбор – Царь или вождь. Я просил бы тебя подумать над этим.
– На самом деле я давно думаю.
– И…
– Я все-таки, если честно, склоняюсь к монархии. Ты знаешь, я ведь теперь в церковь хожу.
– Знаю. И я хожу. Но не забывай – именно Церковь была одной из движущих сил февраля. Кроме очень немногих иерархов, таких, как Макарий Невский, Иосиф Петроградский – их потом называли «распутинцы» – все были за республику, включая будущего Патриарха Тихона. Почему?
– Ты знаешь, я сейчас не готов на это ответить.
– Честно говоря, я тоже. Но у тебя есть ведь человек…
– Да, ты его знаешь.
– Знаю. Поговори с ним. Но я тебе скажу так. С точки зрения, так сказать, нашей, профессиональной. Есть преимущества и недостатки и у того, и у другого. У Царя преимущества такие. Ему не надо, идя к власти, делать карьеру, а, значит, переступать через трупы. Он чист, а потому может опираться на кого угодно. Власть получает по праву рождения. Стабильность государства гарантируется, поскольку сам Царь, прежде всего, гарант территориальной целостности. Власть вне идеологий. Единственная идеология – верность России и историческая преемственность. Власть вне партий. Лучше всего, если их не будет вовсе, но это сейчас детали. Первая трудность, самая большая – народ может монархию не принять. В других случаях со мнением народа можно и не считаться, но тут нет, нельзя. Царь – это главный сгусток народа, его лицо. Но за восемьдесят лет народу внушили, что царь – это плохо, и сегодня до сих пор так думают почти все. Демократия – плохо, в ней все разочаровались, но и царь плохо. Одни будут говорить, что царь все равно будет за помещиков, за капиталистов, за иностранцев, а другие – что монархия устарела, не соответствует мировым стандартам и т.д., что на самом деле ерунда – там любимая демократами Англия – монархия, причем никакая не конституционная, и совсем не формальная. Швеция, Дания, Испания – да, монархии формальные. Убери короля – и ничего не случится, все будет, как и было. А попробуй убери в Англии королеву… Значит, второй аргумент против в конце концов мы отбрасываем, а вот первый – враждебность народа – увы, не можем. Тем более, что все представители Романовых, мягко говоря, сомнительны, и неизвестно, Романовы ли вообще.
– Есть Рюриковичи.
– Здесь тоже много вопросов. В общем, пока ответа нет. Теперь вторая позиция. Вождь. Плюсы. Один и главный. Для народа это будет свой. Как этого добиться, вопрос техники. Но может быть и иначе: если он действительно выйдет из народа и будет его голосом – как Гитлер. Сейчас без оценок. Или если он выйдет из числа самих же разрушителей, но сумеет использовать их оружие против них самих – как Сталин. Любовь к нему будет безграничной, и его личность будет вызывать у народа и надежду, и энтузиазм, и желание работать. Это эротика, если угодно. Но вот вождь умирает. Начинается дележ наследства. Все получает тот, кто первый урвет. А дальше? Народ остывает, он уже не будет любить второго, как первого, тем более все если не знают, то чувствуют, как этому второму досталась власть. И он начнет закрученные гайки раскручивать, чтобы угодить толпе, причем самым низменным ее чувствам. К тому же силы элиты не безпредельны – она тоже хочет пожить для себя, расслабиться. Этим воспользуются те, которым нужно все поделить, – прежде всего, люди из экономики – и всё: крути мочало, начинай сначала… В общем, вождь – это выход только в краткосрочной, но даже не в среднесрочной перспективе.
– В общем, – засмеялся Гусев, – получается примерно так: вождь это для народа вроде как любовник, а царь – законный супруг…
– Да, так и есть. Вождь это страсть. Страсть проходит. А царь – обязанности, хотя и окрашенные привязанностью. Как в семье.
– Послушай, Игорь, – задумавшись, произнес Гусев. – А если так, особенно с учетом того, что безусловно законных Романовых не осталось. Мы приводим к власти своего человека, а затем он меняет конституцию, назначает себе преемника – уже, скажем, на 12 или 15 лет – три или четыре срока, или даже пожизненно, а потом он себе назначит преемника, ну и так далее.
– Об этом можно подумать. Вот только вспомни, как это обернулось после Петра. Правили все, кто хочешь, – временщики, иностранцы, кто угодно, но только не сам преемник. Да завещание ни разу и не было толком написано, не говоря уже о том, что применено. Императоров ставала гвардия. Это вроде как сейчас мы. Так что нам – каждый год перевороты устраивать? А потом какая-нибудь соседняя спецслужба сковырнет нас – твой Булгас, например, – и что?
– А здесь вот так, – ответил Гусев. – Я об этом сам думал много. Противостояние наше с «сапогами» было понятно раньше, когда мы работали на партию, а они – на государство. В 70-е они были даже лучше нас – когда у них были Огарков, Штеменко, Горшков, а над нами висел дамоклов меч ЦК. Теперь все не так. И эту войну пора кончать.
– А как ее кончить? Они для наших «сапоги», мы для них – «топтуны».
– Были топтунами, чего греха таить? И они хороши: чуть что – стрелять. Так вот – в будущем раскладе – а ты ведь ради этого меня сюда позвал – я буду прежде всего делать так, чтобы те, от кого зависит безопасность государства – кто бы ни правил – царь ли, вождь, президент – работали спаянно, как единый кулак, и желательно одной командой.
Когда ехали в Москву, пошел мокрый снег, и дворник еле успевал расчищать переднее стекло.
На следующий день Гусев с утра отправился на работу. Во дворе оставил машину, пошел к подъезду. Но что-то неожиданно остановило его – он даже не понял, что, но, повинуясь чему-то, проследовал мимо музея Маяковского, Политехнического музея – в хорошо знакомый сквер, на площадь, туда, где, заменив стоявший несколько десятилетий памятник Феликсу Дзержинскому, лежал теперь поклонный Соловецкий камень. Феликса сломали. Сломали со свистом, с воплями, гикая и гыкая – полупьяная толпа, которой все равно, что ломать. Точно так же, гикая и гыкая, она задыхалась от восторга, ломая храмы и памятники Русским Царям. «Ты идешь к женщине? Не забудь захватить с собой кнут!» – почему-то вспомнились Гусеву слова Ницше, которые часто любил повторять Путевской. Тогда, в 91-м, безсильно сжимая зубы, стояли у окон генералы, и на глаза их наворачивались слезы. Впрочем, не у всех – многие уже собирали чемоданы, готовясь к переходу в новые структуры, возглавлять частные – частные ли? – или тоже государственные, только других государств? – разведки банков и крупных компаний. Никогда не забыть Филиппа Бобкова, приглашенного самим – ! – Гусинским , по совместительству, президентом Всемирного какого-то там конгресса, и не одного. Мерзко. Но только вот сам Дзержинский – не памятник, а живой? Разве он, разгоряченный кокаином, вместе с Лениным, Свердловым, Троцким не отдавал приказы об уничтожении русских людей? Полстаницы, откуда Гусев, было расстреляно. А Царская Семья? С кем накануне ее расстрела ездил в Швейцарию встречаться этот польский шляхтич, не доучившийся на ксендза? Гусеву почему-то вдруг захотелось ощутить и понять этот камень, дотронуться до него рукой, как иногда делают, уходя с кладбища, с дорогой могилы. «Имею ли право? Сам я кто – из жертв или из палачей?» – стучало в мозгу Сергея Андреевича. Подошел. Потрогал камень. Постоял. Пока внезапно не возникло в сознании очень простое очертание. Семнадцатый год – семнадцатый век. Камень-то взят был из монастыря Соловецкого, в котором разместился тот самый СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения, где по большей части держали епископов и священников. А они кто? Наследники тех, кто отдавал стрельцам приказ убивать в том же Соловецком монастыре стоявшую насмерть за древлее благочестие, за двуперстние да за Духа Святаго истиннаго его братию? А те? Не велели ли рубить священные рощи и дубы, не сжигали ли свои же голубиные книги? Сколько же можно? – как удар молота бил изнутри по черепной кости Гусева один и тот же вопрос. Сколько можно?
Гусев развернулся и пошел к «Большому Дому». Зашел, достал пропуск. Двери лифта захлопнулись, затем открылись, – сами собой или Гусев открыл их ключом? – двери кабинета, по привычке опустился в старое кожаное кресло у стоящего здесь уже несколько десятилетий покрытого зеленым сукном стола и задумался. Встал, посмотрел на давно стоящий на столе в рамке портрет все того же Дзержинского. Он и Гусев слово смотрят друг на друга и – сколько лет прошло! – друг друга не совсем понимают… Гусев не убирает портрет, нет, но невольным движением руки слегка отодвигает в угол. Снова задумывается. Уже как-то спокойнее, не с такой болью, как там, у камня.
Внезапно раздается стук в дверь.
– Войдите.
Гусев снова тянется рукой к Дзержинскому, словно хочет подвинуть его на старое место, но не успевает. Вошла молодая женщина – надо же, его старый агент «Татьяна».
– А, Вера! Ты приехала! Заходи, пожалуйста. Рад, что ты дома и в добром здравии.
– Сергей Андреевич, что же это такое… Я слышала – мне сказали, что вы увольняетесь из органов и сдаете дела.
– Успокойся, Вера. Ты же сама знаешь – у нас бывших не бывает. Все будет нормально. Ты сама новой работой довольна?
– Да, меня устраивает, спасибо.
– Платят как?
– Ну, хотелось бы побольше, конечно, но ничего. Жить можно.
– Замуж не собираешься?
– Да какое замуж? Простите за откровенность – после дебила этого я еще долго не соберусь. Да и наши становятся такими же, только еще хуже. Жадные стали, как американцы, а пьют, как раньше – больше еще. Ну, и тот хоть мне не изменял – протестант… А эти по бабам ходят без зазрения совести и при этом все кресты на себя навесили. Простите, это так, бабье…
– Ну ладно, сама во всем разберешься – чего тебе надо, чего не надо. Но ты должна знать: не могу, не имею я права проигрывать. Этим всем. Теперь по секрету. На самом деле все наоборот. Мне, похоже, предлагают одну очень ответственную должность. Называется… Не важно, как называется. Вот тут дела доделываю. А ты не грусти, мы с тобой еще поработаем.
– Вы знаете, Сергей Андреевич, я ведь вас не хотела беспокоить. Заехала тут по делам, а мне в столовой сказали.

