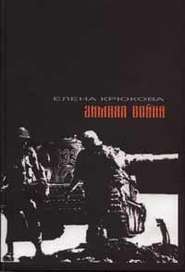скачать книгу бесплатно
Рельсы блестели под Луной солено-чешуйным, тускло-серебряным светом, как две длинные рыбины-чехонины. Послышался перестук, морозное шуршанье. Дрезина, пустая и страшная, стуча на стыках колесами, вывернулась из-за поворота и гремела по железному полотну, дразня своей безнаказанностью и ненужностью никому. Юнкера завопили:
– Поймать!.. Изловить!.. Прыгай туда, Пашка!.. Она до самой вражьей Ставки довезет!.. Героем станешь!..
Генерал, выпрямившись, как аршин проглотив, сидел на коне. Прямо у его ног лежал убитый денщик. Боже, вот жизнь. Суета, зажиганье свечей, пироги в Рождество, саблю наточить, ствол ружья шомполом почистить; стоять ночь напролет у ярко освещенных окон телеграфа, пытаясь отправить срочную телеграмму – не военную, нет, – любимой женщине: «ВСЕГДА ТОБОЙ ЖДИ ВЕРНУСЬ МЕНЯ НЕ УБЬЮТ ТВОЙ». А сквозь оконное стекло слышится треск и верещанье немыслимых телеграфных железяк, передающих на расстоянье – что?.. мысль, чувство?.. – посылающих сухие буквы, в которых – весь ужас, вся надежда…
С хребта Субугай стрелял враг. Уже было хорошо видно рассыпанные по отлогам и крутосклонам, напрочь заснеженным, будто укрытым праздничной Новогодней ватой, солдатские цепи, рассредоточенные в холодном ночном пространстве. Противник палил без перерыва, и ряды Армейцев начали редеть. Белый, светлый Крест созвездья Лебедя! Ты летишь, звездный белый Лебедь, раскинув крылья, над неравной битвой. Силы всегда неравны. Ты лучше всех знаешь, белый Лебедь, что не победит никто.
Юнкер Пашка впрыгнул в катящуюся пустую дрезину. Тут же на вагонетку налетела туча юнкеров, как зимние пчелы, они зажужжали, облепили повозку, взгромоздились на нее, засвистели, завопили: поехали!.. И-эх, ма, не страшна и смерть сама!.. Дрезина стучала колесами – вперед, вперед. Мальчишки свешивались с повозки гроздьями. Возле вытянутых в бесконечность стальных, с селедочным блеском, рельсов стоял человек. Юнкера весело закричали ему:
– Эй!.. Ты с нами?!.. Ты против нас?!..
– Стреляй в него, ребята!.. Это враг!..
– Не стреляй, Андрей, видишь, какая длинная у него шинель… по пяткам бьет… как наша… у нас такие шьют… в училище мы в таких – ходили… на плацу…
– А на башке – куколь… как у Петрушки…
– Давай к нам!.. К нам!.. В дрезину, сюда!..
Человек, высокий, в небо дыра, как пожарная каланча, глядел на вопящих мальчишек молча, из-под островерхого башлыка, из-под тряпок и марли и платков, коими от мороза было замотано его лицо. Серые, прозрачные, зелено-озерные скорбные глаза прожигали сумасшедшую лунную ночь. Ноги его были обуты в рваные, стоптанные до безобразья сапоги, и подошвы прикручены к кожаным разбитым мордам веревкой. На руке он держал винтовку, как девушку в нежном бальном танце. Штык упирался в звезды. Штык трогал острием Денеб – самую яркую звезду в созвездьи Лебедя, синюю, как сапфировый кабошон. Было видно, как человек замерз: он то и дело подносил к губам руку, обмотанную тряпьем – перчатки, что подарила ему жена – сама их шила, сама вывязывала фамильные вензеля на тыльной кожаной стороне!.. – сгорели в пожарищах Войны, в веренице утрат, – лишь образок остался, что супруга надела ему на шею, вот он, под шинелью, жжет и холодит ключицы, это святой Николай, родной святой Руси, он всегда поможет… он пошлет легкую смерть, если хорошо попросить… – и, наперекор холоду, вопреки всей зверьей лютости мира, пославшего своим людям эту нечеловеческую Войну, горели, горели вольные, летящие глаза человека, мужчины, созерцавшего с оружьем в руке бой и не вступившего в него.
– Эге-гей!.. Прощай!.. Мы едем умирать!.. Помяни нас во Царствии своем!..
Он взмахнул винтовкой, прощаясь с обреченными юнкерами. Когда же кончится ужас. Когда завершится круг времен и с лица земли исчезнет дикая тяга убивать. Он знал, что есть враг, и его надо уничтожить. Он устал уничтожать. Он хотел уйти с обмороженной, выстывшей, жесткой, как кованое серебряное блюдо, поверхности земли – внутрь, в землю. Там жар. Там гремят Преисподние трубы. Там черти жарят на сковородах всех, кто предал и продал Родину. Но там тепло. Там нет мороза. Там… образок святого Николы, ты поможешь ему и в Аду. Ад здесь, в горах, не страшней Ада там. Эшелон, в котором его, арестованного, везли в заключенье, на суд и на смерть, разбомбили. Он не знает теперь, где Семья. Он остался один. Ни карманной Библии с собою. Ни одной драгоценности, чтоб купить у вражьего офицера право на жизнь. Лишь винтовка, и немного патронов, и образок святителя Николая, тезки, на груди. Это все. Найдет ли он своих?! Как они… где они… Как там она, особенно, неизбывно любимая, младшая дочка… светленькая, вся в мать… И мальчик… не дай Бог, они найдут и убьют мальчика… Господи, спаси, сохрани…
Голубые лучи вражеских прожекторов, прочесывающих ночную пустыню, заметались, заходили по небу, по горам, по железной дороге, как Северное Сиянье. Кто враг?! Нам неизвестна его дислокация. Нет огня. Нет тепла. Ни костер разжечь. Ни влезть в вагон эшелона, в вожделенную теплушку, чтоб там скрючиться, засунуть руки меж коленей, под зад, согреться, вскипятить кружку крепкого тюремного чаю. А, ты сажал своих мужиков в тюрьмы. Ты подписывал указы. Отправлял на каторгу убийц. Миловал раскаявшихся. И все равно ты не знал, что такое – мороз. Лютый холод. Одиночество. Война. Ты ничего не знал о Войне. А вот ты окунулся в нее. Ты вкусил ее, как вкушал хлеб и вино в Церкви, плоть и кровь Божию, Святые Дары. Подними голову! Видишь, вот он, Денеб, а вот пониже и Сириус, а вот и кровавая звезда Марс. Синий цвет, красный свет. Самые горячие звезды белые. Он это помнил из курса астрономии, что во Дворце преподавал ему старый француз-гувернер. Белый серебряный крест на груди. Белые волосы Николы. Белые горы. Белый снег. Белый вдовий плат Царицы, Княгини.
Он воткнул штык в снег, оперся на винтовку и тяжело, бесслезно зарыдал.
Звезды равнодушно светили на него сверху, из эмпиреев.
А офицеры уже закусили удила. Они рвались в бой. Дворец сиял и мигал всеми потусторонними огнями на горе. Солдаты, кусая рты почернелыми от цынги зубами, нацеливали винтовки, спрыгивали с коней, ставили на уступы скал пулеметы. Тачанки тянулись, подтягивались с левого фланга. Вражеские отряды приближались. А мы?!.. а наших тут, почитай, весь дивизион!.. Не робей, ребята!.. Прорвемся!.. Рванем облегченной рысью!.. У них пушки помощнее наших будут… оружье у нас, братцы, старое… разгромят нас в пух!.. но мы все одно не сдадимся!.. А мы же герои!.. нас такими мамка сразу родила… ура-а-а!.. ура-а-а-а!..
Мортиры, похожие на мордастых моржей, стояли, нацеленные на подножье хребта Субугай. Винтовки и пулеметы так и плясали, горели в руках, и солдаты срывали зубами с рук рукавицы, чтоб ловчей, удобней было заряжать, наводить, запаливать. По снегу были разбросаны, как черные и серебристые, медные ягоды, патроны, и юнкера и солдаты поднимали их, всаживали в нутро винтовок, молились, шептали заговоры и заклинанья: порази врага, а меня оставь в живых.
– Падаем, ребята, вниз с горы!.. Они же бегут навстречу нам… наперерез!..
– Ну, с Богом… Матушка, Владычица, Царица небесная… помоги!..
Многие крестились. Рассветом и не пахло. Ночь сгущала неистовую потемень над головами в капюшонах шинелей, в шапках и башлыках, в сибирских ушанках и кожаных, изнутри выложенных мехом шлемах, и звезды сыпались на сражающихся, как сыплют хмель на новобрачных, когда они, смеясь, идут к снежной возмечтанной постели.
Вражеские солдаты бежали навстречу нам. Мы – последние солдаты Белой Армии. Мы – офицеры звезд. Мы – последняя воля нашей истерзанной земли. Где наш Царь?! Нету нашего Царя. Арестовали. Убили. Замучали до смерти. Но вот его Дворец. Может, это призрак, господа, а?!.. это нам блазнится, от голода, от ужаса, от отчаянья… Нет! Нет! Ты видишь, он – настоящий! И мы сразимся за него! И мы вернем России честь и славу! Урра!
Черные цепи живых солдат и серые, в серебристо посверкивающих под звездами шинелях, – мертвой Армии – слились, натолкнулись друг на друга, сцепились: гул и крики, и рукопашная каша, и отрывочные, беспорядочно-бредовые сухие высрелы, будто кто клацал костяшками по доскам гроба: цок-цок, цок-цок. В сухое цоканье врезался беспрерывный, оголтелый лязг пулемета. Вопль из сотен глоток, взвихрившись поземкой, поднялся к небу безумной вьюгой. Мы будем сражаться до последней крови. Мы будем сражаться до того, пока последний солдат не выпалит из своей старенькой винтовочки в вас, в тебя, посягнувшего на Святое… на самое Святое, самое Тайное…
Вперед! Ура! Рядом рельсы! Здесь, дураки, поезд командира корпуса! И у нас еще есть запасные пушки! И те ребята, юнкера, что укатили отсюда на дрезине, сейчас доберутся до расположенья нашей части, и снарядят эшелон, и пусть вы лишите нас и электричества, и телеграфа, и перекроете все дороги к продовольственным складам, и к нашему тайному арсеналу уже нельзя будет добраться, мы все равно будем сражаться!.. наша конница еще жива… еще скрипят пушки, и мы их подтащим поближе к вам, чтоб выстрелить наверняка… да, наша пехота устала, наши солдаты не емши целый век… они исхудали, у них мало телесных сил, но дух!.. дух, звери, из нас ничем не вытравить!.. Вы нас – в снега! в горы! в осаду! в кольцо!.. – а мы вас – мощью распахнутых глаз своих, последней своею молитвой, вырвавшейся из груди вихрем: Отче Наш, иже еси на небеси!.. Вон они, звезды! И они – с нами!
Пушки бухали с паузами-вздохами: бух!.. – а-ах… – бух-х!.. – а-а-ах… Ядро попало в гущу конных офицеров, и генерал, так же прямо сидящий на коне, бесстрастно наблюдал, как летит в стороны разорванное в клочья человечье мясо, как корчатся на земле люди, пытаясь затолкать в разорванные чрева бьющиеся, переливающиеся кишки, и орут, раскрываясь, разрываясь в непрерывном крике, человеческие рты – и это уже были не люди, это было мясо для пушек, и пушки смеялись черными молчащими ртами, а люди орали, а люди готовы были стать железными пушками, чтобы только прекратилась безбожная боль внутри их разорванных тел, чтобы милосердный Бог – да есть ли Ты, Бог?!.. – прервал серебряную нить жизни, которой малый человечек подцеплен к небесам. Здесь, в горах, своя, буддийская вера. Здесь буряты и монголы верят, что ты привязан к Богу серебряной нитью, и она свешивается на землю из-за туч, и тебя ведут, а ты как теленок, идешь-бредешь, – а тут Война, и летят пули, и разрываются пушечные ядра, и рвется нить, и ты уже не знаешь, зачем ты родился.
Ты родился для смерти.
Смерть бывает славная и бесславная.
А еще бывает просто смерть, просто смерть, Пашка, милый, братец юнкер мой… я умираю… дай мне испить… воды… из фляги…
Юнкер поддерживал тяжело раненого офицера под голову. Генерал сидел на коне, молча, мрачно глядел на них. Юноша вздернул лицо, сощурился, удерживая в глазах слезы, поглядел на генерала с вызовом, с отчаяньем.
– Ваше благородье!.. – Голос парня срывался, бился во вьюге флагом. – Они нас окружают… несдобровать нам!.. В клещи нас взяли!.. А вы…
Генерал молчал. Он мог бы крикнуть мальчику: ложись. Сейчас раздастся выстрел, и тебе попадут в ногу или в руку. И ты не выживешь, потому что у нас тут, в горах, нету походного лазарета, и всех наших полковых хирургов перестреляли, и все медикаменты сгорели, когда взорвали наш бронепоезд; и тебе не отрежут воспаленный, горящий кусок плоти, и ты не вернешься домой, к своей девушке, безрукий и безногий. И кровь твоя потечет по жилам, как густой черный деготь, и поднимется жар, и в бреду ты будешь повторять одно имя: Россия, Россия. А России нет. Нет уже такой страны на карте. Нет, мальчик милый! Расстреляй хоть всех картографов – нету. И тебе не надо жить в мертвой стране. Тебе лучше погибнуть. Сразу. Нам всем лучше погибнуть. Это лучший исход. Справедливый.
– Что молчишь, генерал?!.. – выкрикнул юнкер, стреляя в него глазами. – За кого воюем?!.. За Царя, которого уже нет?!.. За Родину, раскромсанную на части красными саблями?!.. За…
Генерал разлепил рот. Его конь запрядал ушами – снег набивался ему в ноздри, в междуглазье.
– Мы воюем, сынок, потому что так надо, – сказал он темно и просто. – Мы не можем предать себя. Потому что мы – это Россия.
– А наш враг?!.. Кто он?!.. – Отрок захлебывался в уже несдерживаемом, бесстыдном плаче. – Ты знаешь, кто он?!.. Назови его!.. Ведь это же свои!.. Это же люди одной с нами веры… одной крови… языка одного!.. Я все перепутал!.. Я не знаю… не знаю, за кого мне бороться!.. Мне!.. Мне, ты понимаешь, генерал!..
Лежащий на руках мальчика офицер выгнулся, вытянулся в последней смертной судороге и затих. Его белые глаза уставились в ночное небо, и в них отразились две звезды. Двойная звезда; мертвая Луна лица. Вот еще одна планета умерла. И никто, никто на свете не отмолит ее. Эту смерть. Вот эту, одну эту смерть.
– Закрой ему глаза, – сказал генерал. – Помолись.
– Некогда молиться! – крикнул мальчишка зло, и глаза его сверкнули, и блеснул на ресницах иней. – Бой идет! Надо в бой!
– Отче наш, – тяжело, опустив голову, промолвил генерал Исупов, – иже еси… да святится Имя Твое… да приидет Царствие…
Он тронул поводья, повернул коня. Плачущий мальчик с мертвым офицером на руках остались позади, за хвостом коня, за его заиндевелым сизым крупом.
Вокруг него скакали, бежали, ползли, кричали. До исхода ночи было палкой не добросить. А что, если… эта ночь будет вечной? Он ехал на коне по горной тропе и видел, как лежит на животе, при поднимаясь на локтях, за камнями девушка в шинели, с голой головой, без шлема и без папахи в такой мороз, и через ее лоб летит косая челка, и она целится из винтовки во врага, бегущего снизу, из долины, вверх, в гору, – и он слышал, как девушка разлепляет запекшиеся губы и кричит:
– Пашка!.. за тебя… я отомщу… я же отлично стреляю!.. я убью еще одного… вон бежит!.. это – мой… мой!..
И она спускала курок, и медная пуля летела вдаль, и вдали слышался резкий короткий крик, и человек, враг, падал, и девушка смеялась обожженными, искусанными губами, и косо срезанную армейскими ножницами челку взвивал снежный ветер. И солдат, из вереницы присланного с гор подкрепленья, вскочил с земли, весь облепленный снегом, как снеговик – снег прилип у него к башлыку, снег белыми погонами обнимал плечи, и спина и грудь, все серое сукно бедной, обтерханной шинелишки были в мазках и нашлепках чистого голубого снега, – бросился прямо под ноги коню полководца, и умный зверь чуть не напоролся на человека, но вовремя попятился, переступил, стараясь не повредить, не причинить боль тому, кто приручил и подчинил его.
Между скал зиял провал. Солдат, стоя перед мордой генеральского коня, как зачарованный, смотрел туда, в пустоту. Потом обернулся, и призрак Дворца ударил его по глазам весельем золотого света в ночи, будто б он, Дворец, был маленькое Солнце и испускал пучки веселых лучей, будто бы там, как прежде, веселились, склонялись в поклонах, приглашая на танец, целовали ручки, подписывали приказы и декларации, зажигали все тонкие свечи на огромных, как сказочные колеса, люстрах, и огни горели, и девушки с обнаженными плечиками смеялись, давая себя увлечь в танце далеко, далеко, и катилась с шеи жемчужная низка, и несли на подносах лакеи длинные фужеры с шампанским и мороженым, и из дальних анфилад выплывала, белой павой, снежной цесаркой, Царица-Мать, и за ней, цепляясь за ее пышную юбку, бежал малыш Цесаревич, услада родителей, надежда народа, и вдруг падал, растягивался на скользком паркете… и рев, и плач, и вой до неба… и на руки подхватить… и ногу забинтовать… перевязать чистой, снеговою марлей… нет, кровью истечет все равно… нет спасенья!.. исхода нет…
Солдат нагло протянул руку и попридержал генеральского коня под уздцы.
– Что ты?!.. спятил… бой же идет!.. отпусти лошадь!..
Солдат молчал. Пожирал запавшими глубоко под надбровные дуги, угольно тлеющими глазами бесстрастное лицо своего полководца.
– Дворец, – сказал солдат беззвучно, одними губами. – Дворец, там. В горах. Там пусто. Там никого нет. Он прозрачен. Сквозь стены можно пройти. Это сон. Ты ведешь нас в бой за сон, генерал.
Генерал зло, остервенело дернул повод, конь мотнул головой, взыграл, пристукнул копытами по камням, чуть не сбросил всадника с седла.
– Дурень!.. Может, по-твоему, я тоже сон?!
Солдат ощупал его глазами. Его небритое, в седой щетине, угластое, будто деревянное лицо горело изможденностью, верой и безумьем.
– И ты тоже сон, Генерал. – Вместо голоса у него из глотки выходил морозный хрип. – И я сон. И все наше войско сон. И вся наша битва – сон. Я сейчас крикну всем, чтоб кинули оружье. Чтоб прекратили биться. Это все ложь. Все обман. Все обман, слышишь ли ты, генерал!
Солдат в измазанной снегом шинели сорвал с себя башлык. Звезды осветили его бритую голову в пятнах седины. Сквозь долыса обритое темя просвечивал чудовищный шрам от сабли. У него в бою был рассечен саблей череп. Как сросся?! Неведомо. Бог срастил. Он сорвал со спины тяжелую винтовку германского старого образца, подкинул ее над головой и завопил что было мочи:
– Люди!.. Люди мои!.. Солдаты!.. Офицеры!.. Юнкера-а-а!.. Слушай мою команду!.. Бросай оружье!.. Ложись на снег!.. Вверх лицом ложись!.. Гляди на звезды!.. Наша песня спета!.. Нас обманули!.. Мы всю жизнь воевали!.. За что?!.. За что?!.. Проклятая война!.. Мы… себе стреляем в грудь!.. В себя целимся!.. У нас больше нет Царя!.. Нет России!.. Мы в чужих горах… здесь… сколько зим, сколько… время сместилось, сошло с оси!.. Нельзя идти по кругу, люди!.. Надо вырваться!.. Надо бросить Войне вызов!.. Надо воевать не друг с другом… не враг с врагом… а с Войной!.. Оружье броса-а-а-а-а-ай!..
Он сам отшвырнул далеко от себя железную острогу винтовки, и с грохотом и лязгом она покатилась по камням, а зиянье черной дыры, пасть пропасти была рядом, и винтовка ухнула туда, продолжая грохотать, а тут офицерик маленького росточка, в припорошенных снегом золотых эполетах, встал, вытянулся, как луковый росток, и завопил тонким тенорком: в атаку!.. – и крик офицерика перекрыл вопль солдата, и люди, будто ждали этого поднимающего, яростного петушиного крика, воспрянули, вскочили, выставили штыки ружей, выхватили из-за поясов наганы и кольты, пришпорили коней, – а раненые лошади дрыгали ногами, корчились, и живые кони переступали, перепрыгивали через павших собратьев, храпя, кося умалишенными ежевичинами глаз, – и с гиканьем, криками, свистами, подбадривая себя красотой последнего порыва, побежали, полетели, понеслись, и бедный крик солдата, выбросившего в пропасть винтовку, был перекрыт мощным, единым, из всех глоток поднявшимся криком:
– Урра-а-а-а-а!.. За Царя!.. За Родину!.. За веру!.. За вели-и-и-икую Росси-ию-у-у-у-у!..
К бестолково орущему солдату подъехал на коне казачий есаул. В его кулаке звездно сверкала обнаженная сабля. Конь под ним храпел и бился. Есаул, прищурясь, поглядел на солдата в серой шинели, выматерился, взмахнул над ним рыбьим серебром сабли, и метельный темляк полоснул ночную тьму на эфесе.
– Еще одно подрывное слово, бесчестное, – выцедил казак сквозь заиндевелую бороду и белые жесткие усы, – и я срублю тебе башку, предатель. Ты!.. как ты можешь орать такое?!.. когда все в атаку… мерзавец!..
Солдат стоял перед ним с голой головой, и звезды вперемешку с редкими снежинками садились ему на макушку, лаская и благословляя его военную, от потрясений и потерь, седину. Казак увидел страшный шрам, идущий через весь череп. Закусил губу, слизнув сахар инея с бороды.
Думал недолго.
– На! – кинул ему саблю, и солдат цепко поймал ее, чуть не изранив ладонь остро наточенным лезвием. – Сражайся!.. Ты должен сражаться до последнего. Иначе ты не солдат, а тряпка.
Солдат схватил саблю за рукоять, затравленно, озираясь, глядел во все черные стороны ночи.
– Где генерал?! – закричал он. – Где генерал?!
Свистящая пуля, выскользнув из-за ушанки атакующего, точно, прицельно попала солдату в грудь, и на шинели стало медленно расплываться черно-алое, как сонный огромный мак, пятно. Солдат упал на снег и стал царапать ногтями запорошенные пургою камни, пытаясь добраться, докопаться в предсмертном страданьи до живой тайны жизни, скрытой за морозом, за звездами, за скелетами камней. Тщетно. Тайна Мира была завалена щебнем. Глиной. Базальтом. Сугробами. Досками. Чугуном орудий. Мертвыми телами – бревнами, кирпичами, булыжниками Бога, из которых Он строил, возводил…
Он медленно разжал руку и выпустил саблю, как птицу. Серебряная длинная чехонь упала на снег.
Так они лежали на снегу рядом – солдат в серой негнущейся, жесткой шинели, где не хватало медной пуговицы у воротника, и казацкая дареная сабля. А вторая пуля настигла щедрого сердитого есаула. Он схватился за плечо и стал валиться с коня, поминая Бога и черта и всех казачьих святых – и святого Иннокентия, и святую Варвару, и бедного святого Николу, – и бормотал, ловя холод синеющими губами:
– Я видел Его… видел Царя нашего… он стоял там, около дороги железной!.. там, где дрезина эта бешеная бежала… я на Него перекрестился… я не бредил… это Он был… Он… Отец наш родной… ох, моченьки нету… больно… пить…
Они перед смертью, все, до одного, всегда хотели пить.
А лавина врагов катилась снизу, от подножья хребта, и Армия катилась сверху на врага, и солдаты кололи солдат штыками, и офицеры стреляли, упав на снег, целясь, прищурясь, навскидку, лежа, выхрипывая из-за грудинной кости последнее: за Царя!.. за Царя… – и многие, истекая кровью, оборачивались, искали туманящимся взором Дворец на горе, чтобы запомнить золотое виденье, чтоб унести его в вечную, наползающую Тьму, – и люди выли, бежали, люди сшибались лбами и телами, люди садились на корточки, беспомощно хватая раненых, прижимаясь губами к друзьям в последних поцелуях, – а какие-то мальчики, юнкера, так забоялись, так все присели на снег, сбились в кучку, сгрудились, дрожа и плача, и их всех так и перестреляли, без труда, и они падали, валились друг на друга, хватая друг друга руками, ища друг у друга последней защиты, как искали бы ее на груди матери, но это были чужие горы, это был край России, конец России это был, – и снег Конца заметал их искаженные, отчаянные бледные, уже мертвые лица, и образки на груди, под воротниками юнкерских шинелей, и скрюченные худые мальчишьи пальцы, сжимающие нательный крестик, – хотел схватить да поднести к губам, поцеловать!.. да так и замер, прошитый пулей… – а гул атаки, поднявшись до черного зенита, оборвался, а Дворец все сиял в ночной смоли, все горел недосягаемо, и было не понять, как он стоит на обрыве, как не рушится в пропасть, – и тут маленький офицерик, тот, что поднял в атаку и кавалерию, и пехоту, обернулся к горе – без шапки он был, сорвало ее пулей, и ветер вил у него на затылке жалкие русые кудри! – и увидал, что Дворец не врыт в камень горы – он парит в воздухе, висит во тьме, как серебряная звездная шашка, как огромный золотой шлем, плывет в пустоте, как корабль-призрак, – и офицерик поднес троеперстье ко лбу, чтоб перекреститься, да не успел – медная пуля вошла ему под ребро мягко и властно, наполнив его нутро кровью, и он упал на затылок, лицом вверх, так, чтоб и по смерти можно было пустыми глазницами видеть морозные сибирские звезды.
Черный Ангел летел над горами. Летчик был зорок и видел все. Ясная была ночь, и видимость была что надо. В наушниках шлема висел далекий земной гул. Земля иной раз посылала ему то робкие, то властные сигналы, и он особо не запоминал их – гораздо важнее было созерцать, вбирать подробности, мгновенно пролетающие под крылом. Никто не знал его мыслей, о чем он думает, летя. Острые пики и срезы, ножевые лезвия и серебряные топоры гольцов возникали и падали, когда кренился его самолет. Он не боялся врезаться в гору и разбиться, хотя часто снижался и шел над заснеженной землей на бреющем полете. Никто не знал его имени. Земля пыталась запросить его. Он молчал. Глубже надвигал на глаза шлем.
Может быть, у него было не одно, а два имени. Или даже три. Солдаты считали его святым. В собственной части, когда он сажал черный самолет на посадочную полосу, когда прекращался гул двигателя и он выползал из кабины, сдирая шлем со лба и вытирая пот, и скалясь натужно и устало, его боялись расспрашивать. Командиру довольно было, что он есть и что выполняет заданья.
Он летел, зорко всматриваясь, впиваясь глазами в мелькающие вершины, в ржавую грязную, мохнатую шкуру заснеженной тайги по склонам, и затаившиеся меж горных расщелин синие то длинные, как лепестки васильков, то круглые, как девичьи радужки, замерзшие озера. Он очень любил большое Озеро. Он знал его названье: Байкал. Оно напоминало изогнутый длинный монгольский серебряный клинок, брошенный каганом после битвы. Синего живого, вытащенного из-подо льда омуля, которого ударили по башке багром, и он перестал биться.
Он пролетал над Озером, и, он мог поклясться, ему показалось, да нет, это и в самом деле было так, что там, внизу, около берега, около покрытых снегом камней, привязана лодка, а в лодке лежит… ну да, лежит женщина, и она едва укрыта шубкой, она легко одета, – он сделал еще круг над Озером, и еще, и еще, чтобы получше разглядеть ее, – о да, женщина, нет, молодая девушка, и глаза ее закрыты, она спит или умерла. Она лежит на дне лодки, и она замерзнет, если она жива еще, ведь там, внизу, мороз не хуже, чем в небе. В такой мороз лошади пристывают в конюшнях копытами к сенному настилу. А бабы на заимках пекут в печах кислые хлебы. А бурятки, чтоб согреть чрева своих мужей, лепят из теста поозы, такие вкусные лепешечки с мясом внутри, и варят их на пару. Господи! Помоги этой девчонке. Ведь никто ее не спасет. И он тоже; он в небе, он на службе. Война есть Война. Мало ли девушек, женщин… подраненных, забитых, изнасилованных… замерзших на берегах рек, озер, морей в старых просмоленных пустых лодках… Мир полон горя. Еще одно горе пролетает под ним, под его крылом. А ему-то какое дело?! Ему-то что?!
Он сделал заход над Озером еще раз, последний. Снизил машину, чуть не чиркнув носом самолета по береговой кромке, по макушкам высящихся на холмах темно-зеленых, синих грозных кедров. Ледяные торосы поднимались из толщи сине-серого, то хрустального, то грязно-ноздреватого льда Озера. Он увидел и запомнил ее лицо. Волосы надо лбом взвивал понизовой ветер, суровый култук. Тонкие черты высвечивались изнутри лимонным, сердоликовым светом – так высвечена, на нежном женском теле, старая драгоценность. Аристократка?.. В деревнях не уродливей лица встречаешь. Россия славится красивыми девушками. Жалко ее. Застынет ведь. Зимние птицы, вороны, налетят. Исклюют всю, выклюют глаза. Вороны на полях Зимней Войны ох как разжирели. Птенцов готовы выводить хоть в Рождество, в наилютейшие холода.
Бедная птица. Замерзшая птица.
Двигатель взревел, черный самолет взмыл выше, по траектории в зенит. Набрал высоту. Черный Ангел вцепился в летный штурвал, сжав губы и зубы. Красавица в лодке. Спящая Царевна. И Озеро во льду. И вороны, кружащиеся в сини над ней.
…………………из тьмы, из черноты выступили лики. Юргенс поднял руку и гладил их, и осязал. О!.. мама… милая мама… ты… Зачем ты назвала меня чудным именем… мне уже дали другое, и оно – собачья кличка… Может быть, я всего лишь собака, мама. И мне надо бросить кость. И натаскать меня… чтоб я убивал еще и еще… Зачем я родился мужик, мама?.. Я так не хотел. Девочке – легче. Она – нежнее. Она… цветочек…
Родной. Сынок. Женщина страдает. Женщина рожает. Женщина, как и мужчина, сражается на Войне. Я бы тоже сражалась, рядом с тобой, если бы была жива.
Но ведь ты живешь!.. там, за чернотой… за острыми зубьями черных пихт и елей… за пологом звездным, за смоляной плащаницей… вот я вижу золотой нимб у тебя над затылком, и я глажу его рукой, и он – горячий… золото жжется…
Да, родной. Золото жжется. Отец твой тоже это знал.
А кто был мой отец, мама?!.. я не помню его…
А вот он, вот лик его, гляди, выступает из тьмы…
Старик с лицом медным, широким, как крестьянская миска, лысый, с пухом серебряных волос на висках, с пушистыми серебряными казацкими усами, с глазами серыми, озерными, вышел, подался из густой болотной тьмы, и над его изморщенным лбом тоже горел, пылал темным пламенем, золотым сусальным огнем яркий нимб. Отец!.. Здравствуй, сын. Ты мне снишься?!.. Я тебе снюсь. Зачем ты мне приснился на Войне?!.. к тому, что мне завтра умереть?.. в бою, от шальной ли пули… Нет, радость моя. Я привиделся тебе для того, чтобы жить.
Чтобы жить, любим мы.
Чтобы жить, зажигаем над головами яркие золотые нимбы: чтобы видели нас издалека наши дети и любимые, наш народ обманутый.
Чтобы жить, я родил тебя. Ты меня не знаешь. Мы встретимся. Когда-нибудь.
Я не хочу умирать, отец, чтобы свидеться с тобой!.. Я хочу жить!.. на Войне, где угодно…
Я люблю тебя. Я твой Отец Небесный. Пусть будет с нами, что будет.
Золотые нимбы склонились, истаяли во тьме. Казарменная волосяная подушка пахла мужичьим потом. Он лежал ничком, лицом в жесткую подушку, задыхался, бредил, и его лицо было мокро, и свежие рубцы вдоль по лицу болели и вспухали, напоминая о крещенье огнем и железом.
– Вот Он!.. Гляди…
Путники поднесли руки ко лбам, прищурились; всмотрелись.
Два путника: мужчина и женщина. Оба – в тряпье, в рубище. Паломники?.. шли издалека?.. китайцы… чужеземцы?..
Издалека не видно было, раскосы или большеглазы.
Солнце заливало горы мощным, ровным белым светом. Морозное, ясное утро. Прозрачные насквозь небеса, чисто-синие, веселые, глубокие. Как сверкает снег на изломах гор! Режет глаз. Снеговые ножи, они летят в лицо, в глаза, летят мимо взгляда, дальше, насквозь, через душу – вон, к счастью.
Женщина крепко сжала руку мужчины. О, издали и впрямь не видать, молоды они или стары. Лица загорели до черноты. Долго шли на воле, на ветру. А Война? Она не тронула их? Не ранила?.. Если и были раны – они, смеясь и плача, перевязывали их друг другу.
– Смотри!.. тот камень… Глаз Мира… у Него во лбу…
Прямо перед ними, на каменном восьмиугольном возвышеньи, сидел огромный, весь золотой, нестерпимо блестевший на высоко поднявшемся над горами Солнце Будда. Он нежно улыбался. Путники повторили его улыбку. Их сожженные Солнцем рты дрогнули, губы раздвинулись, блеснули под потрескавшимися губами желтые, шатающиеся от цынги зубы. Золотой Будда важно и недвижно сидел над землями Бурятии, Внутренней Монголии, Уйгурии и великого Китая, и где-то рядом, поодаль, извивалась каменной змеей Великая Китайская Стена, и где-то рядом шла, гремела, грохотала Зимняя Война, бесконечная, как уходящее в синюю бесконечность радостное небо. Война – искупленье всех грехов. Есть война грязная. Есть Война Очистительная. Быть может, Зимняя Война – грех?! Быть может – святость…
В золотом лбу статуи, слепяще и сине сверкая под белым Солнцем, сидел, глубоко всаженный, зрячий синий прозрачный камень, похожий на синюю звезду Сириус, ночьми поднимающуюся высоко над горами. Путник поднес к лицу руку. Перекрестился на синее сиянье. Его виски, с торчащими над скулами седыми колючими волосами, усеяли мелкие капельки пота.
– Святой Сапфир…
– Если камень у Него изо лба вынут – горе тебе, земля!.. горе, крепкая…