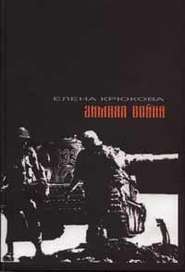скачать книгу бесплатно
– А ты любишь медленных мужчин?
– Я никого не люблю.
Он зашел за деревянную стойку, отпихнув ногой автомат, валявшийся на полу. Подошел к девушке близко, его грудь ощутила жар, исходящий от ее тела.
Толпичка солдат и баб гомонила и танцевала – топала все тише, смеялась все глуше. Дым заволакивал тусклый свет кабацкой люстры. Музыка то и дело потухала, как свеча – приходилось менять иглу, пластинку. Свет мигал. Рюмки на неряшливо заваленных недоеденными яствами столах бруснично, изумрудно мерцали. Девушка чуть раскрыла пухлые губы, и он безотрывно глядел на блеск ее зубов под верхней вздернутой губой.
– Здесь тепло, – прошептала она, неотрывно глядя ему в глаза. – Еще есть дрова. Уголь. Картошка в погребе. Еще бегает по рельсам безумная дрезина, развозит под звездами сухари в мешках – для таких же человечьих мышат, как мы. Может, еще где в горах людские крохи завалялись… Ты ведь в дрезине сюда прикатил?.. – Она не ждала от него ответа, говорила, сбиваясь, путаясь, непрерывно. – Видел в дрезине у себя под ногами – мешки?.. Там не только сухари, солдатик… там вся человечья жизнь…
Бредит, подумал он. Вся человечья жизнь. Какая красота будет провести с девчонкой ночку сегодня в теплой постели. Или нет. Лучше они пойдут на волю, на вольный воздух, оденутся потеплее, закутаются в тулупы. У нее в кладовке есть старые солдатские тулупы? На Зимней Войне без них не обойтись. В российских тюрьмах повсюду сейчас заключенные, дармовые рабы, валяют валенки и шьют овчинные тулупы для Армии. Его балахон тоже подшит изнутри смешным мехом: цигейка, что ли. И к каске изнутри мех приклеен. Мех и вата.
– Стой! – Он взял горячей рукой ее за руку. – Пойдем потанцуем!
На удивленье легко она согласилась.
– Идем!
Он протянул грязные руки. Она вложила свои руки в его. Встала на пустой бочонок. Легко перепрыгнула через стойку бара. Они втерлись в поредевшую толпу танцующих. Юргенс обхватил ее крепко, и они понеслись, хохоча, в неистовом танце, корчась, придумывая на ходу выбрыкливые па, но им живо надоел этот цирк, и они стали танцевать тихо и нежно, колыхась, как маленькие колокола монастыря, затерянного в горах. Он прижимался к ней. Его губы уже тянулись к ее губам. Как все обычно. Как все просто. А что на земле сложно. Убийство – просто. Любовь – проста. Роды – просты. Смерть… Про смерть мы не знаем ничего. Она про нас знает все. А война – проста она? Из чего она состоит? Почему она идет так долго? Почему она идет всегда? Во имя чего? А может, во имя ничего? А может, ни во чье имя?
Он хотел ее поцеловать.
Она хотела поцеловать его.
А люди насочиняли вокруг простого желанья сотни завитушек, виньеток, узоров. Разве они нужны.
Не видя ничего во тьме ломающего его вихря, не понимая и не чувствуя ничего, кроме ее рта, языка, сердца и существа, он целовал ее, и горная метель залетела в окно, бросая в их пылающие лица колючую снежную крупу.
Музыка, музыка. Музыка будет звучать долго, нежно. Для них. Больше нет людей. И они не люди. Может быть, они уже Ангелы.
Тот летчик… истребитель. Вот кто Ангел. Он взаправду улетел в небо. А они? Жалкие песики. Голуби с подрезанными крыльями.
– Пойдем… прогуляемся…
Он задыхался. Она быстро закивала. Ее щеки горели малиново.
– Подожди. Только я надену шубку. Она за шкафом с бутылками.
Она вылетела из шкафа навстречу ему уже в коротеньком овечьем тулупчике, немного потрепанном, с клеймами и печатями армейских кастелянов. Ого, трофейный. Нет, наш, армейский. Вон и нашивки русские.
Он выхватил из кармана балахона револьвер и приставил к ее виску. Он вроде как шутил. Лицо его перекосилось. Она бесстрашно заглянула ему в лицо. Эти губы только что целовали ее.
– Ну, убей меня. Убей!
– Жирно будет сразу.
Он криво улыбнулся. Он не понимал, что с ним творилось. Он шутил?! Возможно. Пусть она засмеется. Засмеется громко. Тогда он поверит, что он пошутил. Она не смеется. Это – правда?!
– Не здесь, – сказала она, и припухший, еще не остывший от поцелуя рот дрогнул, – пойдем скорей. На волю. На ветер. Там… танк покалеченный стоит. Здесь тоже были бои. Его подорвали. Он горел. Он стоит за гостиницей… там нужник и вольера для кроликов… Кроликов всех съели. Я сама готовила из них жаркое на кухне. Я буду любить тебя в тени танка. А потом ты убьешь меня.
Да она не шутит. Она серьезно. О Господи.
– Согласен, – сказал он ледяным голосом. Сердце его под бляхами балахона звенело и танцевало. Он наклонился, поднял автомат с полу. Ремень прорезал ему плечо. Так же резал плечо Бог ремень, когда Он волок Крест на Лысую гору. Что, тяжело Ему было?! Откуда тебе знать.
Пары, натанцевавшись, обнимались в углах прокуренной залы, лежали, схватившись друг за друга, на полу. В тепле. Им тепло. А они сейчас пойдут на холод. Юргенс подтащил Кармелу к окну. Прыгай. Из окна – в ночь. Ты же ловкая. Ты тоже ловкий. Кто кого переловчит. Кармела, твердо ступая по исхоженной с отрочества дороге, пошла вперед, он – за ней, снова вытянув револьвер, наставив дуло ей в затылок. Громадный танк маячил в отдаленьи. Заслонял непроглядной тушей небо и звезды. Обгорелый ствол пушки был нацелен в зенит, будто мертвый танкист хотел расстрелять Большую Медведицу.
Слева от танка висела красная Луна, справа – синяя. Их опять две. Проклятье. Их лучи скрещивались, и окалина брони отсвечивала зеленым.
Кармела остановилась прямо перед пушкой. Звезды густо сыпались на нее. Она страшно дрожала.
– Раздевайся, – сказала.
Сбросила с горла черную мантильку на острия камней, расстегнула тулуп. Сильными, привыкшими к щеткам и тряпкам пальцами разорвала муар платья сверху донизу – от горла до колен.
– Холодно же, – сказал Юргенс, ежась, – холодно, холодно! Ты сошла с ума. Мы замерзнем. Ты… замерзнешь.
Она усмехнулась:
– Жалостливый.
Его начало трясти. Чтоб утишить дрожь, он вытащил из-за пазухи мародерскую добычу – складной нож, сдернутый им с одного из убитых им солдат. Нож в виде меч-рыбы, старинной северной работы. Приставил стальную рыбу к горлу Кармелы. Какой смех! Как он пугает ее. Это они так играют. Почему бы не поиграть в смерть на Войне. Ведь Война идет и пройдет когда-нибудь. А мы останемся жить. Смерть – это тоже жизнь. Многие верят, что там – жизнь иная. Какая? Есть ли там складные ножи? Женские груди? Запах водки… пули, всаженные в испытывающее боль тело? Если там нет тел – где тогда живут бессмертные души?!
Так и стояли: она лихорадочно раздевалась догола на морозе, под свистящей метелью, глядя на Юргенса глазами яркими, как два морозных Сириуса, а он держал револьвер – у ее виска и нож – у ее горла.
– С выстреливающим лезвием, – блеснув умалишенными радужками, хвастливо выхрипнул он.
И сам, одиноко, рассмеялся.
Горы ответили эхом – оно раскатилось меж гольцов, как порванные бусы.
– Раздевайся! – дико, на пределе голоса, завопила она.
Он кинул на камни револьвер. Бросил нож. Сдернул, сбросил с плеч автомат. Лягнул его ногой, и он покатился по камням, во тьму. Раздался грохот. Потом все смолкло. Он смекнул, в чем было дело. Танк стоял на краю пропасти. Это к лучшему. Это очень удобно. Он сам сбросит ее тело туда, после того, как……………
………………….он вытряхивал из карманов, карманчиков и карманишков все оружье, какое только было при себе у него: ядовитые аэрозоли, мини-огнеметы, кольты, вальтеры, гранаты разных смешных форм, ножи и ножички, кастеты и лезвия в чехлах, – он вываливал наземь все это добро, и по крутосклону горы Юргенсово богатство стремительно катилось в пропасть, но он не жалел, он оставлял только то, что понадобится, он же все точно рассчитал!..……………………
…………………как он убьет прекрасную Кармелу складным ножом в виде меч-рыбы, и лезвие выстрелит ей под левую лопатку. Вот она голая стоит. Какая красавица. Мысли его холодны, как ночной снег. Где его желанье? Чтобы нож вошел под лопатку этой прекрасной женщины, надо для начала ее обнять. А чтоб ее обнять и поиграть с нею в любовь – потешь девочку, доставь ей последнюю радость! – надо раздеться. Ничего не поделаешь. Придется мерзнуть. И звезды пронзят его. Пройдут навылет, под ребра. Белые Божьи пули. К черту звезды. К черту Бога. Он разденется. Он покажет ей ночь любви.
– Сними с меня эти шмотки!
Она расстегивала на нем заклепки, пуговицы и стальные крючки. Она стаскивала с него болотную ряску балахона, прорезиненный комбинезон, поддетый внутрь распахайку-маскхалат, тяжелый, как кувалда, бронежилет, скафандровые налокотники, кольчужный нагрудник, пропитанные огнеупорным раствором утюги-бутсы, и румяным торжеством полыхало на морозе ее нежное лицо. Она расстилала военные убийственные тряпки под их ногами, на заметенных снегом камнях. Ее звездные глаза ликовали. Ложе их – обмундированье. Крыша их – тень от сожженного танка. И знамя над их шатром – дегтярное небо, полное огней.
Молодое сильное тело Юргенса, схваченное судорогами, выплескивалось из опостылевших доспехов на синий мороз. Она все еще думает, что он шутит. Играет. Кто с кем шутит, непонятно. Звезды звенят от мороза. Звенят промерзшие камни под ногами. Волчицей воет пурга. Голый, напуганный, со сжатым в нитку ртом, с перевязанной выше локтя окровавленной рукой, с ножом в кулаке, стоял Юргенс перед Кармелой. И она засмеялась, обняла его и запрыгнула на него, обхватив его спину ногами.
Они рухнули на сваленные в кучу одеяния. Пушка танка вытягивалась над ними черной рукой. Руки и ноги их перепутались. Они были две змеи, оплетшие друг друга. Лежи на мне, как дельфин. А ты сиди на мне, как сфинкс. Отразись во мне – зеркале, а потом разбей меня, и каждый осколок целуй. Соски мои – звезды. Из них струятся звезды и планеты. Я родила мир. Я родила все. Я тебя тоже родила. Не холодно тебе? Нет. Ни капли. Это странно. Я думал, мы застынем вмиг.
Соединились они неразъемно и неистово. Дыханье замерло. Из спин и голеней, оцарапанных о клыки камней, текла кровь. Они не чуяли мороза. Они забыли о близкой пропасти. Они сходили с ума друг от друга. Они не слышали звенящего шороха звезд, метеоров и болидов. Он так ее обхватил, что хрустнули, напрягшись, по-птичьи хрупкие косточки ее выпирающих жалких ключиц. Он летел в ней, внутри нее, как черный летчик, Ангел небесный, летел в высоком холодном небе. Он летел над ней, как опьяненный своим первым небом коршуненок; раскинув руки, сведя в стрелу ноги, он летел над ней, паря и покачиваясь в мареве красно-синего света двух Лун. Он целовал руками-крыльями ее миры, плывущие под ним – и синие, вольно текущие реки переплетенных жил, и смугло-закаленные, выжженные степи гладких лопаток, и таежный пожар буреломных ребер, и океан вздымающегося живота, и хитрых куниц – разбегающиеся в стороны резвые брови, и ледяные острые выступы плеч-гольцов – он летел над ней, века и тысячелетья любимой, кружил безостановочно, сшивал неуклюжими стежками долгого молитвенного полета ее драгоценные аквамариновые лесные озера и горько-перечные моря, разбегающиеся материки – разноцветные лоскутья вечно неглаженных, застиранных, пропахших рыбою, нефтью и смолою, дымом, цветами и вьюгами дешевых платьев; крестил крестом своего летящего тела ее слепящую живую ширь, ее светлую грозную благодать, – он летел над ней, над безумной Кармелой, и, обнимая ее полетом, он понял вдруг – он пролетает ее навылет, насквозь, ОН ВЫЛЕТАЕТ ИЗ НЕЕ ВОН – в пустоту.
Он понял – это конец. Катастрофа. Это не он убивает ее. Это она выталкивает его из себя. Лишает воздуха и боли. Он боли уже не чувствует. Он летит в пустоте. Без нее, один. Опять один. Нет, вот же она! Вот! Обхватить. Прижать. Сильней. Чтоб никогда не вырвалась. Моя. Всегда. Вечно. Моя прекрасная Кармела. Где мой нож?! О-о-о!
Невероятная боль молнией пронизала его от темени до пят. Он сотрясся и скорчился. Понял, что умирает. Догадался, что Кармела убила его, а не он убил ее. Он прозрел. Губы его свел мороз судорогой. Он захохотал. Хохот его походил на хрип сползающего вниз ледника в узком горле ущелья.
ОНА УБИЛА ЕГО ЛЮБОВЬЮ. ТОЛЬКО И ВСЕГО.
И НЕ НАДО ПОСЛЕДНЕЙ ПУЛИ.
НО Я ЕЩЕ ВЗМАЛИВАЮСЬ ТЕБЕ, ГОСПОДИ. ЗНАЧИТ, Я ЕЩЕ ЖИВУ.
ПОЧЕМУ НА МЕНЯ СМОТРИТ ИЗ ЧЕРНОГО НЕБА СИНИЙ ГЛАЗ?!
На него смотрела из черного зенита огромная и ледяная ярко-синяя звезда. Огромный сапфир. Какие драгоценности валяются в небе без присмотра.
А может, это Глаз Дангма?! Третий Глаз Великого Будды Шакьямуни, царевича Сиддхартхи?!
– Убей меня совсем, добей, Кармела, – прохрипел он. Он обхватил ее ноги ногами. Притиснул намертво к себе. – Пожалей… Где мой нож… тут… вот – был же… потерял!.. старинной северной работы… где?!
Он хрипел и шарил, щупал вокруг себя острые, холодные рубила камней, царапал землю вдоль бьющихся в ночи ослепительных бедер Кармелы скрюченными пальцами.
– Я для тебя его приготовил… дурак!.. найди нож!.. Прикончи меня!.. Я не хочу…
Слова оборвались, как старая леска.
Руки и ноги Кармелы замком сомкнулись у него на спине.
Сознанье отлетело от него птицей. Как холодно было. Кармела обнимала неподвижное тело. Она ничего не поняла. Когда поняла – стала в ужасе сбрасывать его с себя. Вмиг огрузневшие руки и ноги, железная клетка ребер, застывшая счастливая улыбка вызвали в ней ужас, священный, первобытный. Она отклеивала его от себя, отдирала. Она в отчаянии пыталась оживить его. Ее любовник, ее убийца. Солдатик Зимней Войны. Как это он не обделался в первом бою. Не может быть, чтоб он умер от любви, в любви. Да и какая это любовь у них, здесь, на жутком холоду. Близ мертвого танка. Она дышала ему в рот, мяла ребра. Вдавливала в мышцы закаменевшие пальцы. Нащупывала везде – на висках, груди, на затылке – тайные точки восточных раскосых врачей. Бормотала:
– Ну ты что… ты что это!.. а… ты же со мной шутил… я же – шутила с тобой… лишь одна Война – не шутка… она – настоящая… очнись… ты замерз…
Ее пронзило: Война. Сегодня она еще дышит. Завтра разорвется под ее ногами снаряд – она упадет, будет хрипеть и задыхаться. Подняв к небу прекрасное, перекошенное ужасом лицо, она завыла, как волчица, от тоски и боли. Нашарила на замерзлой земле, у себя под головой, нож. Это про него все твердил сумасшедший солдат. Она цапнула нож голой рукой прямо за лезвие, обрезав ладонь в кровь. Закричала, и эхо отдалось в ледяной ночи, в горах:
– О-о-о-о… у-у-у-у… о-о, Господь!.. Какой счастливый этот солдат… он уже от страданий избавился… а я… а я!.. Я же никогда… не смогу… сама…
Она рывком выпросталась из-под него. Расширенными глазами глядела на свою коричневую кровь; капли медленно капали с ее лунной ладони.
Кармела размахнулась и швырнула нож. Он ударился о камни со звоном, покатился. Господи, а парень-то умер по правде, видать. Война. На войне можно помереть как хочешь. Даже так. Смешно. Кому ни расскажи – не поверят. Поглумятся. И над ним, и над ней.
Она страшно засмеялась – так клекочут в горах пестрые птицы, кладущие яйца в расщелины скал. Пушка танка бросала кривую тень на ее залитое лунным светом, как слезами, лицо. Она была голая, и живот ее мерз. Подхватив Юргенса под мышки, она с трудом, обливаясь потом, застывающим на морозе иголками льда, оттащила его от танковой гусеницы, подволокла ближе к обрыву, к самому краю, и, зажмурившись, столкнула, сбросила в пропасть.
Он сильно разбился. Он остался жив.
Они с Кармелой долго потом смеялись над его переломанными ребрами. Ты сбросила меня в пропасть, говорил он ей, хохоча, сжимая ее лицо в ладонях, а я вот выжил, а я вот тебя зачем-то по-настоящему полюбил. Да не любишь ты меня, отмахивалась она, как от мухи, это все вранье и словеса. Тебе просто нужна баба на Войне. А я покладистая. Я могу и по хозяйству. И в постели я тоже ничего.
Ничего?! Он хохотал еще громче. Облапывал ее грубо, по-медвежьи.
Он был без сознанья, когда его наутро солдаты из Двадцать третьего дивизиона тащили со дна ущелья крючьями, прицепленными к длинным веревкам; железные крючья плохо зацепляли голое тело, оскальзывались, пропарывали обмороженную кожу. Голый человек приходил в сознанье, стонал. Его вытянули наверх. Его растирали чистым спиртом, а спирт на Войне был на вес золота. Командир дивизиона так потом и сказал ему, как отрубил: ты у меня золотой солдат, как золотой Будда, Дважды Рожденный. Я тебе лучшую девку в Зимней Армии сосватаю. Да вот она, гляди, вон стоит поодаль, на тебя пялится; пусть она тебя и выхаживает. Уж очень сильно ты промерз, парень. Как бы тебе наши хирурги пальчики не оттяпали. А то и лапку обмороженную.
Спирт горел, поджигал факелами тело. Как он не орал от боли? Ему было стыдно женщины. Он-то ее сразу узнал. А они, мужики, так и не узнали никогда, что было и как.
И старый, с гусиной шеей, танк смолчал, не выдал.
Рев входящих в пике самолетов рвал уши. Боже, как бездарно кончался век. Как надоела Война. Командир взвода стоял на морозе без каски, прикуривал. Юргенс прищурился. Далеко, на срезанном будто громадным тесаком склоне гольца, медленно, как в бреду, двигались трактора с тяжелыми гаубицами на прицепах. Какими допотопными орудьями они вынуждены вести эту Войну. А еще брехали: если уж разразится Война, так никто не выживет; и небеса расколются; и она будет Последней; и огонь пожрет и твердь, и людей, и… Все оказалось гораздо проще. Обыденней. Люди не научились воевать лучше или хуже. Люди накопили оружья столько, что могли б раскатать в Космосе тесто для целой новой планеты и, как в пирог, запечь внутрь нее все железо, заготовленное для убийства.
Орудья чернели, облепленные кишащими солдатами. Завтра новый бой. Наступленье. Почему он, Юргенс, не лошадь, а человек? Его бы ранили в бою, и, раненого, пристрелили. Раненого коня на Войне не вылечивают.
Он раздул ноздри. От ящиков с толом, стоящих друг на друге перед крыльцом командировой избенки, шел луковый дух. Вот и смерть пахнет простой человечьей едой. Где Кармела? Кармела, военная жена. Какая она ему жена, Господи прости. Он бросит ее, как спичку. Если надо. Но сейчас пока не надо. Еще она ему нужна. Для чего?! Для спанья?!
Он, глядя на курящего командира взвода, тоже вытащил из-за голенища пачку сигарет, спички, чиркнул спичкой, закурил. Сигареты самодельные. Кармела изготовляла. Солдатики на руках ее носят здесь, в горах, за сигареты. Курить, как и женщину, охота всегда. Иногда охота и спирту. Вместо спирта в мензурке ротный показывает тебе глыбистый чугунный кулак. Подносит к носу. Нюхал?! Здесь тебе и питье, и еда. В атаку пойдешь – может, доктора расщедрятся, спиртику брызнут немного. На дно твоей каски, ежели она не дырявая.
Каски с дырками геройскими считаются. Дырка – значит, почетная отметина. Лучше ордена. Орден в миру пропить можно, выменять, подарить. Дырявую каску у тебя никто не отнимет, и ты сам ее никому не подаришь. Тебя в ней, в дырявой, в братскую могилу положат.
Хорошо, если – в могилу. Не хочешь лечь просто костьми, в поле. Как это тебя, такого тяжелого быка, худышка Кармела одна в пропасть сбросила?!
И ведь ты не в обиде на нее. Не в обиде, сознайся. Ведь это ты сам хотел убить ее. И вот вы оба живы.
Он докурил сигарету, бросил окурок, придавил пяткой, тяжелым сапогом. Натянул плотнее на лоб, на брови шлем и подшлемник. Мы все святые, Господи. У нас на головах нимбы. Нимбы солдат Войны. И я без каски. Я в шлеме. Если пуля попадет в голову – прошьет сразу, насквозь. Так мне и надо. Я простой пес Войны. Я собака Войны. Собак пристреливают. Лошадей пристреливают. Кони ржут, прощаясь. Псы воют перед смертью. Мне часто снятся собаки. Они мне такие родные. Я тоже собака; я просто собака. Я вою из-под шлема, молча вою в мохнатые морозные просторы, затянутые плевой черной гари.
Какая ночь. Глубокий мрак. Угольный мешок. Бог тоже угольщик, Он таскает тьму в мешках. Ему тяжело, спина Его покрывается потом, и сквозь зубы Он шепчет страшные мужицкие слова.
Военная ночь. И крупные звезды над горами.
И они снова появляются, возникают на конях из-за скал. Они прошли проклятыми дорогами, переходами, засыпанными метелью и золой трактами. Сегодня их бой.
Голец, возвышающийся над всадниками, похож на чугунный черный памятник. Кому? Чему? Офицеры едут молча. Кони осторожно ступают на острые камни тропы, осыпающиеся под копытами. Фонари далеко, тускло горят на КПП. Слышна далекая, призрачная команда: сто-о-о-ой!.. И опять тихо. Лишь звезды перешептываются, морозно шуршат, как застывшие слезы, на выпачканном непроглядной сажей лике неба.
Впереди шеренги коней – старая, допотопная машина. Кто?! Командующий, генерал от кавалерии Исупов!.. Врешь, дядька, Исупов полковник. Я – дед его. Серебряные усы; жесткий римский ли, северный ли профиль, вытесанный Богом в долгих, бесконечных боях, перемещеньях, отступленьях, дислокациях; генеральская шинель тускло, перламутрово серебрится – инеем ли, ворсом ли драпа. Вы видите на горе Дворец, офицеры?.. А как же!.. Так точно, видим!.. Нам предстоит его защищать. Там… Там плохо, господин генерал!.. По окнам стреляли, все стекла повыбили… кресла на полу кверх ногами валяются… зеркала в спальнях лица чертей отражают… а дыму, дыму!.. все затянуто дымом, как сном…
Мы должны его защитить. Вы, офицеры. Вы, солдаты. Слушайте! Это наш последний бой.
Вы! Юнкера! Гордость России! Это ваш последний…
Из-за гранитного горного уступа выскочили внепно юнкера – золотые погоны блестели в ночной тьме у них на плечах, они бежали тяжело, марш-бросок по горам дался им с трудом, они запыхались, отдувались, щеки у них были мокрые, вспотевшие, и на юных румяных лицах ни единой улыбки. Как по команде, они вдруг упали на колени в снег, сорвали с плеч ружья, прицелились. Пли!.. Нестройные залпы раздались в хрустальном надмирном воздухе. Кто выкрикнул команду?!..
Бой начался.
Он начался буднично и незаметно, с одной невпопад выпаленной команды, с созерцанья призрачного золотого Дворца, стоящего на вершине горы, будто висящего золотой и хрустальной виноградной гроздью высоко в черном небе. Гулко грохотали сапоги по зальделым камням. Офицеры натянули поводья лошадей, сжав зубы, пригнулись к лошадиным холкам. Генерал вылез из машины, и ему подвели коня. Генерал не пригибался. Он не защищал от пуль свой лоб. Он сидел на коне прямо, выражая прямой и гордой посадкой свое презренье к смерти.
– Капитан Серебряков! – крикнул он, отдув от губы седой волос. – Молодцы ваши юнкера! Хвалю!
Тот, кого назвали Серебряковым, поправил на подбородке ремень фуражки, залихватски подмигнул стреляющим юнкерам. С противоположной стороны, от вражеского КПП, с отрогов хребта Субугай, раздавались ответные выстрелы. Серебряков вытащил из кобуры кольт, и опустелая раскрытая, как волчья пасть, кобура билась у него на бедре, и конь плясал под ним грациозную, воспаленную пляску, перебирал ногами. Серебряков грозно поглядел на мальчиков, беспорядочно палящих из старого образца ружей. Поиграл кольтом. Вскинул оружье вверх. Выстрелил, и эхо выстрела раскатилось в горах, в ночной черной сини.
– Ребята!.. Вы сражаетесь под русскими звездами!.. В ваших подсумках – наше будущее!.. Наша, великая Россия!.. Нам больше не нужна будет кровь!.. Не нужны будут великие сраженья!.. Это последнее сраженье, ребята, так умрем же за правое дело!.. Умрем за Росиию, грядущую… счастливую!..
Юнкера ответили нестройным, воодушевленным гулом. Потные лица их блестели лихорадочным румянцем боя. Офицеры, вытаскивая револьверы из кобур, безотрывно глядели вдаль, на склоны хребта Хамар-Дабан, где на обрыве высился призрачный Дворец. Да полно, господа, уж есть ли Дворец наш на самом деле?.. Я не уверен, господин Хворостовский. Что же мы защищаем, господа?!.. Еще одно слово, поручик, и я пристрелю вас на месте, как собаку! В горы! Только в горы! Вперед! Даже если под вами убьют коня – бегите пешим, стреляйте, сражайтесь! У нас нет иного пути, милый, дорогой!..
Огромная цепь всадников забытой Армии вилась и вилась, сползая с горы вниз, к подножью, и вслед за офицерами ехали денщики, вслед за денщиками – оруженосцы с пулеметами на ржавых скрипучих колесах, с пушками на тележках, с бочками пороха, притороченными к седлам лошадей, а вслед за ними ехали солдаты, солдаты мертвой русской Армии, великая конница, и лошади танцевали и поднимали ноги, как балерины, и лезвия сабель и шашек просверкивали под крупными ночными звездами, и с глухими ругательствами в руки брались ружья, сдернутые с плеч, затянутых в серые одинаковые, безликие шинели, и камни гор сыпались и закипали каменным кипятком под градом вражеских пуль, под ударами конских копыт, и с вражеской стороны, захлебываясь и опять возвышая стрекочущий голос, застрочил пулемет, и офицеры и солдаты стали падать, хватаясь за окровавленные бока, чертыхаясь, поминая всех святых и Божью Матушку, и юнкера приседали, садились на корточки, закрывая затылки руками, падали на заиндевелую тропу, утыкаясь щеками в острые ножевые каменья, раздирая в кровь Ангельские, молодые лица, – а пулемет все строчил, кося людей, и офицеры кричали благим матом:
– Стервы!.. Стервы!.. Они лупят разрывными!.. Ложись!.. Ложись!..
– А это что такое, вот, рядом?!.. Братцы!.. Железная же дорога!.. здесь, в горах… и станция может быть близко… до штурма Дворца – успеть взять станцию!.. Это мысль!..