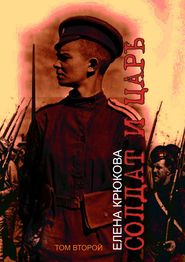скачать книгу бесплатно
Где же Бог в тебе? Неужели Он тебя оставил?
Ты шепчешь тихо: коммунизм, это будущее земли. И никуда вы все от него не уйдете. Никуда.
…мы забываем о том, что все они – и Ленин, и Троцкий, и Свердлов, и Дзержинский, и иже с ними, цедили сквозь зубы, когда белые наступали на фронтах и громили красных: если нас разобьют в пух и прах, – мы уйдем, да, уйдем, но мы уйдем так, что мир содрогнется; вместо этой страны оставим гнусное, чертово пепелище. Пустыню. Мертвое поле. И ничем его не засеешь долгие годы. Века. Наш ужас запомнят навеки. Мы убьем эту страну. Мы выкосим ее людей.
Мы будем уходить по колено в крови, уплывать отсюда – по морям крови.
Смерть. Смерть. Вот она, встает в полный рост.
Откуда? Из могил вождей?
Памятники им презрительно снесли, сдернули с помпезных пьедесталов. Отдали в переплавку. Из бессмертной бронзы отлили иные монументы.
А могилы их живы. Они шевелятся. Шевелится над ними земля.
…и над гробницами царей кровавым потом покрывается мрамор, и течет горячими слезами, как церковный воск, позолота, и жестокие, сумасшедшие ученые нагло вскрывают склепы, и вертят в руках черепа, и измеряют линейкой кости, и сомневаются, и верят. Я все думаю: в чем они сомневаются и чему верят?
Погибли цари; но ведь погиб, смертью храбрых полег и народ.
Царей и народ смерть сравняла. Уравняла
Там, за могилой, они нас видят, нынешних, а мы, нынешние, о них молимся одинаково: что о расстрелянных мужиках, что о царских дочерях. Я вот молюсь за прадеда моего Павла, убитого в лагере при попытке к бегству; и я молюсь за цесаревича Алексея, застреленного с отцом, матерью, сестрами и слугами там, в затхлом подвале, обклеенном полосатыми обоями; и они оба, мужик Павел и цесаревич Алексей, верю, слышат меня, и их утешает жалкая, тихая молитва моя. Они родня моя, и я родня им. Мы вместе, и мы едины.
Это чувство трудно понять тому, в ком течет иная кровь и дышит иная душа.
…Смерть не щадит никого, и бестолковое дело – просить ее обождать за дверью. Есть такая старинная шотландская песенка, ее очень любил Бетховен: миледи Смерть, мы просим вас за дверью подождать! Нам Дженни будет петь сейчас, и Бетси – танцевать!
Мы все спорим, ссоримся, суетимся, – и мысль о смерти отталкиваем от себя, она нам не нужна, она совершенно лишняя в наших веселых и горячих рабочих буднях; она произойдет с кем-то другим, но только не со мной! Не со мной!
…другие революционеры, нынешние, готовят другую смуту. Власть никогда не радует подданных. Власть всегда надо порушить, свергнуть, уничтожить – затем, чтобы на ее месте водрузить другую власть и торжественно объявить: вот, теперь это будет самая лучшая власть в мире!
А люди-то – одни и те же. Люди-то не меняются.
Человек слаб, и человек грешен, и человек любит сладкое, и человек любит причинять боль и наблюдать смерть. Эта болезнь течет в крови человека.
И проходит совсем немного времени, и люди убеждаются, что новая власть нисколько не лучше, а может, во много раз хуже прежней; что народ страдает не меньше, а еще больше; что обман, подлог, жестокость, издевательство, насмешка, истязание, гибель никуда не исчезают, а все такие же остаются; и люди ропщут, люди копят огненный гнев, и опять изливают его на власть – ведь это только она, власть, во всем виновата!
А не вы ли, родные, за нее, за власть эту, сражались?
Не вы ли жизни свои клали, чтобы – эта власть воцарилась?
Красная власть! Равенство и братство!
…то, что все неравны и никогда равны не будут, поняли уже давно. Но соблазн вновь и вновь таится в этом красном лозунге: свобода, равенство, братство. Где свобода, покажите!
Где она! И – какая она!
Какого цвета; какого ранга; какого закона!
Революция – не свобода. И любое государство – не свобода. И нет свободы и быть не может; как не может быть вечной жизни, земного бессмертия.
Это не значит, что несвободна душа.
И это не значит, что нет бессмертия небесного.
Сыграй мне это все по барским, усадебным нотам! Простучи по клавишам этот нежный, душистый мотив! Пусть за душу берет. Зажги свечи в медных шандалах! Зима за окном. Волчий мороз. Крупные, цветные, колючие звезды. Хочешь поплакать над старой, над мертвой Россией?! Плачь, пожалуй! Какая музыка поет! Какая музыка… пылает… когда под знаменем народ… идет в атаку… умирает…
* * *
Мебель стояла твердо на своих дубовых ногах: прочная, на века. Все было вроде бы на века; и вдруг шкапы снялись с мест и поплыли вдоль стен, рояли накренились, как черные лодки, столы скакали чудовищными деревянными конями. И птицами с хрустальными хвостами летели люстры, опаляя голые головы.
Все стало зыбко, ненадежно. Полетно, призрачно, сонно. Никто не мог бы достоверно сказать: сон нынче или явь.
– Во сне такое не приснится, что творится с Россией.
– А может, сейчас проснемся?
Татьяна часто сидела на широком подоконнике. Смотрела на улицу. В окно виден страшный островерхий забор, зубья досок вгрызаются в ветер и облака. За забором – дымы. Трубы, дымы, гарь, голоса. Люди спешат: с работы, на работу. А вот они никуда не спешат. Им некуда спешить.
– Ямщик, не гони лошадей! Мне некуда больше спеши-и-и-ить!
– Тата, слезь с окна! Тебя – подстрелят! Как воробья!
– Как утку, ты хочешь сказать.
Подмигивала младшенькой, но с подоконника слезала и подходила к шкапу. Коричневым рядом, как соты в улье, стояли книги. Татьяна открывала створку и нежно, чуть прикасаясь, гладила корешки.
– Читай, любопытствуй!
– Это чужое.
Все вещи слуги инженера Ипатьева, когда тот отъезжал, снесли в кладовую; кладовая размещалась в полуподвале, и ключ от нее носил с собой комендант Юровский.
– Мама, а грустно, наверное, инженеру было отсюда уезжать. Из родного дома.
– А он разве тут родился?
– Господи, Стася, всегда прощаться грустно. Что ты плачешь?
– Как из Царского Села уезжали, вспомнила.
Мать подходила к дочери и притискивала ее голову к своей груди: вместо носового платка – материнский кружевной воротник, сырое теплое тесто родной плоти.
– А когда мы отсюда уедем?
Старуха больно сжимала клещами крепких пальцев дочкино плечо. Молчала.
– Значит, не уедем.
Морщины текли, как слезы.
– Нет, уедем, уедем! Мама, не надо!
Царь уже бежал с мензуркой, и капли пустырника в ней.
… – Леличка, а ты знаешь, в кладовой стопкой лежат иконы?
Ольга медленно оборачивалась к Анастасии.
– Анастази, ну и что из этого? Это чужие иконы.
– Но почему их сняли? Их надо повесить. Вернуть на места. Они же святые!
Ольга обхватывала себя за плечи, будто мерзла. В жару – обматывалась черной ажурной шалью. Под тощий зад, когда играла на рояле, подкладывала подушечку. На подушке вышит вензель: «ОР».
– Это не нашего ума дело.
– Ой, ну можно я хоть одну повешу?
– Когда ты успела их разглядеть?
– Я вместе… с Прасковьей…
– А, у нее ключ?
– Комендант ей дал. Чтобы Прасковья оттуда – еще один самовар взяла.
– Она брала самовар, а ты копалась в иконах?
– Я не копалась. Я – сверху увидала! Одну. Божию Матерь Утоли моя печали!
Вещи, вещи. Они мотались и качались маятниками. Они мерцали и гасли. Уходили в туман. Все вещи убьют и сожгут. Дом разломают и на кирпичи растащат. И потом из этих битых кирпичей где-нибудь, кому-нибудь сложат печь в бане.
Вещи человеческие, такие привычные. Стулья, подушки, кастрюли. Бумаги и книги. Подумай, Мария, этого всего через каких-то пятьдесят лет не будет. Залезь в будущее и погляди: что увидишь? Ничего. Ни печных этих изразцов, ни полосатых обоев, ни стула с обивкой в мелкий цветочек. Ни чернильницы на столе, ни ручки с вечным пером. Вечное? Какое вечное? Где здесь вечность?
– Машка, нас охраняют, будто мы вещи.
– Брось. Перекрестись и помолись. Это наваждение. Бесы.
– Мы вещи! Вещи!
– Настя, ну я тебя прошу.
– Проси не проси! Все равно вещи!
«Вещи, все равно», – Мариины губы без мысли, без чувства повторяли слова сестры. Повтор, музыкальная реприза. Еще раз. Как говорит мама по-немецки: noch einmal.
– Нох айнмаль!
– Машка, ты что?!
– Форвэртс!
– Ты что, на плацу в Гатчине?!
Мария по-военному повернулась, подняла ногу, не сгибая ее в колене, и стала маршировать по гостиной. На столе звякнула чернильница: Мария тяжело наступила на скошенную половицу.
– Машка! А когда мы уедем отсюда – инженеру вернут особняк?
Мария встала: ать, два.
– Нет. Народ тут сам поселится.
– Народ? Какой народ?
Волосы текли с затылка на плечи Марии густым тяжелым медом.
– Разный. Солдаты, торговки с рынка… может, рабочие. Здесь же много заводов и фабрик.
– Рабочие, – Анастасия накручивала прядь на палец. – Но ведь рабочие живут в своих домах! Им есть где жить!
– Они живут в бараках.
– Что такое барак?
– Это такой… большой сарай. Грязный. Там клопы и вши.
Анастасия сделала вид, что ее рвет.
– Фу. Откуда ты все это знаешь? Ты там была? В бараках?
– Да.
– Не ври!
– Я ездила с подарками в рабочие бараки, когда мы были в Костроме. Вместе с тетей Эллой.
– Это когда мы были в Костроме?
– В тринадцатом году. На празднество юбилея династии.
Анастасия смотрела прямо, жестко, и тяжело дышала, будто бежала. Приоткрыла рот.
– И как там? В этих бараках? Страшно?
– Страшно. Как там люди живут? Я не понимаю. Там такие большие комнаты, и в каждой комнате по многу человек. Иные спят на полу, и даже без матрацев, на тряпках. На своей одежде. Есть комнаты получше. Там женщины с детьми. Дети орут, запахи… – Мария повела плечом, склонила голову к плечу, смотрела косо и снизу, как птица. – Дети тощие. Страшно худые. Нам одного развернули, вынули из пеленок. Пеленки – ветошь. У нас такими тряпками на кухне столы вытирают. Матери плачут: нам детей нечем кормить, у нас молока нет, пришлите хоть молока, каши! Хлеба пришлите! Стася, я стояла и смотрела, и мне стало плохо. Просто плохо. Но я крепилась.
Сестра опустила глаза. Мяла в пальцах край фартука.