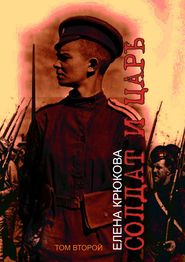скачать книгу бесплатно
Лямин голову задрал и смотрел на кучевые, плотно и радостно громоздящиеся в острой, блажной синеве облака. На заборе сидела бойкая сойка с рыжей головой, с ярко-синими стрелами на перьях крыльев.
– Да, брат, никто не ожидал! А впрочем, Совет-то ожидал. Да дело не закончилося на энтом. Владыка крикнул: все за мной! К Губернаторскому дому! Освободим цесаревича! И, прикинь, пошел, крупными такими шагами, и все – за им пошли… валом повалили… ну, думаю, церковная революция наступат!
– А ты, что ли, там был?
– А как же не был. Княжны-то на службе стояли. Со свечками в руках. Их попробуй тольки в храм не пусти. Все постромки порвут…
– Это верно. Умоленные они.
– Лоб-то крестят, а народ свой задавили!
– Какое задавили, они же барышни.
– Барышни! Ели-пили на золоте, на хрустале! А кто то золото да тот хрусталь им добывал?!
– Ну и что, дошел Гермоген с паствой до Дома?
– Дошел. Да тольки мы хитрей оказалися. Жара ведь на Пасху стояла. Чистый июль. А мы натолкали среди прихожан, как изюм в булку, наших людей. Красных солдат и чекистов. Просто для догляду. Штобы – без безобразий. Ан вон как оно повернулося. Гермоген – вождь, смех да и тольки! Я вместе со всеми в толпище шел. Притекли к Дому. Солнце головы старикам напекло, они все и рассосались. А мы все ближей к владыке подступали. Взяли его в кольцо. Как волка. А-а, думаю, волк ты в рясе, уж мы тебя щас спымам!
Лямин прислонился спиной к забору.
– Нынче тоже печет будь здоров. Аж фуражку пропекает.
– Не бойсь, мозги твои не спекуцца.
– Не тяни кота за хвост. Дальше давай.
– Дальше? Длинны уши у зайки, да коротка об ем байка! Арестовали мы попа.
– Я так и понял. А куда деваться.
– Девацца? – Люкин смерил Михаила коротким и подозрительным, жарким взглядом. – А ты бы делся?
Забор грел Лямину спину сквозь гимнастерку.
Михаил сначала улыбнулся, потом, для верности, хохотнул.
– Куда б я делся.
– Ты не финти.
– Я?
– Ну ладно, ладно, пошутил я. Пошутить нельзя. Ну и вот. Волокем владыку в тюрьму.
– А я думал, в Совет.
– А что зря время тратить. Сразу туды, куды надо.
Лямин прикрыл веки, и перед ним замелькала толпа, разметанные волосы владыки, в уши ввинчивался набат – звонили с храмовой колокольни. Он почти увидал, как стрелок поднял ружье. Колокол замолк. Жизнь оборвалась.
– Все, Сашка, поболтали.
– А теперя куды?
– А никуда. Сторожить.
– Устал я энтим сторожем быть! – Люкин сложил губы подковой. – Мне бы, браток, к земле скорей!
– Не один ты по земле тоскуешь. И без тебя тут таких – весь отряд.
Медленно ступая, пошли в дом.
Перед лестницей Сашка остановился. Пошарил в кармане.
– Эх, не хотел тебе давать, да вот помусоль на досуге. Письмишко одно. Я его у одной тетки в тюрьме забрал. У бывшей, понятно. Ее обыскали перед камерой, да плохо, видать. Она часы с собой пронесла, бумагу и карандаш. Били ее. Пытали, укрывала ли у себя в дому беляков. Молчала, как каменюка! А потом часы развинтила… чем тольки, ума не приложу?.. железяк этих наглоталася… и сыграла в ящик. Я вхожу в камеру, а тама – труп. И лежит так смирненько. Будто спит. Мишка, прикинь, энто ж так больно – от железяк в желудке умирать.
– Больно от всего.
– Я ее обшарил всю. Бумагу с карандашом прятала в лифе. Там же, видать, и часишки. Бумага исписана вдоль и поперек. Я взял! – Прищурился. – Думаю, а вдруг заговор тут! Так я ж первый открою!
Рука Сашки вынырнула из кармана. Лямин смотрел на сложенные вчетверо грязные листки. Сашка протянул письмо мертвой женщины Михаилу.
– На-ка. Изучи. Я – изучил. Ночами при керосиновой лампе читал. Мне керосин Пашка разрешала жечь.
– Пашка то, Пашка се. Пироги тебе пекла? Лампу жечь позволяла?
– А што, Пашка собственность твоя?
– Ты все знаешь. И берегись.
Криво, косо, мучительной улыбкой свело щеки Лямина.
– Да все знают. Опять же шучу! Што тянешь! Держи, коли дают.
Лямин взял исписанные листы и заправил в карман гимнастерки. Плотно застегнул пуговицу.
«Здравствуй и прощай, милая моя Тася!
Я в тюрьме, и отсюда уже не выйду. Чтобы меня не расстреляли, я хочу сама покончить с собой. Ты не переживай, я все уже придумала, что и как.
Я, как могла, все эти полгода помогала Владыке и его супруге. Они часто голодали. Он всю провизию, что у него вдруг оказывалась, голодным детям раздавал. А я устроилась на работу в Советы, машинисткой. Мне платили жалованье. Я покупала себе на рынке жмых и прошлогоднюю картошку, хлеба мне хватало буханки на две недели, я ее мелко резала и сушила сухари. А Владыке покупала все, что надо – хлеб, масло, яйца, молоко, рыбу. Только на мясо денег уже не хватало. Но ведь и посты тут; Владыка мясо не ел, а я уже давно забыла его вкус. Но душа моя радовалась, пела.
Я знала всю подноготную Советов. Советы отдали негласный приказ: при первом удобном случае арестовать Владыку. Владыка мне сказал: «Зазочка, я знаю, скоро меня арестуют. Я не жду пощады от палачей. Они меня убьют. Они будут мучить меня перед смертью. Будут, я знаю; и я готов к мученьям. Готов каждую минуту, каждый миг. И с радостью пойду на муки, за слово и торжество Господа нашего. Я давно ничего не боюсь. И не о себе печалюсь. Я боюсь за наш народ. Что с ним станет? Что большевики сделают с ним?»
Власть готовилась схватить Владыку. Я видела эти приготовления. Тасенька, я сама печатала все приказы и постановления! И мне надо было так держать себя в руках, чтобы руки мои не дрожали. Мне это удавалось, когда я сидела за «Ундервудом» там, в кабинете председателя Совета. А когда я возвращалась домой – меня било и колотило от ужаса и боли, а однажды даже вырвало.
Владыка сказал мне: Зазочка, на Пасху будет Крестный ход. Готовься. Он так это сказал, что я все поняла: он все знал про себя. Знал день и час, и смело, радостно его встречал. Перед Светлым Праздником Совет послал сделать обыск в покоях Владыки. Все подгадали, когда его не было дома. Солдаты все разворошили в доме, разбили и обгадили, и, что самое дикое, разрушили алтарь домовой церкви Владыки и гадко осквернили его. Владыка пришел домой со службы, увидел это все. Я понимаю его чувства. Но я не понимаю, как можно прощать врагам своим. Я пытаюсь, и у меня плохо получается. Видимо, это могут только святые.
Я стала готовиться к Крестному ходу. Вынула из шкапа свое самое торжественное платье. Оно чудом сохранилось у меня еще с Иркутска! Тасенька, а помнишь Иркутск? Балы у Яновских, пляски черного медведя на Покровской улице? И как мы с тобой ходили на рынок и покупали там сушеный чебак и застывшие на морозе круги молока и сливок? Какой же праздник был этот рынок! Я до смерти его не забуду. Вот умирать буду, здесь, в этом гадком застенке – вспомню. Помнишь Любу, она торговала мехами, соболиными шкурками? Сотовый коричневый мед у бурятки Даримы? Облепиху, и как она горками лежала на прилавках, а мы с тобой подходили и брали маленькую ягодку – попробовать? А она кисло-сладкая, скулы сводит. И ты морщишься и закрываешь муфтой румяное лицо. Тася, ты такая красивая была тогда! А я при тебе, рядом, как безобразная служанка. Но мне тоже было весело.
И вот Крестный ход. Столько народу пришло, ты даже не представляешь! Весь Тобольск. Я даже не подозревала, что в нашем городе осталось столько истинно верующих. Мы шли за Владыкой, многие зажгли свечи и несли их в руках, и пели стихиры и тропари. Дошли до Кремля. С кремлевской горы мы хорошо различали внизу, под горою, Губернаторский дом. Там в неволе страдают Императорские дети. Владыка медленно подошел к краю кремлевской стены. Поднял над толпой крест. Так высоко поднял, будто до неба хотел достать. И так, с крестом, стоял на горе. И смотрел вниз, и мы все тоже смотрели.
Мы смотрели на этот Дом. И у всех, клянусь тебе, было одно чувство. Мы были охвачены одной болью и одним упованием. И это было так прекрасно. Я никогда в жизни не переживала ничего подобного.
Владыка медленно осенил крестом, крестным знамением Дом. Я уверена, Дети смотрели на нас и видели Владыку, Кремль и крест. У меня было чувство, что я вижу их всех в окне; и как они крестятся, и я тоже перекрестилась, и все люди, и все улыбались и плакали.
Но, знаешь, Тасенька, у меня еще одно чувство было, и очень сильное. Что мы все, кто собрался здесь и шел Крестным ходом, мы все – мертвецы. И нас завтра, сегодня уже не будет. И не будет никогда. Что вот так, вместе с нами, уходит и уйдет наша родина, та, которую мы знали и любили. А вместо нее будет что-то иное. Что? Я этого не знаю. И все, кто умирает сейчас, тоже этого не знают.
Крестный наш ход стерегли военные отряды: конница и пешая милиция. Всадники теснили нас боками лошадей. Оттесняли от Владыки. Владыка шел размеренно и твердо, ветер развевал его бороду. Глаза его ясно светились. Мне показалось, над его непокрытой головой сияет слабое свечение. Нас было много, но стояла ужасная жара, и многие старые люди жары не выдержали. Они отступали в тень, уходили домой, на прощанье перекрестив медленно идущего Владыку.
Я старалась идти поближе к Владыке и Анне Дмитриевне. Но меня отталкивали. Владыка на меня оглянулся. Я открыла рот, чтобы ему сказать: «Я люблю вас, Владыка!» – а он приложил палец к губам и улыбнулся мне: молчи, все должно совершаться в смирении и молчании.
Люди то ли сами уходили с Крестного хода, то ли их разгоняли, а может, забирали; я не знаю, но толпа таяла прямо на глазах. Нас немного оставалось, идущих за Владыкой. Конница гарцевала уже совсем рядом. Я нюхала конский пот. Жара усиливалась, с меня тоже тек пот, как с лошади. Солдаты подняли винтовки и стали бить оставшихся людей прикладами. Они с криками стали убегать прочь. Тасенька, солдаты подошли к Владыке и окружили его, а он все еще держал в руках крест! Так они крест у него вырвали. Я так и ахнула и закрыла рот рукой, чтобы солдаты не услышали.
Я увидела: ведут его, и руки у него сложены за спиной. Все, арестовали. Я брела за солдатами, и ноги у меня были как ватные. Я слышала, среди красноармейцев кто-то говорил: не троньте ее, это Заза Истомина, она у нас в Совете машинисткой служит, ну кто же виноват, что она верит в Бога. И тут с колокольни ударили в колокол! Так били, сердце из груди выпрыгнуть хотело! Я впервые в жизни услышала набат. Нет, вру, в детстве слышала; когда у нас в Иркутске загорелись продуктовые склады на Вознесенской улице. Солдаты подбежали к колокольне, подняли винтовки и начали палить. Быстро попали в звонаря. Набат захлебнулся. Я не вынесла всего этого, ноги у меня подогнулись, и я опустилась на колени, прямо посреди пыльной дороги. Мимо меня шли солдаты. Кто-то пнул меня, как собаку. Я закрыла глаза, а когда открыла их – я стояла на коленях на мостовой одна. Люди исчезли.
Я видела, как уходили Владыка и солдаты. Они шли тесной кучкой, солдаты боялись, что Владыка убежит, вырвется – он ведь был очень сильный, крепкий. А что им бояться, у них оружие, а Владыка безоружный. Так вооружены, и такой позорный страх!
Тасенька, Владыка пребывал в нашей тюрьме, и мне разрешено было передавать ему продукты. Книги сначала передавать запретили, и бумагу тоже. Но потом я попросила председателя Совета, и бумагу для писем передавать разрешили. Председатель Совета Хохряков, правда, после этого разрешения противно подмигнул мне и сказал: «Заза, вы теперь мне должны! Вовек не расплатитесь!» Я поняла, о чем он говорит. И я подумала: если священномученики страдали, так и я тоже пострадаю, когда время мое придет. Но пока Хохряков на меня не посягал. Револьвера у меня нет, и отстреляться я не могу. А жаль.
Если бы у меня был револьвер, Тасенька, я бы сначала убила всех, кто мучил Владыку, а потом бы себя, хоть это и смертный грех.
Хохряков все письма, что передавал мне Владыка, самолично просматривал. Прочитает и мне отдаст, а на лице такое отвращение, будто он лягушку съел. А я потом письмо принесу домой, свечку зажгу и весь вечер, всю ночь читаю и плачу. Перед тем, как его замучили, он так написал: я много молюсь и вам всем советую не покидать укрепления молитвенного. Не печальтесь обо мне, что меня заточили. В темнице человеку приходит смирение и просветление. Он видит жизнь свою и изнутри, и сверху, и даже из другого времени; и даже может увидеть с высот Страшного Суда, когда пространства не станет, а время совьется в свиток. Темница – нам воспитание и обучение. Дух в застенке мужает и торжествует. Возношу ежедневные и еженощные хвалы Господу, что посылает нам страдания и радости. И в страдании есть радость. Ежели ты пребываешь между жизнью и смертью, ты сильнее понимаешь величие Бога и чувствуешь малость и краткость человека.
Так он писал, а я читала, и к утру вместо лица у меня катилась на платье одна огромная слеза. Я вся превращалась в слезы. А утром надо было умываться, пить чай, надевать платье и идти на службу в Советы.
Хохряков велел мне напечатать новый приказ: потребовать у Православной церкви города Тобольска выкуп за Владыку. Выкуп этот звучал как сто тысяч рублей. Церковь богатая, смеялся Хохряков, ничего, соберут! Тасенька, конечно, не собрали. Тогда я печатаю новую бумагу: собрать десять тысяч. Коммерсант Дементий Полирушев принес в Совнарком эти деньги. Как у Хохрякова рука не отсохла их взять! Но взял. Взял – и, самое ужасное, тут же велел арестовать тех иереев, кто деньги принес. Их было трое: Минятов, Макаров и Долганов. Я запомнила их фамилии, я же сама печатала приказ об аресте. Я тут же поняла, что с ними сделают. Печатаю и думаю: вам не жить, мученики. Пальцы у меня судорогой сводит.
Прихожу однажды на службу, а мне говорят: все, не будешь больше записки от попа на волю передавать! В Тюмень его отправили! Во мне все сжалось. Так вот где его задумали казнить. Хохряков мне говорит: вы что это, Заза Витольдовна, лицом как простыня сделались? Не накапать ли вам капелек сердешных? Я постаралась не упасть на пол. Выпрямилась и говорю: не извольте беспокоиться, со мною все в порядке.
Потекли дни. Воздух вокруг меня все чернел и сгущался. Я чувствовала запах смерти, но отгоняла его от себя, как благую муху. Из Тюмени вскорости вернулся большой друг Владыки, Кирилл Рукавишников. У него брат Никандр служил лоцманом на пароходе на реке Туре. Кирилл явился ко мне за полночь. Я сначала испугалась, что кто-то так поздно стучит, но потом узнала его голос и открыла ему. Он стоит на пороге грязный, дрожащий. И плачет, мужчина плачет. Меня обхватил крепко, прижал голову к моей груди и рыдает. Я его напоила горячим чаем, а он мне рассказывал про последние дни и минуты Владыки.
Все так было, Тасенька. Владыку привезли в Тюмень. Потом погрузили его, отца Петра Карелина и трех арестованных, тех, кто деньги от Полирушева приносил, на пароход этот. Пароход подплыл к селу Покровское. Здесь на берег спустили трап и приказали выйти священникам. Построили их на берегу, в виду реки, вскинули ружья и всех расстреляли. Лоцман Никандр на палубе стоял. Кирилл говорит: «Брат хотел перекреститься, а голос ему был: зачем? Хочешь, чтобы тебя тоже убили вместе с ними? Не показывай Бога им, они этого не любят!
И так мне Кирилл говорит дальше: «Владыка и отец Петр стоят рядом. Пароход качает. Никандр говорит мне: Кирилл, ты не вообразишь, какое лицо было у Владыки! Будто он в облаках Господа видел. Я говорю: Никандрушка, да так оно и есть, именно видел, в тот самый миг».
Тася, солнышко, Владыку и отца Петра эти люди спустили в темный и грязный трюм. Без еды, без воды. Как человек может так с человеком! Со своим, русским, родным! Что за диавол обрушился на Русь, что мы все так люто стали ненавидеть друг друга! И убивать, убивать. Без молитвы и сожаления.
Пароход поплыл к Тобольску. Причалили к маленькой пристани, и тут Владыку и отца Петра пересадили с одного парохода на другой, под названием «Ока». И Никандру тоже приказали перейти: у них лоцмана не было, боялись сесть на мель. Кирилл рассказывает дальше так: «Брат мне шепчет: у него уже щека щеку ест, так отощал, а глаза горят, горят! Он видит то, что еще не видим мы все! Они перешли по трапу на новый пароход. Владыка вдруг шагнул к Никандру и тихо так ему сказал: передайте, раб крещеный, всему великому миру, чтобы обо мне помолились Богу.
Вот ночь сошла. Светлая, июньская…»
Кирилл сидит передо мной и говорить не может. И я не могу ничем утешить его.
А дальше вот что было. Солдаты вывели на палубу Владыку и отца Петра. Владыка и отец Петр переглянулись. Владыка перекрестил отца Петра, отец Петр – Владыку. Улыбнулись. Прошептали молитву. Отца Петра повалили на палубу. Притащили два огромных гранитных валуна. Крепко-накрепко веревками, густо, в сто обмоток, привязали камни к ногам отца Петра. Подняли, подтащили к борту и сбросили в воды Туры. Владыка стоит и глядит. И улыбается. Большевики закричали ему: что скалишься, церковный пес?! Сейчас смерть твоя придет! Ну, помолись, помолись хорошенько! Кровь из народа пил – теперь речной водички попей!
Кирилл вдруг себя за плечи обнял и так стал дрожать, что я подумала – у него крупозное. Шепчу ему: может, вам малины раздобыть, меда? Так я к соседям сбегаю, попрошу. Он машет рукой: «Зазочка! теперь самое страшное осталось. Но слушай! Ты должна это выслушать».
Тасенька, а ты должна это прочитать. Читай.
Капитан приказал остановить машины в трюме. Пароход стал посреди Туры на якорь. Все солдаты, толкая перед собой Владыку, спустились на нижнюю палубу. Кирилл остался наверху. Он все видел сверху. Владыку привязали к пароходному колесу. Когда его привязывали, он улыбался. А потом закричал: Господи, прости им всем, ибо не ведают, что творят! Господи, умираю во имя Твое! Капитан с мостика махнул рукой и крикнул: левая машина полный вперед, правая полный вперед! Колесо завертелось. Сначала медленно, потом все быстрее. Колесо разрезало живое тело нашего Владыки. Разрезало и кромсало его на кусочки, на кровавые живые куски.
Родная моя Тася, когда ты будешь читать это письмо, меня уже не будет в живых. А может, ты никогда мое письмо не прочитаешь, потому что его найдут на мне и, скорей всего, сожгут в печке. Знай, милая моя, любимая, что я перед смертью молилась за тебя и за Гришеньку. Бог сохранит тебя. Мы не знаем, какая будет у нас в России жизнь. Может быть, никакой жизни вообще не будет, и все сгинет и травой порастет. А может, будет еще жизнь; и, как знать, хорошая и светлая, если мы победим силы тьмы. Мы живем теперь посредине тьмы и убийства, и многие сами стали убийцами, чтобы спасти свою жизнь. У меня есть часы. Я пронесла их сюда в исподнем. Я их развинчу ногтем на винтики и железочки, все проглочу и умру. Такая смерть гораздо легче смерти Владыки. Если он вынес муку, то вынесу и я. Зато потом я окажусь на небе, вместе с ним. Я верю в это. Я так верю в это.
Обнимаю тебя, целую и крещу, родная моя Тасенька. Христос с тобой. И со всеми нами. Аминь. Твоя Заза. Мы встретимся ТАМ».
…Лямин тщательно изучил письмо. Не зашифровано ли что в наивных, горьких словах. Искал между строк тайное, преступное. «А что шарить-то, человек сам себя убил, нету человека, нет и подозрений». Повертел растрепанные листы в руках. Видно было, что письмо много читали, лапали. Остался даже отпечаток жирного, в сале или в масле, большого пальца.
Михаил носком сапога отворил печную дверцу и бросил письмо в огонь. Счастливые эти Заза и Тася. Глядишь, уже и встретились.
* * *
ИНТЕРЛЮДИЯ
Какая музыка звучит! Какая музыка играет, когда здесь пулемет строчит, а здесь – с молитвой – умирают!
Какая музыка… теперь… постой… минуты улетают… пока открыта в небо дверь, пока за дверью смерть рыдает.
Какая музыка… молчи… хрипят… кричат… стреляют, слышишь… Жгут у иконы две свечи. И обнялись. И еле дышат.
Какая музыка…
…да разве жизнь – это музыка? Это все штучки благородных салонов, рояли это все барские, старые, желтые, источенные жучком, широко развернутые на пюпитре ноты. А жизнь – вон она, за блестящими чистыми стеклами окна, за кружевными занавесями: бабы идут в лаптях, мужики – в грязных сапогах, и тащится тощая лошаденка, впряжена в старую телегу, в телеге свалены мешки, непонятно, с чем: с картошкой, а может, с подмерзлой свеклой, а может, с овсяными отрубями; на мешках – детишки: глаза голодные, ручки тонюсенькие, как плеточки. Плачут – как щенки скулят. И что? А то! Мы в революцию пошли, чтобы вот этот, этот народ – одеть, обуть, накормить! Выучить грамоте!
…о если бы так. Если бы так и было.
Но ведь все это было и не совсем так.
Революционеры готовили революцию ради смуты. Не все, но многие. Народом, его именем лишь прикрывались. Им важно было ввести народ в смуту – растерянным народом легче управлять, легче гнать его туда, куда задумано властителями. Сам Ленин удивлялся и восхищался: «Как это нам удалось почти без кьови взять Зимний двойец! Ведь это же пьосто чудо, батенька! Фойменное чудо! Я сам до сих пой не могу опомниться! Ну, у нас тепей вейховная власть! И уж мы ее, будьте добьеньки, не отдадим! Ни за какие ковьижки не отдадим! Никому!»
Революционеры готовили революцию ради коммунизма. А что же это такое, коммунизм? Утопия? Трагедия? Вампука? Райский сад на земле? Почему люди за коммунизм отдавали жизни? Зачем клали себя, свои сердца, мясо, кости и души в фундамент нового мира, что никогда не был построен? И не будет.
Не будет?
Для этого надо понять, что такое коммунизм
Коммунизм – это когда все равны, все довольны, все счастливы, все грамотны, все работают, все всем обеспечены, все рождаются, вырастают, живут. А потом умирают.
Нет преступников. Нет опасных и гадких болезней. Нет войн. Нет революций. Нет тайн за душой. Нет голода. Нет страданий. Ничего нет.
А умереть можно и безболезненно: кто пожелает, тому делают сонный укол.
Но это только в виде исключения. А так все умирают сами собой, тоже радостно и счастливо, с сознанием хорошо выполненного на земле долга.
Люди всегда идут за несбыточной мечтой. Так одержимый любовью парень идет за девушкой, даже если ее увозят за тридевять земель; идет, сбивая в кровь ноги, по дорогам своего добровольного страданья. Мечта тянет крепче любого магнита. Мечта выворачивает тебя наизнанку, перелицовывает, перекраивает. Из верующего в Бога ты становишься тем, кто разбивает молотком иконы и взрывает церкви.
Во что же ты веруешь? А, в коммунизм. Понятно.