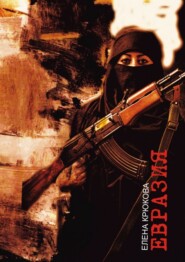скачать книгу бесплатно
И вот случилось чудо. Дожал я-таки Гауляйтера. Он подмигнул мне и тихо, почти шепотом, пообещал: «Отправлю я тебя. Постараюсь. Как? Без списков. Ты об этом не думай. Живи себе пока». Вместо ящиков Гауляйтер приказал партийцам притащить, у кого есть, в штаб старую кровать. Не раскладушку, не матрац надувной пляжный, пошлый, а именно полноценную кровать. Заяц и Родимчик вдвоем ту кровать приволокли. Чья-нибудь старая бабка на ней дрыхла. Спинка никелированная, и под спинкой решетка, а над решеткой блестящие стальные шишечки торчат. Умиление. Я, прежде чем заснуть, гладил эти шишечки, и у меня постыдно щипало в носу. Я не плакал давно и уже забыл, как это делается. Сны мне снились на этой кровати с шишечками удивительные. Хоть записывай, какие сны. То я плыву на корабле, а на нем восстание, все матросы с ножами, гранатами и наганами, а пассажирки – одни женщины, и все, как на подбор, беременные. То я на старом чердаке, среди всякого хлама, будто бы в подвале Мицкевича, но в окно высунусь – высоко над землей: чердак, – и на полу лежит голый человек, и у него ярко-синяя кожа, а рядом с ним лежит очень красивая птица, хвост разноцветный, сияет и золотом, и изумрудом, я проснулся и понял, что это павлин. То привиделась куча детей, и все они куда-то бегут сломя голову, бегут и орут, а дети крошечные, меньше Раисиных близнецов, и они бегут так быстро, так часто перебирают ногами, что мне кажется, у них у всех не по две ноги, а по четыре. А над головами детей горит яркий круг, он слепит мне глаза, и я понимаю – это что-то в воздухе взорвалось, взорвалось и раздувается, и все ярче становится, вот уже на этот шар и глядеть нельзя, – и я во сне понимаю: это ядерный взрыв, и ни один ребенок не спасется, зря бегут, сейчас сожжет их это всемогущее пламя. И я сам, во сне, реву медведем, ору, трясу кулаками у себя над головой, будто бы хочу остановить то, что произойдет, что уже происходит. И не могу. И понимаю – не умом, а нутром, всеми печенками, – что – вот оно, всё.
Втихаря и загодя я собрался. Мне партийцы подарили старый рюкзак. У Баттала, конечно, рюкзак был фирменный, куда круче. Но дареному коню в зубы не глядят. Складывать в рюкзак мне было нечего: зубная паста, зубная щетка, плавки, рубаха, свитер. Косуха на мне. «Купи себе теплые носки, зиму обещают холодную», – сурово, как на швейной машинке мне руку прострочил, сказал Гауляйтер и сунул мне за пазуху тысячу рублей. Мне все время кто-то что-то совал. Я стал таким странным побирушкой. Надо было денег – я когда-то протягивал руку к отцу, я за руку его тряс, тряс за плечи, визжал, клянчил. Но вот отца нет, я остался один, и все же я не умер – то Баттал меня спасал, то Тройная Уха, то Гауляйтер, то все наши – чебуреки мне тащили, пиво, курево. Нет, я не умирал, я жил сносно и временами очень даже славно, но я чувствовал себя нищим на паперти. Унижало это меня? Я не знал. Я предпочитал об этом не думать. Еще в рюкзак я засунул толстую тетрадь – записывать, что на ум взбредет, – еще лупу: а вдруг что-то мелкое, ничтожное надо будет хорошенько рассмотреть. «Паука, что ли, разглядывать собираешься?!» – ухохатывался Ширма. А тут вдруг еще одно чудо свершилось: Гауляйтер приволок мне нетбук. Маленький, беленький, вернее, уже такой грязненький, что из когда-то белого он стал серым как мышь. «Военкор, мать твою за ногу! – беззвучно смеясь, сказал он и щелкнул ногтем по крышке бывалого нетбука. – Будешь нам заметки отправлять! Вождь на сайте в Москве тискать будет!» Я прижал нетбук к животу, выпрямился, взбросил косо ладонь и заполошно крикнул: «Хайль фюрер!» Гауляйтер закрыл уши ладонями и заржал, как необъезженный конь.
Я глядел на рюкзак, он валялся под моей кроватью с шишечками, и думал: вот мой дом, моя кровать, и я скоро все это покину и рвану на Украину. Война ждала меня. И я ее дождался.
Перед отъездом я набрался храбрости и поехал туда, где я жил раньше. Я слез с автобуса, шел знакомыми улицами, ноябрьские деревья хлестали меня ветками по лицу, я не узнавал тут ничего, а ведь я жил тут только вчера. Я нашел дом и долго стоял, глядя на его номер и название улицы на табличке. Потом вошел в подъезд – в нем, как всегда, пахло кошачьей мочой, – впал в тесный лифт с горелыми кнопками и нацарапанными на стенках матюгами, нажал кнопку и медленно в этой пахучей мышеловке поехал вверх. Я ехал и думал: я ли это еду, и зачем я туда еду, ведь все, к лешему, погибло, да и я сам погиб, да и все это не нужно, все ни к чему. Лифт раздвинул двери и выпустил меня. Хорошо, что я не выбросил ключ от квартиры. Я, наверное, целый час стоял перед дверью, прежде чем засунуть ключ в замок и повернуть его. Наконец я сделал это. Дверь не была закрыта на «собачку». Я вошел беспрепятственно. «Домой, – говорил я себе, как под гипнозом, – домой, домой, я пришел домой». Я врал себе и не краснел. Безошибочная пустая тишина обняла меня. Так, что я чуть не оглох. Дома не было никого. Дом был пуст. Пуст, как вылущенный орех. Даже шкафа не было, которым отец и мачеха загораживали свой семейный диван. Даже кресла и стульев. Голые стены. Повсюду валялись никчемные тряпки, будто тут наспех собирались и не успели всю одежду в сумки затолкать. Одна странная вещь стояла ближе к окну, на полу: птичья клетка. В клетке лежал, лапками кверху, мертвый попугай. Я подошел ближе, и засмердело. Я зажал нос и посмотрел на балконную дверь. Она была плотно закрыта, более того – обклеена липкой лентой, как от морозов. И окна тоже были заклеены. На зиму. Я подошел к клетке, поднял ее с пола, рванул на себя балконную дверь, она открылась с треском, липкие ленты свернулись спиралью. Хлынул холодный воздух. Я вышел на балкон и вытряхнул из клетки мертвого попугая на снег. Следил, как он летел, растопырив мертвые синие крылья. Я стоял на балконе, держал в руках клетку и рассматривал ее, пустую и бесполезную. И вдруг я понял, что я вышел на наш балкон в первый раз. Впервые после того, как с него в детстве навернулся. Что я стою на балконе, куда я не выходил никогда. И мне не страшно.
И я засмеялся.
Я шагнул внутрь квартиры и прошел на кухню. Распахнул холодный шкаф под кухонным окном. Отвалил кирпичи и просунул руку в мой тайник. Я вытащил из тайника паспорт, поддельный студенческий билет, он запросто мог пригодиться, деньги, там все еще лежали царские пять тысяч, я их вынул когда-то из живого кошелька, из мертвого отца, и пальцы нашарили еще что-то, в глубине каменной выемки, холодное и гладкое. Я вытащил это гладкое и стеклянное. Это была бутылка водки. Я сунул документы и деньги за пазуху, бутылку в карман косухи и ушел. Крепко захлопнул дверь и даже не обернулся, чтобы посмотреть на нее.
Гауляйтер сдержал слово. Я толкся вместе со всеми, когда все по перекличке садились в автобус, ошивался рядом с командиром – так мне велел Гауляйтер. Командир, я не знал его имени, все посматривал на меня, косился. Думал, должно быть: почему я в автобус не сажусь? Может, на дорожку курнуть хочу? Все сели, и тут Гауляйтер подошел к командиру и показал пальцем на меня. Крикнул бодро: «А это военкор наш! Будет тебе статьи клепать, о наших героях, зашибись!» Командир недолго думал. Кивнул на еще раскрытую дверь автобуса, и я со своим рюкзачком задохлым, а в нем дареный нетбук, впрыгнул туда, куда прыгать было не надо.
Дорогу я плохо помню. Я вообще плохо автобус переношу, если ехать долго, меня тошнит, и я дико хочу спать, вот уж такой я хилый парень. Иногда мне становилось совсем уж дерьмово, и я открывал окно и травил прямо на шоссе. Наши смеялись. А что не посмеяться, цирк же бесплатный, Фимочка блюет, изнеженная деточка. Мы не спрашивали, куда едем. По обе стороны автобуса расстилалась рыжая, сухая, мерзлая осень. Мы подкатили к беленому домику в чистом поле, и я увидал – поблизости, в сухой рыжей траве, коровы пасутся. Странные коровенки: маленькие, как козы, и все сплошь черные, и плотно прижимаются боками друг к дружке, так, что издали выглядят как громадный черный утюг, что гладит грязное золото поля. «Что это за звери?» – спросил я командира, я ближе всех к нему сидел, он на переднем сиденье, и я на переднем. «А, – он развеселился, – это, знаешь, американские коровки. Выносливые, стервы! Воронежский губернатор распорядился доставить из Америки этих коровок. Из Монтаны! Ну полная монтана, я тебе скажу. Скачут по полям, морозы переносят! Им и хлева не надо – огороди загон прямо в поле, и делу конец!» Я смотрел на черных коровок и думал: а вот меня убьют, и я никогда ни в какой Монтане не побываю. И радость и гордость распирала меня изнутри.
Зимуют в полях, ночуют под открытым небом, под звездами, на ветру. Я никогда не думал, что мы в Донецком аэропорту будем ночевать, как те коровки. Даже еще хуже. Люди круче коров. Людей выкинь в открытый космос, и там они выживут.
Беленый домик оказался границей. Никто документов у нас не проверял. Из домульки вышел старик в камуфляже, козырнул автобусу, махнул рукой: проезжайте! Шофер дал по газам. Мы поехали все по той же земле, рыжая трава клонилась под морозным ветром, но это был не ковыль, это я точно знал. Земля все та же, а это уже Украина. Вернее, то, что вчера было ею. Луганская народная республика. Ноябрь кончался, наваливался из-за полей декабрь, и никто из нас не знал, встретим мы на земле Новый год или уже не встретим. Смерть! Здравствуй, мы тебя уже видим, мы близко! Привет! Но нигде не стреляли, и мины не рвались, и зенитки не бухали, и мы все в автобусе начали потихоньку посмеиваться: ну где же она, война?
В поле под Луганском мы остановились и поели, чтобы спокойно пожевать, без тряски, да и водитель чтобы пожрал. Высокое небо светилось над нами близким морозом. Ледяные перья облаков высыпались из божьей подушки. Боженька там проснулся, глядел спросонья на землю и думал: черт, как же вы все мне надоели, люди, коровы, черви. Мы разворачивали вощеную бумагу и целлофан, вынимали разномастную еду – кто домашние блинчики с мясом, кто казенный хот-дог, кто пошлый банан, кто стеклянную банку с супом-лапшой, и хлебал этот холодный суп через край, кто бутерброды с колбасой, и все жевали, улыбались и подмигивали друг другу, и бормотали тому, кто ел бутерброд: «Русская у тебя колбаса-то, русская?! Русская! Нам украинской не надо, запомни! И сало, попробуй только сало жрать! Сам салом станешь!» Автобус опять потрясся по дороге, и, когда мы услышали первую канонаду, мы все переглянулись. Все это было реальностью, эта война, и вот мы на нее приехали. Командир наш подобрался, как волк перед прыжком, у него сделалось такое четкое лицо, будто из меди вычеканенное. Он осмотрел всех нас одним быстрым взглядом и громко, отчетливо сказал: «Слушай мою команду! Если снаряд попадет в автобус – пригнись, руки на голову, ложись на пол! Лицом вниз! Поняли?!» Мы все потрясенно молчали. Только находчивый Заяц проверещал тонким, диким голосишком: «Есть, товарищ командир». Командир еще раз обвел всех глазами: «Аэропорт обстреливает артиллерия, еще обстреливают его из гранатометов и из стрелкового оружия. Приедем, вам всем выдадут оружие на месте». Я почему-то подумал: вот ребят убили, от них остались автоматы и винтовки, и теперь их нам передадут, как факелы. А потом нас чпокнут, и у нас, мертвых, оружие отберут, и новым смертникам вручат. Ничего веселого не было в этих мыслях, но я все равно тихо, беззвучно, как придурок, смеялся. Я вспомнил Мицкевича и его хвост. А может, меня не убьют, и я буду тут воевать так долго, что у меня тоже вырастет хвост; и, когда я вернусь, мы с Мицкевичем будем сравнивать хвосты, у кого длиннее. «Что ты покатываешься? – сердито спросил меня Шило. – Плакать надо, а ты ржешь».
Уже вечерело, когда мы прибыли на место. «Это и есть передовая?» – развел я руками перед Зайцем. «Мог бы не спрашивать», – ответил Заяц и мотнул головой назад. Я поглядел наверх, за его затылок. Я увидел руины, эти здания когда-то ослепляли праздничностью, люди сюда прибывали, таращились на это все и думали: вот оно, счастливое будущее. Обгорелые до железного скелета стены. Камни сыплются. Я не успел ахнуть – над нашими головами просвистело и ударило. Мы все повалились на землю. Командир тоже. Когда подняли головы, лица у всех стали черными. Заяц снял с себя камуфляжную теплую шапку и вытирал лицо. «Артобстрел, – сухо сказал командир. – Всем быстро в землянку! Там переждем, потом двинем в аэропорт». – «Это аэропорт?» – тупо спросил я. «Ну да, донецкий аэропорт, – хохотнул Ширма, тяжело обрушивая свое квадратное тело в землянку. – А ты думал, малахитовое джакузи? Только лайнер тебе не приготовили, на Майами-Бич лететь!» В землянке было на удивление уютно. И тепло. Трещали дрова в буржуйке, на ней стоял и кипятился квадратный и громадный, как Ширма, армейский чайник. Он вскипел, забулькал, и подошел живой огромный, толстый человек, взял обеими руками чайник за деревянную обгорелую ручку и стал разливать кипяток в рядком составленные прямо на земле кружки. От грузного человека пахло землей. И у него было такое широкое, круглое лицо, что мне казалось – сама земля из глубины чертова черного неба медленно, неотвратимо катится на меня. Да, толстое, крупное лицо обернулось ко мне и прямо на меня покатилось. И тогда я увидел: это женщина. «Шо вылупывся? – сказала земля нутряным, подземным голосом, темным хрипом. – Ось, бери филижанку. Пий. Зихриешься». Я наклонился, будто бы кланялся ей, земле, и взял с земли, из-под ног, дымящуюся чашку и обжег руки.
Женщина-земля воевала в ополченском отряде. Среди ополченцев она жила и дышала незаметно, двигалась невидимо, но все, что она делала для воюющих мужиков, было им нужно как воздух. Она была земля, и по ней чуть ли не ходили; из нее, из ее теплого черного, толстого нутра вылетали потешные, кривые и беззубые словечки. Артобстрел кончился, и мы все повылезали из землянки, а живая земля махнула нам грязной, в саже, рукой: «Айда до хаты!» И мы все двинули до хаты. Хата располагалась в одном из залов разбомбленного аэропорта. Там, где еще была крыша. Мы все ввалились туда, гомонили, возбужденные: наш первый обстрел! наш первый кусок войны, и мы его сжевали! Мы – живы! Круглорожая баба обвела бетонные мрачные стены рукой: «Сидайте, панове». Я наклонился к Зайцу. «Поди ж ты, хохлушка сраная, а с ополченцами». Заяц сморщился. «Брось, здесь все на таком суржике болтают». Тут стоял трехногий стол, вместо отломанной ноги ребята подставили ему цинк из-под патронов. Над нашими головами переплетались ребра арматуры. На миг я забоялся: а ну обвалится потолок? Еще здесь стояли три дивана – наверное, раньше они стояли в зале ожидания, и на них спали утомленные пассажиры и играли дети. Бритый Кувалда растянулся на диване, закинул руки за голову и притворно захрапел. Я почему-то подумал: вот, если доживем, мы тут, в этом бардаке, будем встречать Новый год. Над проемом, что служил вместо двери, сквозняк шевелил мрачный брезент. А брезентом гроб обобьют, озорно и жутко думал я, или мой труп накроют, чтобы не видели развороченного взрывом лица. Я почему-то думал, что у меня не станет лица после смерти, его, как яйцо, выест огонь. Веселенькие мыслишки, что тут сказать.
Тут, в этой роскошной комнате, стояла жаровня, и баба-земля уже стряпала на ней что-то такое, что можно было жадно съесть. Жрать мы хотели, это уж точно, ибо все, что взяли с собой в дорогу, подъели. Жаровня эта была, по сути, мангал для шашлыков, круглый, как рожа нашей бабы, и поверх лежала чугунная решетка, а под решеткой мерцали и дымились угли. Я подошел к жаровне и заглянул внутрь. Угли пылали и шевелились. Баба-земля подмигнула мне. «Ось, яке смажыцца мьясце, – зачастила она мелко и дробно, словно плясала языком на жестких звенящих досках, – а для тохо, щоб нэ було зморшок на обличчи, потрибно жерти яйце, мьясце, маслице… сальце!» – «И еще витамин це», – мрачно буркнул я – и все смотрел, смотрел неотрывно, как она ловко переворачивает на чугунных полозьях куски странного, в прожилках, будто мраморного мяса. «А что это за мясце?» – «Так вид мериканських коривок. Коровьяча туша. Яловычына, хиба так! С Воронэжа нещодавно привезлы. Чоловики люблять таку йижу!» Я вдыхал запах жареного на углях мяса и думал: какая же шикарная война, просто фест какой-то. Я отошел от жаровни и спросил Зайца: «А она не шпионка, хохляцкая морда?» Заяц мне не ответил. Он тоже нюхал мясо.
Потом мы поели, и не заметили, как все мигом смолотили, на нас, как танк, наехала железная ночь, и глаза у нас слипались. Командир сказал: «Спите, все реально устали. Если нам повезет, проспим полную ночь. Но палить укры начинают рано утром. Четко по аэропорту работают. Сосните часок-другой». Мы повалились кто куда – кто успел занять диваны, кому достались настеленные на бетонный пол доски. Может быть, тут когда-то висели на громадных окнах шелковые гардины, мигали табло, дикторша шпарила на украинском и на английском языках о прилете и вылете самолетов. Мы, каждый, были живые самолеты, и мы сюда прилетели, чтобы пойти на таран и погибнуть. Что греха таить, мы это понимали. Но мы не корчили из себя героев. И правильно делали. Просто у нас внутри дрожала такая жалкая гордость: пускай мы ничего стоящего не сделали на этой земле, пусть мы ошметки, голь, рванина, отребье, но у нас есть шанс – помереть как герои, и пусть сейчас героев нет, война дает нам этот шанс, возможность эту – не прославиться, нет: кто, на хрен, там будет знать и повторять наши имена! – а просто, помирая за правду, помереть людьми на земле, а не мусором на свалке. Правда! Мы думали, мы знаем, какая она.
Да, в этом аэропорту все было к едрене фене раздолбано. Разрушено много чего, а то, что уцелело, вроде нашей гостиной, так мы стали насмешливо и церемонно называть помещение, где пылала жаровня, где мы ели и спали, когда не было обстрелов, на это надо было молиться: если аэропорт весь сровняют с землей, нам остаются землянки, а декабрь надвигался холодный, мы уже это понимали. Аэропорт находился под контролем войск Донецкой республики, вот и мы тут примазались к славе, и я наклонялся вместе с Зайцем и Ширмой над картой Донецка, и Ширма тыкал острым карандашом в кружки, точки и стрелы: вот поселок Опытное, это если ехать на север, он за прудами, чуть подальше Авдеевка, на запад Пески, на восток, за взлетно-посадочной полосой, Путиловская развязка, это там, где перекрещивались селедкины рельсы железной дороги и подмерзлый асфальт шоссе. Когда укры не стреляли, я бродил по руинам и все изучил. Я глядел на терминалы, глядел на широкую взлетную полосу, по ней когда-то бежали шасси белокрылых гордых самолетов, а теперь валяется битое стекло, отломы кирпичей, бетон, щебенка. Как долго человек все это строит, и как быстро разрушает. Ничего, думал я, вот выкурим отсюда злобных киевлян – а снова все возведем, Россия поможет! Россия всем всегда помогала, шептал я себе, и губу сводило на морозе, а России – кто помогал? ах, никто?! или все-таки помогали, а я об этом не знаю? А что ей, вроде того, помогать? Она и так сильна. Страна-хищница, империя-волчица, талдычат владыки с высоких трибун! Всех и всегда хотела себе подчинить! Хотела быть, жадюга, царицей мира! Но от тайги до британских морей Красная Армия, правильно, всех сильней! Красная Армия, а мы-то кто? Мы разве армия? Так, псы приблудные. Ха! Эти псы еще вас так больно, новые фашисты, за жопы покусают, штаны порвут, будете бежать и оглядываться! Я глядел вдаль, прищуривал глаза, вдали маячило что-то, похожее на церковь. Я попросил бинокль у Ширмы. Ну да, храм, луковица и крестик наверху, и рядом с ним приземистые дома, и целенькие и руины; и вот, да, хорошо в цейсовскую оптику видать, кресты и могилы. Кладбище. «А вот оно и кладбище, и вот тебе церковь, – весело думал я, – далеко ходить не надо, все под рукой». Я все отлично рассмотрел в бинокль. Гаражи, ангары, магазины, старая гостиница, пожарка, а еще гигантская вышка, похожая на шахматную ладью. Ширма сказал мне, что это диспетчерская вышка. Она пугала меня своими размерами. Мне казалось, ее выстроили для инопланетян. Эх, какая превосходная цель была для украишек эта вышка! Я только потом это понял. По ней лупил их орудийный огонь почем зря.
Бинокль в моих руках обводил в воздухе большой полукруг, я щурил глаза, они слезились от холода. Я жадно смотрел, словно хотел на всю жизнь насмотреться. Сизые, как голубиные крылья, полосы жесткого снега жестко прочерчивали черные поля, пересекали серые дороги. Сизый снег, сизое грязное небо, сизый иней, по утрам покрывающий арматуру и расколотый бетон. Командир говорил о перемирии и сам смеялся над своими словами. И все мы смеялись. «Перемирия никакого не будет, – зло сказал Кувалда, – а если будет, я его первый нарушу». – «За нарушение воинской дисциплины – трибунал!» – лаконично бросил командир. Кувалда сверкнул глазами из-под бритого лба. «Командир! – крикнул Медведь, он среди нас, нижегородцев, один был москвич, а в Нижнем у него тетка жила, и он к ней наведывался. – Тут такое творится! Украм пропускают провизию, лекарства! Я сам видел конвой! И мы что, сидим молчим?!» Командир опустил голову. Задергал небритыми, в седой щетине, обвислыми щеками. «Мальчики, – сказал он устало, – я сам не понимаю, что происходит. Я знаю одно: драться надо. Но драться по-умному. Я не хочу вас всех здесь положить». – «Все равно ляжем», – захохотал Заяц и высунул язык. Но никто не засмеялся.
Я готов рассказать о боях. А что, ведь я остался жив, и имею полное право. О войне пишут много и говорят много, да те, кто воевал, часто не умеют, да и не хотят говорить, они, когда о войне слышат, отворачиваются, и я вижу, им хочется плакать. И они плачут, и стараются, чтобы их слезы не видели. А те, кто не воевал, те брешут много и красно, просто соловьями заливаются. Но все равно им не веришь. Ты должен сам тут побывать. И сам все понюхать, и на зуб попробовать. Смерть, ее можно писать только с натуры. Это искусное гавканье, всех этих журналистов шустрых, всех политиков подлых, все это, знаете, мишура. Даже на новогоднюю елку ее не повесишь. Я бы все эти краснобайские побрехушки в нашей донецкой буржуйке сжег. Жег и смотрел бы, как горят. А потом от уголька прикурил. И получается такое плохое разделение труда. Те, кто может правду сказать, молчат. Потому что не умеют складывать слова. А те, у кого язык подвешен как балаболка, те лгут. Врут! И не краснеют. Поэтому я уж лучше пока про бои не буду. Я вам лучше про бабу эту расскажу. Про бабу-землю, так я ее про себя и называл. На самом деле она звалась Фрося.
Иногда мы не грелись около жаровни, а разжигали костер за расколотыми бетонными плитами, в укрытии, чтобы враг не видел. Моя земля, светясь из темноты круглым лицом, сама таскала в костровище палки, сучки, щепки. Огонь занимался, мы рассаживались вокруг костра, наслаждались передышкой между одной и другой гремящей смертью, и баба-земля заводила на одной высокой ноте, будто голосила по покойнику: «Мисяць хрудень, мисяць хрудень! Вже хорять ялынкы всюды! Метушня в останний день – це ж до мене свято йде! Мисяць сичень на порози! Стукотыть у шибку хтось! То на двори, на морози! У кожуси Дид Мороз! Видчиняю двери, прошу! Рик старый – прощай навик! По билэсенький пороши вже новый крокуе рик!» Мы хлопали в ладоши, нам, честно, было все равно, что бабенка наша голосит. Ее жизнь среди ополченцев была такой же нужной и понятной, как бетонные плиты под нашими ногами. Я любил глядеть на ее необъятное, круглое лицо. Оно становилось все темнее, коричневее, совсем земляного цвета, а когда она входила в тепло с мороза, его схватывал бешеный яблочный румянец. Вообще бешеная баба она была. Могла, чуть что ей не по нраву, с ходу в торец заехать. Кулак у нее был такой же тяжелый, круглый и темный, как и толстая рожа. Она поднимала большие, граблями, руки над костром и пела: «Ой дивчыно, шумить хай, кохо любишь, – забувай, забувай! Ой дивчыно, сэрце мое, чы пидешь ты за мене, за мене? Не пиду я за тэбе, нэма хаты у тэбе, у тэбе!» Кувалда пихал меня кулаком в бок. «Ты, слышь, че пялисся на девку, ну не понял разве, не пойдет она за тебя, нет у тебя хаты, нет и не будет!» Я ответно всаживал кулак под ребра Кувалде. «Ты, Кувалда, отзынь, дай послушать, хорошо же ведь поет». – «Не поет, чувак, а спивает!» Баба-земля плевать хотела на нас и на наши речи. Она, закрыв глаза, выводила свое, и над костром билась песня, как птица со связанными лапками: «Пидем, сэрце, в чужую, покы свою збудую, збудую!» Костер добирался до ее круглых мощных колен, обтянутых болотными штанами. «А я ж по-росийскы теж можу. Ось! Слухайте, панове! – Ее волосы свисали из-под пилотки ниже могучих, как две тыквы, щек. – Налетэлы чорны вороны з заходу, налетэлы билы вороны зи сходу… Я вже сонце зустричаты не выйду, я вже в ричци не знаю броду! Я вже така бидна дывчына, сама-самэсенька, шмат-змилок, не прошу вже я у боха мылости-любови: абы лыше не було бильше на моий земли могылок, абы лыше не було бильше людськой крови…» Погон, прикуривая от пламени костра, подпалив себе брови и резко отпрянув, морщился. «Ну какая же это москальская мова? Фрося! Не смеши народ. Мы, ребята с Волги, все дружно подтвердим, что так в России не говорят. Тебе только кажется, что это русский язык!». Все дружно курили, звучал мрачный русский хор молчащих курильщиков. Моя земля медленно оборачивала круглую, крупную себя к мужчинам, окутанным сизым дымом, поднимала над огнем мощные руки и совала их в огонь, и отдергивала, и бросала сердито: «Ну, вже я вся замэрзла, як купына, тут з вами! Ще пивгодыны спиваимо, и треба спаты». Табачный дым вился над нами, обнимал нам лица в саже, смешивался с едучим дымом костра. Однажды у такого вот ночного огня Фрося прочитала нам свои вирши. Мы все рты открыли, как это было здорово. «Донецький край, сторононька ридненька, щастя бажаю, земля-ненько!» Ненько, я думал, что это нянька, а оказалось – мамочка. Ма-моч-ка. Земля-мать. Мать. Мать. Мать. Ма-тьма-тьма-тьма-тьма. Я еще и еще раз повторял про себя это слово, пока оно не обессмыслилось на языке. Тогда мне стало легче. А то бы я пустил слезу.
Ну что вам рассказать про ежедневную смерть? Каждый день начиналась пальба. Обычно рано утром. Но укропы и ночной тьмой не брезговали. Ночью палили вслепую, и страдал город. Батареи АТО стояли в Песках и в Авдеевке, а мы отвечали ударом на удар. Вы думаете, только мы одни ютились в развалинах аэропорта? Были и еще отряды. Все прятались, кто где мог – по землянкам, по окопам, по подсобкам с дырявыми крышами, в исклеванном снарядами универмаге. Первый обстрел, что я пережил, был самый страшный. Дубасили отчаянно, жестоко и долго. Мы дождались паузы и долбанули. Воздух можно было резать на куски, такой плотный гул стоял, закладывал уши. Мы знали, командир сказал: укры скрываются в ямах, как крысы. «На то они и укры, укрываются, секи!» Ходили легенды, что они выкопали там целые подземные города. Но это, понятно, были всего лишь военные сказки. На поверхность из-под земли вылезали минометчики, снайперы и корректировщики, ну, кто направлял удары артиллерии. Каждый день кого-то убивали. Хоть одного, да убивали. Бывало два, три, четыре трупа. «У вас двухсотые есть?!» – орали нам ополченцы, что прятались за бетонной оградой. «Нет! А у вас есть?!» Вымазанный сажей, с мордой негра, ополченец показывал три пальца. Настал день, когда вместо «нет!» наш командир крикнул: «Да!» И показал – два пальца. Вроде как на рок-концерте: виктория, победа.
До победы было палкой не добросить. Слишком быстро я понял, что эта война – из затяжных, из бесконечных. Из тех, что гаснут вшивой свечкой, опьяняются лживым перемирием, притворяются мертвыми и вспыхивают снова, да так, что горят небеса и земля. Баба-земля больше не читала вирши у костра. Она еле успевала таскать раненых в автобус, чтобы их увозили в госпиталь в Донецк, а когда автобус не мог пробраться к аэропорту под огнем, сама перевязывала истекающих кровью. Мы-то себя ополченцами не чувствовали: мы себя чувствовали почему-то солдатами. И будто за нами – армия. Это чувство было сильнее нас, сильнее меня. Но я ощущал, как в этих полях, среди этих терриконов шевелятся под землей кости тех, кто сражался здесь целую жизнь назад – наших дедов. Я про своих дедов ничего не знал, ни крошечки; может, мой дед, отец отца, тут где-то лежал, скошенный пулей немца, или отец матери, которой у меня не было, говорили мне в призрачных, лютых ночах, рея над моей голой головой в тонких, как кисея, снах, что земля Донбасса в боях с фашистом так была полита кровью, что из нее по весне прорастали не стебли, а штыки. Они тут лежат, солдаты, они отдали жизни. Знали, за что. А мы знаем? Да, убеждал я себя, и мы тоже знаем. За то, чтобы здесь можно было свободно говорить по-русски и сделать свое свободное государство. Чертова свобода! Опять она. Мы хотели революции – а вот тут она случилась, и что получилось? Хохлы на Майдане хотели свободы, а получили огонь и кровь. Русские на Украине захотели свободы, и получили кровь и огонь. Свобода, как оказалось, слишком дорого стоила. А наши жизни – тьфу, дешевка. Судьба индейка, а жизнь копейка, приговаривал отец, сам, на старой табуретке, в тесной нашей кухне, старой, может быть, еще военной дратвой тачая сапоги. Чтобы самому починить, в мастерскую не отдавать и деньги не тратить. Убитый мной, гадом ползучим, мой отец.
Втайне я думал, когда обстрел утихал: пусть уж меня лучше убьет снаряд, чем вот так, жить всю жизнь и с этим в душе ходить: я убийца.
Бои? А что бои? Бои тут, в аэропорту, шли каждый день. Когда хочешь шли: ночью, утром, днем, вечером и опять ночью. Я перестал понимать, когда ночь переходит в день, и наоборот. Был день особенно удачный. Мы с утра подбили два хохлацких танка, а вечером два бэтээра. А ночью, уже за полночь, подбили две бээмпэшки. Экипажи, ясен перец, все погибли. На то она и война. Я, трус, от армии откосивший, здесь понял вкус войны. Это как вкус текилы. Страшно, горько, кисло, жжет, противно – и великолепно. И забирает так, что мало не покажется. Прошло время виршей у костра. Баба-земля круглилась испачканным сажей лицом, катилась к раненым, волокла на широченной спине убитых. Ну, не одна она волокла, мы все волокли. Но она одна вытащила из-под обстрела столько раненых, что ни один мужик такого груза не осилил бы. А только плечами толстыми молча поводила. Гимнастерка вся мокрая, темная, потом пахнет. Дышала хрипло, сопела, сопли утирала. А может, слезы. Бабе пристойно плакать. Мужикам – некрасиво. Отдышится – и опять под огонь. Толстая, а по земле, меж руин ловко ползла, ловчей змеи. После того, мы как подбили бээмпэшки, по нас ударили прямой наводкой, и хорошо, что все наши уже ютились вокруг жаровни в гостиной; а я дурак, вот это было плохо, маячил на воздухе, курил. Жахнуло, и я грохнулся на землю и понял: из ноги, чуть выше колена, течет горячее, но не больно, а смешно. Больно стало потом. И здорово больно. Я пополз на локтях – идти не мог. Одну ногу сгибал, а другую за собой волок, как сеть с тяжеленными, мертвыми рыбами. Из-за бетонных завалов выбежала моя круглая баба-земля. Фрося! Как я ее любил тогда! Ее лбище коровий, ее щеки и шею в три обхвата, ее руки, ими она могла бы задушить волка! Я полз и стонал, и она все поняла. Заученным жестом подхватила меня под локоть, мой стон быстро перешел в крик, но она меня все равно подняла и уложила себе на необъятную спину, как на толстый жесткий матрац. И потащила на себе. У меня было чувство, что я ехал на слоне. Кровь наливалась в берц, и ноге становилось влажно и горячо. «Хиба так, хиба так… – приговаривала моя земля тихо и ворчливо. – Так хиба так можна. Ни, николы… николы…» И тихонько так, еле слышно, я едва услышал, бормотнула: «Сыночок…»
Она втащила меня в гостиную и стащила с меня мои камуфляжные штаны, подарок командира. Гача отяжелела, вся напиталась кровью. Моя земля отжала ее, прямо на бетонный пол, огромными ручищами, и по полу стала растекаться красная лужа. Запахло соленым. Фрося вытащила из кармана бинт, разорвала упаковку зубами, стала обматывать рану. Заяц подвалил и заинтересованно глядел. Морщил улыбкой щеки в саже. Скрестил пальцы. «Ништяк, Фимка! Не рана, а намек на нее. Кровищи много, а неглубокая. Считай, бритвой порезался! Щас Фроська замотает… и к столу! Гречка готова! Хай будэ хрэчка!» Круглое мощное лицо летало передо мной. Взмах рук, виток бинта. Мне чудилось: я бессловесная, мертвая бээмпэшка, и стерильный снег крепко бинтует меня. Я не заметил, как уснул. А может, потерял сознание. Очухался от шлепков по щекам. Меня бил по щекам Ширма. Бил безжалостно. Когда я открыл глаза, Ширма с облегчением заржал и дал мне по лбу крепкого щелбана. «Живой, бляха! А мы тут думали, абзац». Пахло гречневой кашей. Моя мать-земля сегодня сготовила кашу на свином жире, и поэтому еще пахло прогорклой свининой.
Мы поняли: передых, пауза, шматок вольного ночного воздуха. Утром опять забабахают. Да могут хоть сейчас; но почему-то мы уже безошибочно чувствовали, когда начнут палить, – видно, развивалось шестое военное чувство, что ли. Чувство смерти. Когда она опять рядом затанцует. Фрося подсела ко мне, лежащему на холодном бетоне, и сурово сказала: «Пидстэлылы б якусь одяг хто-небудь». Мне под зад грубо, с прибаутками, подтыкали брезентуху. Шило бурчал: «Промокнет! Кровищей зальет!» Моя земля села, раскорячив колени, рядом со мной на бетон, взяла в руки алюминиевую миску с гречкой, зачерпнула гречку ложкой и поднесла к моему рту. «Треба трохы поисты, чуешь чы ни?» Я разевал рот, и она всовывала туда ложку. Смешное, щекотное чувство. До слез. Меня первый раз в жизни кормили с ложки. Я кайфовал. Я чувствовал себя ребенком, а Фросю – мамкой, ненькой. Это было одновременно и стыдное, и сладкое чувство. Жаль, оно быстро прошло, мгновенно.
А назавтра мы подбили вражеский БТР. Там было то ли пятнадцать, то ли двадцать человек, не помню. Я из гостиной вышел на волю на самодельном костыле, стоял у стены аэропорта и слышал ужасающие крики. Люди выбегали из горящего бэтээра и валились наземь, я впервые в жизни видел, как горят люди живьем. Много чего тут, в Донецке, у меня случилось впервые. И здесь я впервые понял, что значит выражение «каждый день, как последний». Вот для этих, кто горел в бэтээре, кто вываливался на бетон и полз, пылающий факел, вопя и извиваясь, для них день пришел и вправду последний, а ужасно умереть в муках, я думал: как правдива эта старая песня гражданской войны, ее пел мой отец: «Я желаю всей душой: если смерти – то мгновенной, если раны – небольшой». Рану я уже получил, красный орден. Дело было за смертью.
Горел БТР. Люди догорали, как дрова. Пахло сладко и жутко жареным мясом. Родимчик блевал за самодельным бетонным бруствером.
Ополченцев из Донецка, вторую бригаду, смерть находила быстрее, чем наших. Митю Коровашко из Ясиноватой убило миной. А у него, парни сказали, только что родился сын. Митя валялся на самой границе между нашей и украинской стороной, на бетонном разломе. Он прикрывал разлом собой, и выходило так, что он соединял собой, как мостом, две бетонных плиты. Живой мост, вернее, уже мертвый. Лешка Стовбун из их бригады хотел подкрасться, чтобы забрать тело – около его головы просвистела пуля. Он распластался на земле и пополз обратно. А пули взвизгивали вокруг него, то справа, то слева, и взрывали землю, и рикошетили от бетонных пластов. Когда Стовбун уже почти дополз до бруствера, пуля ужалила его. Она впилась ему меж ребер, в легкое. Он выкатил глаза, упал лицом вниз, еще подергался немного, лежа животом на мерзлой земле, и затих. И земля вокруг него становилась темной и соленой.
Над его раной, над спиной, поднимался легкий пар. Я глупо подумал: вот так из тела вылетает душа. Насовсем.
Другой парень из той бригады, Игорь Заславский, приволок на себе и Митю, и его телефон. Они лежали оба рядом – Коровашко и его сотовый, и сотовый мелко дрожал и играл веселую музыку, на экране высвечивалась крупная надпись: «МИТЕНЬКА МЫ СЕГОДНЯ КРЕСТИЛИ ЯСИКА БАТЮШКА ФЕОФАН ШЛЕТ ПОКЛОН». Все верно, человек родился, человек умер. Все на чашах весов. Я здесь, на войне, стал немного философом, в голову лезли мрачные умные мысли, а я над ними беззвучно смеялся. И над собой.
Честно, мы бы давно раздолбали укров, если б нам чуть больше оружия и живой силы, крутых бойцов. Мы медленно, но верно сжимали кольцо вокруг тех, кто отсиживался за бетонными завалами аэропорта. Месяц спустя мы эту же тактику, жесткую и беспроигрышную тактику котла, повторим в Дебальцеве. А там, в аэропорту, мы учились. Мы сами себя учили. Сами себя увещевали. Сами себя перевязывали, сами себе песни пели. Мы заняли монастырь, тот, на западе от аэропорта; заняли поселок Спартак, взяли пожарную часть. Сжималось кольцо, и командир матерился нещадно и радостно. Его звали Юрий Дереза, я узнал наконец.
Ночами на небо выкатывалась страшная зимняя луна, чаще всего она была мертвенно-синяя, по ее черепу ползали тени глазниц, пустая впадина на месте носа, серый оскал зубов; но иной раз, кем-то жарким и проклятым подсвеченная снизу, она горела пожарищным бревном, оранжевым сгустком, и на глазах увеличивалась в размерах. Она глядела на землю чудовищным застылым глазом, и она оттуда, сверху, видела – железные каркасы наших сожженных ребер, раны вместо стен, битые стекла наших глаз, ногтей, взорванных костей. Луна наблюдала пыль, мы топтали ее ногами – нашими берцами, сапогами, ботинками на высокой военной шнуровке. Это была лунная пыль. Луна не понимала, что она уже высохла и рассыпалась в прах, а мы наблюдаем только ее призрак, лишь память о ней, вбитую в черный дегтярный зенит.
И то сказать: мы ведь были соседи, украинцы и мы. Они в одном терминале, мы в другом. Все просто. Рядом. Очень близко. А вот поди ж ты, кто кого поборет. А может так случиться, что – никто, никого и никогда? Я спросил об этом командира. Он, не глядя на меня, ответил, вроде как не мне, а ледяной луне: «Худший вариант». Я понял так: если это вариант, значит, это в принципе возможно. У нас мало противотанковых ружей, зато у нас хватает гранатометов. Иногда командир, когда сворачивался в клубок на полу, как кот, готовясь заснуть, тихо, неслышно пел, а все мы прислушивались к его пенью: «Артиллеристы, Сталин дал приказ… Артиллеристы, зовет отчизна нас!» Нам на подмогу прислали молодых казаков. Мы уже умели воевать, а они еще не умели. Они заглушали свой дикий страх дикими воплями. Их, почти всех, перебили, как цыплят, из танковых пушек. Мы разозлились. Кувалда кричал: «Я их всех своими руками передушу, вот этими, вот!» – и вытягивал перед собой руки, и устрашающе шевелил скрюченными пальцами. Я глядел на его руки и думал нежно и печально: ах ты дурак, дурак, живое тело и бессмертное железо – разве их можно сравнить! Я сказал Кувалде об этом. Он зло сплюнул мне под ноги: «Железо-то управляется человеком, руками и ногами его. Учи матчасть, Фимоза!» И вот мы, чахлые человечки, погнали железных укров, непобедимых киборгов, из старого терминала, выкурили из гостиницы, вычистили из гаражей и ангаров. Это была наша первая победа, и не такая уж маленькая. Командир поднимал кулак и, страшно и радостно скалясь, кричал: «Но пасаран!» Ночью, выходя под свет дикой одинокой луны и ожидая, что она с небес завоет, увидя нас, израненных, голодных и грязных, белым голодным волком, мы глядели на скелет гигантской диспетчерской вышки. Вот она, наша цель. Наша цель – коммунизм, как писали на транспарантах во времена юности моего отца. Наша цель… Луна заходила за вышку, закатывалась за ее голодный стальной скелет, прятала за железом синий череп, пряталась стыдливо, смущенно закрывала каменным белым, с кистями тумана, платком круглую щеку. А потом опять появлялась. Выбегала. Круглорожая Солоха. Я ее ненавидел: она слишком ярко освещала все вокруг. В том числе и мои мысли. Опять об убитом отце. О мертвой матери. Если даже моя мать жива, она для меня все равно мертва. Все равно что мертва, ведь я ее никогда не увижу.
А тут круглой снежной луной взял да и хитро подкатился Новый год. И надо было его как-то отмечать, традицию не задушишь, не убьешь. Праздник есть праздник. Мы захотели хоть на час стать опять детьми и ждать Деда Мороза, точно как в той хохлацкой колядке, что пела нам Фрося у костра. Елки нет? Так мы родим ее! Бойцы хохотали: «А мы Фроську елкой нарядим!» Моя веселая земля махала своими живыми огромными граблями и кричала в ответ: «Нехай!» На черном от копоти, круглом ее лице сверкала зимняя, ледяная улыбка. Она уже была не моя земля, а бешеная луна, что летела в черных небесах над нами. Небеса победы! Мы чуяли: недолго ждать. Я видел, как Фрося поползла из терминала вон, на воздух. Я неслышно, как кот, пошел за ней. Она не видела, что я за ней иду. Ветер ударил мне в лицо. Я смотрел, как моя земля хитро ползла вдоль бруствера, и проследил, куда. Там, где бетонные нагромождения обрывались, у россыпей битого стекла, валялась – ни за что не поверите! – настоящая елка! Ну, не настоящая, конечно. Искусственная. Кто-то, может, куда-то летел, и из небесного багажа вывалилась. А может, силовики везли своим на праздник в старый терминал, да мы их подбили. «Фрося! Не лезь туда! Убьют тебя!» Я быстро бросился вперед, как сердце мое чуяло. Она, дура, встала в полный рост и пошла к этой, мать ее за ногу, елке, она хотела живенько схватить ее и драпануть, но они хорошо следили за нами, глазастые укропы, и снайперы у них там сидели и в прицелы глядели, и гранаты имелись, да и просто из автомата спокойно можно было бабу покосить, как делать нечего. Как траву в зимнем поле. Сухую траву.
Я швырнул себя вперед и сильно, грубо толкнул мою землю. Сбил с ног. Она упала и выстонала: «О, якохо биса…» Пуля ушла между нами. Между моим плечом и ее круглым животом. Я свалился на нее, горячую и огромную, закрыл ее своим телом, протянул руку и схватил эту чертову елку. Скатился с Фроси. Мы оба поползли обратно к брустверу, а пули пели над нашими головами. Когда мы вползли, как змеи, в нашу родную гостиную, с ладоней у моей земли текла кровь и пятнала бетон. Я судорожно схватил ее за руки и повернул их вверх ладонями. «Плюнуты и розтэрты, – сказала она, тяжело дыша и счастливо улыбаясь. – Це я напоролася на бите скло».
И обтерла со смехом ладони о пестрые штаны.
Как наряжали мы ту елочку! В детстве я так любовно никаких елок не наряжал. Да у меня их в детстве и не было. Отец вставал по будильнику в одно и то же время, всегда ел одну и ту же кашу, уходил на один и тот же завод, и в праздники мы ели все ту же, одну и ту же еду – щи с тушенкой, в них плавал сиротливый лавровый лист, овсяную кашу, иногда с навагой или с минтаем, и пили чай, часто без сахара. И никакой тебе елки; отец кивал на экран телевизора: «Вон елка, в телевизоре, тебе что, мало?» Я глядел на елку в школе, ее ставили посреди актового зала, на ней почти не было игрушек – только обмотки гирлянд и большие, как футбольные мячи, стеклянные шары. К ней запрещено было подходить, директриса ругалась. Еще я видел елки в домах у друзей. Однажды пришел к Зайцу в январе, из кухни вышла тетка с блуждающим взглядом, с отвисшей губой, в заляпанном жиром фартуке, она качалась, как пьяная. Оглядев меня белыми хищными глазами, она опять удалилась в кухню. «Мать, – смущенно сказал Заяц, – она у меня немного не в себе, ты уж прости, она сейчас пытается приготовить утку в яблоках. Ну, новогоднее угощение. Хочешь, тебя угостим?» За спиной Зайца мотала колючими лапами елка, и, я видел, с ветвей серебряными соплями свисали самодельные игрушки. По бедности Заяц, небось, сам из бумаги навертел. А тут мы, можно сказать, из пасти смерти живую елку вытащили. Она – наша награда. Немного расслабиться. Так вот что такое война: это когда ты устанешь так, что жить не захочешь, а тут как тут и Новый год, и безумный Дед Мороз тебе на ухо пьяно шепчет: выкинь все из башки, отдохни, выпей, если есть что выпить, порадуйся хоть немного, вспомяни тех, кто убит, да и еще раз подними бокал за время, вот оно, новое, пришло!
Мы стали мастерить игрушки для нашей елки. В ход было пущено все: и стреляные гильзы, и осколки мин, и разрезанные бинты – мы вязали из них банты, и скотч, и обломки арматуры, Ширма ловко сворачивал фигурки из бумаги, а Родимчик вдруг полоснул ножом себе по пальцу и стал кровавым пальцем возюкать по этим бумажным квадратам, башням, треугольникам и спиралям! «Эй, ты что, спятил? Заражение же будет, у нас йод на вес золота, дурак!» – крикнул ему Погон. Погон вязал черные снежинки из запасных шнурков. Родимчик махнул рукой и крикнул через головы: «Зараза к заразе не пристает!» Моя земля только скосила весело глаза, махнула шершавыми граблями своими и выцедила лишь одно свое, вечное: «Нехай».
Она украшалась постепенно, наша елка, мы подходили и нацепляли на нее то одну жуткую игрушку, то другую, мы понимали, как это все смешно, но ничего поделать с собой не могли, нам так хотелось праздника, и мы делали его, мы сами лепили его, и он вырастал из серой мглы бетона на наших собственных глазах! Моя земля, кряхтя, вскрывала банки с тушенкой. У нас еще была гречка. У нас еще был круг сыра «Пошехонский» – его захватил из Нижнего командир, все берег-берег и доберег аж до новогодья, – плавление сырки «Дружба», консервы «Завтрак туриста» и дырявые пресные галеты. Фрося сильно нажимала на зуб консервного ножа, пробивая дыру в банке, и мясной сок брызгал ей в рот и в щеку. Она слизывала его и смеялась. У нее между передних зубов зияла щербинка. «Ну что, бойцы, геть отсель! – возопил Кувалда и отогнал нас от жаровни. – Ефросинья сейчас хавку новогоднюю нам будет мастрячить!» – «А укропов на праздник разве не пригласим?! – завопил Заяц. – Нечестно это будет с нашей стороны!» – «С нашей, с вашей, – ворчал командир, – пока ты составляешь текст приглашения, они тебя, недолго думая, минами угостят! С пылу, с жару!» Но стояла удивительная тишина. Будто никакой войны и не было вовсе. Тридцать первое декабря, я закрывал глаза и воображал нашу пустую, всеми брошенную квартиру. Отец, я его убил и его закопали, или он выжил? Мачеха, язви ее, она жива или сдохла-таки от разрыва сердца, увидев перед собой мертвого кормильца? Она же и вышла за него из-за денег. Чтобы выжить. И я шерстил его, тряс и обирал, чтобы выжить. И мы, так получается, жили потому, что жил он. Он был елка, а мы были его жадные игрушки. И висели на нем. Пустое тридцать первое декабря всегда было у нас, пустынное, серое, мелькал телевизор, мелькал снег за окном. И щелкала под ребрами, за грудиной тоска, так щелкали раньше, во времена моего детства, магазинные, на кассе, счеты. Их костяшки, ведь это тоже елочные игрушки. И банку пустую из-под тушенки тоже можно сюда, на ветки! И фольгу от плавленых сырков! Ребята, сделайте из фольги – самолетики! А кто может журавля?!
Гречка упаривалась в кастрюле, свинина ей помогала. Фрося мешала половником новогоднее блюдо, больше похожее на кулеш, чем на кашу. Мы облизывались. Проголодались, и нам было все равно, Новый это год или не Новый, и вообще, при чем тут праздник, баба, жрать давай!
Кем-то наспех сделанный серебряный журавлик из фольги от плавленого сырка мотался на черной нитке на самой верхней, под верхушкой, ветке.
А на верхушке, вот чудо из чудес, сверкала звезда. Пятиконечная.
Командир улыбался. Может, он ее сюда из Нижнего привез.
Значит, он верил, что мы доживем до Нового года.
Мы все смотрели на часы. Все повключали телефоны. Мы запитали телефоны от автомобильного аккумулятора, пока все еще работало. Командир хмуро смотрел на старый циферблат на запястье. Время не шло, а бежало. Мы выжили в этом году, кто знает, как повезет в наступающем. Никто ничего не знает. Это нормально. Было бы хуже, если бы знали. Командир расчленил стопку прозрачных одноразовых стаканчиков и протянул игрушечный стакан каждому. Мы стояли кучно, сбившись плотно, протягивали руки с бумажными стаканами к горлу бутылки, и командир сам разливал водку. Бутылка водки была большая, литровая. Ложки, на всех, уже торчали в кастрюле с гречкой, сдобренной свиной тушенкой. На доске лежал изящно нарезанный сыр. «Фу-ты ну-ты, как в ресторане „Прага“, – подбирая слюни, сказал Заяц, – даже плакать хочется». – «Ну ты, на слезу не бей! – весело крикнул Кувалда. – Еще одно жалкое слово – и вылетишь на снег, луну кормить, собаку!» Я представил, как голодная луна жадно грызет тощее, незавидное тельце Зайца. Мы разом сдвинули стаканы, и Родимчик крикнул: «Бом-бом!» – «Не бом-бом, а дзынь-дзынь!» – поправил его Ширма. «Не дзынь-дзынь, а бац-бац!» – подал голос Погон. «Бац-бац, и мимо», – грустно подытожил Шило. Мы опрокинули веселую водку в рот, скривились от горечи, крякнули, утерли рты, засмеялись. Крики смешались, их уже было не отодрать друг от друга. С Новым годом! С новым, елки, счастьем! Да счастье то, что живы, братцы! Победим фашистов, ну не вопрос! А закусь, где закусь?! Фросечка! Кастрюлю тащи! О, вкуснота неописуемая! Ребята, русская весна плавно перешла в русскую зиму! Разливай по новой! По новой так по новой! Сейчас все новое, Новый год же! Тебе побольше? А ряха не треснет?! Мне как всем! А у меня глаз алмаз, давай я плесну! Ну, накатим, братцы! Накатим! С новым, бойцы! С новым, командир! Пусть мы отсюда вернемся, бойцы! Не вопрос, командир! Все вернемся! Не зарекайся! Да я не зарекаюсь, я просто желаю! О, классная кашка! Фрося, тебя нам бог послал! Не бог, а конкретно народное ополчение Донбасса и Павел Губарев! Ребята, разливай, водка стынет! Точно, стынет! Новый год к нам идет! Блин, уже пришел! А куранты, где куранты?! На Спасской башне, чувак! Он красит красной краской звезду на башне Спасской! А мы что своей красной краской покрасим? Какой краской? Ну, кровью своей! Памятник себе? Скромный памятник в селе, жил солдатик на земле! Не ерничай! Праздник же! Ребята, давайте за праздник! Точно! Тише, братва! Фрося говорить будет! Давай, Фрося, бабенка наша!
И я смотрел, как с прозрачным целлофановым стаканом в руке встает из-за кастрюли с кашей моя земля. Моя круглая, мощная, сильная, уродливая, классная, вечная, грязная, великая земля. Моя красивая земля. Ненько. Какая разница, хохлацкая или кацапская. Это моя земля. Моя! И вот она разлепляет земляной рот. И вот она начинает говорить. Что она нам скажет? А какая разница? Словом можно вылечить, а можно и убить. Слово запросто может стать пулей, снарядом, миной, бомбой. Выстрелит – и все займется огнем. Заполыхает все вокруг, и будет гореть, не потушишь, водой не зальешь. Моя земля из глубин безумного, на краю смерти, чертова праздника катилась на меня. Сейчас ее круглое лицо врежется в мое. Но я не отстранился. Она сильной, жилистой, в буграх мышц, как у мужика, горячей рукой обняла меня за шею, почему-то меня, притиснула мою голову к своей шее и пророкотала, и я слышал, слушал ее голос, эту пылающую, льющуюся магму, эту золотую яркую лаву, она стекала по мне, по моей гимнастерке, по моей груди, по раненой ноге, по берцам, и я обжигался, и плевать на ожоги, ведь меня обняла и прижала к себе моя земля.
«Любые! Мылисинькые! Бийцы! Так, я ж сэрцем з вамы. Нам потрибно захыстыты нашу батькивщыну вид ворогив. Фашизьм у нас не пройде! Так усе и знайте! Мы ще наши писни заспиваем! А усих вас, сыночкы, з новым роком! Воно ж саме те, свято цей! Хлопцы! Та вы уси мои диты!» Я слушал ее, будто стоял на краю вулкана, а внизу клокотала и бурлила лава. Мне было странно и чуть смешно – вот украинка, казалось бы, должна драться за свою вильну Украину, а не за русских на Донбассе. И вопить, как они все там, западники, вопят: «Слава Украини!» Я убедился: вопить, для отвода чужих глаз, можно все что угодно. Главное, что ты чувствуешь внутри. А внутри у тебя правда. Вот в моей круглолицей, могучей земле была правда. Она была земля, она была от земли. Неужели один выстрел, и она станет землей под ногами, грязью? Черными влажными комками?
Мы выпили, и Фрося крикнула пронзительно, как подстреленная: «З новым роком!» Мы еще выпили, и стало совсем уж хорошо. Но уши, они сами навострялись и все равно ждали атаки.
А вскоре рухнула диспетчерская вышка. Башня свалилась аккурат в старый Новый год, в наш безумный русский праздник, только мы одни его и празднуем во всем мире. Мы в тот день совсем не хотели его праздновать. Я видел, как башня падала. Зрелище, я вам скажу, не из приятных. Но впечатляет. Не хотел бы я оказаться рядом с этой бандурой, когда она валилась набок. В воздухе раздался громкий треск, потом шорох, потом странный, еле слышный и густой гул, потом все звуки медленно утихали, застывали на морозе. Небо то синело, то серело. Башня рухнула потому, что по ней лупили, по приманчивой цели. Как дурашливо пел наш Шило: «Ту-ту-ту-ту паровоз, ру-ру-ру-ру самолет! Больше пластики, культуры, производство наша цель!» Кувалда поцокал языком: «За руинами можно классно укрыться. Прятаться и палить. Это же целый редут, обломки эти». – «Это наши танки, молодчики, молодцы!» – крикнул Заяц. У него лицо было совсем черное, как у негра, и бешено светились на нем одни глаза. «Азохен вей, и танки наши быстры!» – фальшиво спел Родимчик. Я обвел всех глазами. Все были еще живы. И я был еще жив.
А дальше получилось нехорошо. Хотя война есть война, ты просто дерешься, и это твое личное дело, хорошо бьешься или плохо. Я попал в плен. Лучше об этом не вспоминать. Но вы не слабонервные тут, и я тоже не суслик. Хотя я гадко себя там вел, в плену. Точно, лучше бы забыть. Но сейчас я хочу выговориться, и расскажу все. Я много времени этими ужасами не займу. Понимаю, между прочим, тех, кто войны всякие прошел – Афган там, Чечню, Отечественную, разные другие стычки: они не любят вспоминать об этом, да просто даже не могут, я одного ветерана знал, так он начинал рассказывать, а потом плевал на пол, глаза рукой закрывал, весь трясся и уходил. Ну не мог человек. Смогу ли я? Попробуем. Я стрелял из автомата и расстрелял весь рожок. В грохоте этом не услышал, как ко мне сзади подползли. Их было двое, они навалились и скрутили меня, потом один связал мне руки за спиной, другой подхватил мой автомат. Матерясь без перерыва, они погнали меня пинками туда, к себе. На их сторону, в их укрытие. Воздух был с утра морозный, а теперь нагрелся, или мне так казалось. Было трудно дышать. Еще и потому, что мне под ребра хорошо засадили. Я бежал, спотыкаясь. Мы нырнули за бетонные завалы. На меня орали. Я не помню лиц этих людей, потому что меня начали прямо с ходу бить. Они сбили меня пинком на бетонную плиту. Били берцами под ребра, в живот, по печени. Я понял, что мне сломали ребро. Потом меня перевернули на живот и задрали мне гимнастерку и теплый тельник на затылок. Я ничего не видел, но понял – сейчас будут страшное творить. И пошла пытка. Можно, я про это не буду? Или лучше сказать, легче мне станет? Знайте: пытки на войне обычное дело, потому что врага ненавидят. Враг он и есть враг. Они враги для нас, мы враги для них. Все так просто. Проще не придумать. А все эти байки о жалости, о человечности со стороны врага – просто красивые байки. Без них человек не может, он себя ими утешает. Я ничего не видел, задыхался в наверченном на башку тельнике, и понял, что кто-то взял нож и лезвием мне на спине узоры вырезает. Я завопил, мне моим же тельником, скомкав его край, заткнули рот. Кто-то сел мне на ноги, потому что я дрыгался неимоверно. Дрыгался и стонал, и мотал головой. Меня лбом стукнули о бетон, и все поплыло. Я очнулся оттого, что от рук, от пальцев в голову стреляла адская боль. Это мне загоняли под ногти, я думал, иголки, а потом мне сказали – гвозди. Самые тонкие, наверное, обойные. Орать я не мог, во рту уже торчал другой кляп, резиновая груша. Я был голый до пояса, разорванные гимнастерка и тельник валялись рядом. Я мог их видеть, моих палачей. Смерть ходила мимо меня, грубо пинала меня, потом садилась передо мной на корточки и скалилась. Я четко приготовился сдохнуть. Только жаль, думал я, что это так безобразно и позорно. Я бы хотел умереть на войне героем, а вон как оно получается. Я пытался отдернуть руки. Каждую мою руку держал угрюмый укроп. Они держали меня и молчали. А тот, кто всаживал мне гвозди под ногти, напевал песенку. Пел-пел, потом насвистывал. Он имел вид мастера тату, ловящего кайф от своего мастерства. Я потерял от боли сознание, когда открыл глаза, увидел над собой лицо. Лицо напоминало человеческое. Да они все тут были вроде бы люди. Только защищали свою правду. Она отличалась от нашей. У человека щеки и лоб были вымазаны сажей. Наверное, у меня тоже, потому что первое, что он сделал, это грубо обтер мне лицо грязной тряпкой. Наверное, ею, промасленной, вытирали пулемет. Я вдохнул машинное масло и закашлялся. У меня было подозрение, что меня душили шнурком, так болела шея, и трудно было глотать и говорить. И я не мог лежать на спине. Я лежал в своей крови, раны царапал бетон, я боялся, что я опять отключусь, и вдруг навсегда. «Ты, – сипло, простуженно шепнул мне человек, – отудобел? Просто надо было спустить пары. Очень ты нам нужен. Секретов тут никаких нет. Мы знаем, где вы сидите, вы – где мы. Все просто. Просто у вас, чуваки, чуть больше оружия». – «Не оружия, – прохрипел я, – просто мы защищаем нашу свободу». – «Какую, на хрен, свободу такую? – просипел человек с черной рожей. – Где ты ее видел? Вот мы родину защищаем. А ты? Какая она такая, твоя родина? Ты предал ее, дрянь». Я молчал. Пытался проглотить слюну, тщетно. Клей слюны никак не скатывался в картонное горло. Человек с рожей в саже отвинтил пробку от фляги и поднес к моему рту: «Пей».
Потом он мне сообщил, что это именно он вырезал мне на спине красную звезду. Когда я глотнул из фляги, это была ужасная тухлая вода, хорошо, хоть холодная, думаю, это они снег собирали и напихивали во фляги, и он в тепле, у тела, таял и превращался в грязную воду, – вымазанный наклонился ко мне, взял меня пальцами за щеки, повернул мою голову туда-сюда и жестко спросил: «Ты, мудак, хочешь услышать правду?» Я испугался новых пыток и кивнул. Я решил во всем с ними соглашаться. Вымазанный сел рядом со мной, ту же самую масляную тряпку поднес к лицу и вытерся крепко и зло. Нюхнул тряпку и швырнул за спину. «Итак. Начнем ликбез. Ты дончанин? с Донбасса?» Я отрицательно помотал головой. «А, – обрадовался он, – так вообще москаль? Это меняет дело. Значит, мозги у тебя полностью зазомбированные. Так слушай тогда! Слушай, сучонок, и не перебивай! А если я тебя что-то спрошу, то кивни! Кивни! Не смей перечить, потому что ты глуп и туп, как пробка, и сейчас у тебя будет масса открытий, вот ей-богу!» Он набрал в грудь воздуху. Я, чтобы не забыть, прямо быстро так буду говорить, чтобы перечислить все, что из него вылетало и жгло меня, и ужасало.
Свет Майдана, радость свободы, гордость нации, мы гордые, мы украинцы, мы ни за что не отдадим нашу независимость вам, вы привыкли подавлять, захватывать и убивать, вы все время расширяли вашу империю, этот ваш красный медведь всех вокруг завалил и пожрал, и нас пожрал, мы солидарны, мы едины, мы хором читаем «Отче наш», истинная соборность вместо вашей лживой мерзкой церкви, наша великая мова вместо вашего хилого, кривого, увечного, хренового языка, на нем вы привыкли только орать команды, вы страна тюрем и лагерей, мы все это сейчас разрушим, мы снесем все памятники вашим диким зверям – Ленину и Сталину, ваши доблестные советские воины тоже звери, как они наших давили, стреляли, жгли и мучили, мы вам этого никогда не забудем, не простим, Бандера герой, Шухевич герой, слава Украине, героям слава, вы оккупанты, не забудем вам Крым, мы все равно вернем Крым и будем в Крыму, мы будем купаться в его море и жрать его виноград, даже если придется для этого развязать третью мировую войну, это не мы ее развяжем, а вы, вы же спите и видите взорвать ядерный гриб над Европой, над Америкой, надо всей землей, вы же безумцы, ваши подлодки, как шавки, ждут сигнала, ваши ракеты нацелены на нас, да мы вас не боимся, мы все поляжем за нашу мать Украину, за нашу ридну неньку, а вы все сгниете за колючей проволокой, мы вас всех посадим в лагеря, вот для вас мы их опять построим, на кирпич и бревна не поскупимся, душители свободы, лживые собаки, брехуны с высоких трибун, вы только брехали вашему народу и другим народам о счастье, только тявкали, шавки, о любви и милости, о помощи и братстве, а сами загнали всех в цепи и защелкнули на всех наручники, у вас же за всеми людьми тотальная слежка, вы все живете под колпаком наблюдения, двадцать четыре часа в сутки, и мы бросим вас за решетку, будете видеть небеса в клеточку, и будем вешать вас и расстреливать, и пытать, и жечь, да, правы были немцы, жечь, только жечь, как дрова, как черный уголь, и весь Донбасс мы после нашей победы превратим в один громадный крематорий, а потом выкопаем одну громадную шахту, и всех вас, москалей, все ваши сто пятьдесят долбаных миллионов туда сбросим! Мы никогда не отдадим Украину москалям поганым! Надо будет, мы весь Донбасс сровняем с землей, и Крым сровняем с землей, и будем плясать на ваших горелых костях! Горелых костях, да, это последнее, что я запомнил из всей это речи, больше похожей на собачий лай. Чердак у меня опять поехал, все закрутилось, как старая виниловая пластинка под иглой, отец такие слушал, вот и я услышал дикую многоголосую музыку и разум потерял, надолго ли, не знаю.
Очнулся – опять этот сажей вымазанный перед мной: «Что, глазками захлопал, москаль?» Я молчал. Не мог говорить. Под ногтями у меня запеклась кровь. Спина болела адски. Но меня больше не пытали. И еще не шлепнули, а ведь могли шлепнуть уже сто раз. Значит, шансы у меня были. Вымазанный больше не сыпал словами, как семечками. Он разжигал костер прямо на бетоне, черный дым вился вверх, немудрено, что все тут покрывалось сажей – и лица людей, и каменные плиты. Теперь он со мной вел другую политику. Он наводил странные мосты. Он заводил со мной странную дружбу, я понимал так: может, он меня вербует. Я стриг ушами. Слушал внимательно. Нельзя сказать, что я не поддавался его гипнозу. Теперь он говорил спокойно, курил, иногда вынимал сигарету из пачки, всовывал мне в рот и подносил зажигалку. Я курил, катая сигарету из угла в угол рта – руки у меня были связаны. Отлить и оправиться выводил меня на волю снова он, тогда он развязывал мне руки, и, пока я делал свои делишки прямо на его глазах, он похохатывал и держал меня под прицелом. Потом опять мне руки связывал и смеялся: «Да, неудобно веревкой, наручников у нас нет, жаль».
Кормил меня опять он. Сначала хлеб мне в рот пихал, и я жевал, как скот. Потом разматывал веревку, я разминал затекшие запястья и догребал черствой коркой жир и сок со дна консервной банки. Мне было все равно, что было в банке – рыба, курица, свинина: все уже сожрали, мне дали вылизать жестянку, как собаке. Я не удержался и спросил Вымазанного: чего ж вы меня не застрелите? Так прямо, по-русски, и спросил. И он тоже хорошо, отлично говорил по-русски, хотя я слышал, со своими он болтал по-украински. Я лежал на боку, на спину лечь было невозможно. Он присел перед мной на корточки и очень тихо, очень доверительно, будто глупому ребенку что-то важное объяснял, проговорил, почти по слогам, так медленно и внятно: «Нам нужны бойцы. Но не просто бойцы. Наших убивают, убиваете вы. И для нас особый смак, – он так и сказал: „особый смак“, – в том, что место убитого бойца заступит поганый москаль. И будет воевать на нашей стороне. За нас. Перековка, так это у вас раньше называлось, при Сталине? Пе-ре-ков-ка», – еще раз повторил он, чеканя каждый слог. «Понятно, вы меня вербуете, так, кажется, это у вас называется? Вер-бов-ка», – передразнил я его. Он ударил меня по губам, и я плюнул кровью. Однако, спокойно глядя на меня, спокойно вытерев кулак о штанину, он спокойно сказал: «Да, вербовка. Обычное дело на войне. Если не удастся тебя перековать за пару дней, и ты откажешься стрелять в своих, ну, тогда кирдык тебе».
Он наутро, после того, как вывел меня оправиться, опять сел рядом и стал мне вкручивать мозги, и все приказывал, чтобы я ему согласно кивал, а если я против чего-то там, то он мне сейчас опять по зубам врежет. Я кивал и кивал, как китайский бонза. Мотал головой, сам себе казался маятником. Мне, изрезанному ножом, истыканному гвоздями, правда России уже стала отсюда, издали, из укрытия укропов, казаться вовсе даже не правдой, а просто – неправдой. Ну, красивым враньем. Да, у нас в башках была одна правда, когда мы уезжали из Нижнего. Мы читали письмо нашего Вождя из Москвы, бумажное, рукописное, в конвертике на адрес Тройной Ухи пришедшее: «РУССКАЯ ВЕСНА ВЕЧНА! РОССИЯ, ВПЕРЕД! ВПЕРЕД, НИЖНИЙ НОВГОРОД! ПОМОЖЕМ ГЕРОИЧЕСКОМУ ДОНБАССУ ОСВОБОДИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТ ПОГАНЫХ БАНДЕРОВЦЕВ И ЗЛОБНЫХ ФАШИСТОВ! НЕ ПОДВЕДИТЕ, РЕБЯТА!» И дальше написал весь список, кто должен был уехать в том автобусе, всех поименно. Я читал его и с изумлением видел, что Зайца зовут Александр Беляков, а Ширму, к примеру, Анатолий Крученых. Правда, я не уверен, Ширма ли это. Кажется, у нас Анатолий был вроде бы Шило. Но не все ли равно. Вымазанный сегодня наконец умылся, и, возможно, с мылом, я глядел на его чистенькое, как у поросенка, лицо с маленькими, без ресниц, часто мигающими глазками. Ну порося и порося. Только что не визжит и не хрюкает. Передо мной в воздухе будто бы висело перевернутое зеркало, и я сам там отражался, в нем – кверху ногами, с налитым кровью лицом, беспомощный, размазанный по бетону, как гречневая каша-размазня по дну миски. Я вспомнил Фросю. Мне сдавило горло. В перевернутом зеркале я наблюдал и Вымазанного, теперь чистенького поросеночка, и он хорошо, крепко стоял не на голове, а на ногах. А если зеркало взять и повернуть? Тогда что будет? Я встану на ноги, а поросенок перевернется и задрыгает, засучит ножонками в дымном воздухе?
«Видишь обломки башни? – вдруг сказал я ему. Сам не знаю, почему я так сказал тогда. Видимо, смерти уже не боялся. – Это мы ее свалили. Специально. Мы там укроемся и будем вас дубасить. Вам уже, дряни, недолго осталось. Аэропорт возьмем мы. А не вы». Поросенок перекосился. И правда, хрюкнул, и я услышал его визг. «Эй! Шапко! Волоки сюда свои шприцы! Вруби ему! И врубай каждый день! Пока его ломать не будет как следует!»
На меня навалилось, как бревно, чужое тело, оно пахло грязью и водкой. Украинец туго перемотал мне руку выше локтя резинкой, в оскаленных зубах он держал инсулиновый тонкий шприц. Я все понял, да слишком поздно.
Они кололи мне наркоту каждый день. Беседы Вымазанного, нынче Чистенького Поросенка со мной продолжались. Он и не собирался, выходит так, их обрывать на полуслове. Под кайфом я послушно повторял все, что он мне впаривал. Просто эхом. Он слово, и я слово. Как молитву. Вроде как он батюшка, а я при нем дьякон. Когда сладкий туман рассеивался, и наваливалась дикая мука, и я задыхался и просил: «Укол! Укол! Хоть чуть-чуть! Капельку!» – и я с ужасом осознавал, как сильно я вляпался, и как сейчас за дозу, да, просто за вшивую дозу я пойду стрелять, мне всунут в руки автомат и прикажут: убей! – и я пойду и убью командира, Ширму, Кувалду, Зайца, кого хочешь убью, а потом ввалюсь в ихний штаб, рухну к ногам Поросенка и прохриплю: «Дозу», – и мне медбрат Шапко вколет ее, родимую, и я закрою глаза от счастья.
«Я не герой, – говорил я себе, когда опускалась ночь и где-то там, далеко, над руинами аэропорта, висел дикий серебряный череп луны. – Я просто человек. И я уже наркоман. Нет мне выхода, нет спасенья. Все кончено. Я и был-то конченый, а сейчас я кто? Ну уж точно не герой. Я буду стрелять. Я должен стрелять. Я хочу стрелять, потому что я хочу жить. Жить! Жить!» Я поворачивал голову и хрипел: «Шапко! Дозу! Дозу!» Он подходил и делал мне укол. В вену мне он попадал уже безо всякого жгута над локтем. Прямо так, сразу, ловко. Просто чуть натягивал кожу, и вена сама выпирала, синяя, в узлах и синяках, перевитая, как толстая веревка. Шапко знающе сказал: «Это сейчас она у тебя такая, после спадется, и трудно будет иглой попасть». Правда России окончательно стала ложью, и я сказал однажды, подняв заплывшее от слез лицо к Поросенку: «Ты, поросенок. Давай АКМ». У него лицо расплылось в улыбке. Глазки превратились в щелочки. Я услышал его голос, он развевался над моей головой, сине-желтый. «Вот так-то лучше. Иди, герой, бей врага!»
Он мне сто раз говорил: «Враги – это и сепаратисты, и москали, и наша власть, и ваша власть, и мы сейчас, знай это, воюем против всех, да, мы, мы одни! Все против нас. И вы, собаки, на востоке – против нас. И мы не просто тут вас бьем. Мы готовимся к войне с Россией. Мы должны доверять лишь самим себе. Мы должны рассчитывать только на самих себя! А война с Россией будет, будет! Куда мы от нее денемся, куда вы от нее денетесь! Вы же сами ее хотите, собаки, сами!» И только тогда я понял все его поросячьи крики, когда мне в руки втиснули автомат и пихнули в спину: ступай, воюй!
Я оказался на самом верху сваленных бетонных глыб. Автомат ходуном ходил у меня в руках. Я подумал, что разучился стрелять. Хотя стрелять только здесь, на войне, научился. Я видел отсюда укрепление ополченцев. Я уже думал о нас так: они, ополченцы. Мы! Они! Все перепуталось. Отуманенная голова сама приказала рукам поднять оружие. Я увидел две фигурки, они карабкались по камням. Автоматная очередь прозвучала на морозе глухим стрекотом. Одна фигурка упала. Поросенок торжествующе закричал: «Попал! Ай да москаль, ай да сукин сын!» Я стрелял еще и еще, но люди на бруствере больше не появлялись. Потом Поросенок сказал: «Бери связку гранат, ползи туда и бросай. Забросай их гранатами, собак!» Я все сделал, что он хотел. Я сначала пополз, потом устал ползти и встал во весь рост. Зазвучали выстрелы. Я все равно шел. Я сам себе казался смертью, и шел, и торжествовал. И я понимал: смерть тоже смертна, смерть тоже умрет, когда-нибудь, вот сейчас.
Гранаты внезапно превратились в ничто, в воздух. Я сам не понимал, куда они исчезли. Из морозного марева показались чьи-то руки, ноги, голова. Я не успел сорвать чеку ни с одной гранаты, я ничего никуда не бросил. Зато мне под ноги бросилось что-то живое. Я упал. Это живое ползло, поползло на меня, мне почудилось, это огромная змея. Нет. На меня наползала земля. Я понял, что я умер, смерть умерла, и меня заваливало землей, моей землей. Моя земля наползла на меня, укрыла меня собой, придвинула большие свои, земляные губы к моему еще живому рту и пробормотала зло и путано, как пьяная: «Ах ты сучонок паршывый. А ще тэбе ходувала супом з ложкы. Так я ж тэбе вбью, сучонка! Зрадник!» Внезапно слои земли стали спадать с меня, скидываться прочь, вбок и вдаль, и я, освобожденный, увидел, как моя земля, родимая, грозная, взмывает надо мною – черный земляной флаг, в пятнах камуфляжа, с автоматом наперевес. «Так я ж тэбе, хада, зараз застрелю!»
Моя земля, она меня узнала. И я узнал ее.
«Фрося! Не надо!» – крикнул я, но я опоздал. Она выстрелила.
И вместе с грохотом ее выстрела грохнуло везде – сверху, спереди и сзади. И стало грохотать уже без перерыва. Снаряды и мины летели, как с ума сошли, артиллерия как с цепи сорвалась. Вражеская ли, наша? Твоя, моя, ничья? Орудия лупили как безумные. Нет, это люди обезумели, я это давно понял, все мы крейзи, железо ведь продолжение людей, пушки и зенитки это руки и ноги людей, что других людей ненавидят. Уничтожить другого! Да ведь так было и будет всегда. Что тут удивительного? Я оглох, и, когда перестал слышать, подумал: как прекрасна тишина, и, если теперь она будет всегда, я поверю в бога, ведь у бога, черт возьми, так блаженно тихо. И в смерти тихо, понял я, и в смерти ничего ведь страшного и жуткого нет. Просто тишина. И все.
И опять я выплыл из тьмы и тишины. Очухался, голый. Моя земля переоблачала меня. Она сдернула с меня все рваное, грязное и попачканное кровью, и, матерясь, я читал ее матюги по ее зло шевелящимся губам, натягивала мне на ноги портки, на плечи теплый колючий свитер, на ступни – шерстяные носки. Я лежал одетый и ничего не слыхал. Показал Фросе на свои уши. Она разевала рот, широко и уродливо, орала, показывая зубы, как зверь, у нее недоставало клыка, может, ей кто-то выбил в рукопашном бою, а может, в недавней свойской драчке. Она, могучая, хорошо дралась. Это я знал, однажды она будь здоров отделала Шило, когда он на досуге хотел сунуться к ней под бочок. «Где я?» – спросил я мою землю и не услышал своего голоса. «Хоть на пальцах покажи!» Я просил и не слышал просьбы. Я не видел никого из наших рядом. Там, где я валялся, я был один. И только моя земля со мной.
Она наплывала на меня, катилась, выхаживала меня, беспрерывно матерясь. Я огляделся: я лежал в пустом гараже, в странном ржавом корыте, это был перевернутый кузов бывшей легковушки. На дно железного корыта были настелены старые тряпки, ветошь и вата. Может, моя земля ограбила ближнюю больничку? Или раскурочила разбомбленный медпункт аэропорта? Пустой гараж в бреду казался мне пустой избой. Контузия держалась долго, но мало-помалу я начинал слышать. Первое, что я услышал, – как Фрося матерится. «Мать твою за ноху, в боха-душу, в пызду спозаранку, отпыздыть тэбе и расхуярыть, тэбе эбать йийи в эбало твое аж до самой хлоткы, хуыло, сучонок смердючый, пес паршывый!» Я слушал эту матерщину просто как сладчайшую музыку. Слезы радости вытекали из моих глаз, стекали по вискам, их впитывала старая серая вата. Нет, это была не больничная вата; такую вату скорняки вшивают под пышные, пушистые подолы шуб. Моя земля, видать, ограбила скорняжную мастерскую.
Слух ко мне возвращался. Мороз на улице крепчал. Фрося укрывала меня старыми тулупами, они пахли овечьим жиром, а потом забралась ко мне под тулуп и тесно прижалась ко мне, прижалась всем телом. Она прислонила толстые губы к моему уху и опять внятно, длинно и грубо выматерилась, потом тихо сказала: «Ты, дурныку поганый, хрей мэне, та хрийся сам. Так, удвох, зихриемося. Наши думають, що мэне пидбылы. Алэ я тэбе выликую, и разом повернэмося. Сам прощення, сучонок, будэш просыты». Она вжималась в меня все сильнее. Я не знал, что мне делать. Изрезанная спина дико болела. Фрося, переодевая меня, видела эту рану, эту огромную, во всю спину, звезду. И вот сейчас она безжалостно лапала своими горячими жадными ручищами мою израненную спину. Я скрежетал зубами, ну не ойкать же, как девчонка. Он у меня встал, а куда деваться, но я почему-то не хотел раскутывать Фросю и делать свою мужскую работу. Это не я хотел, это он, внизу, в слепой темноте и в тепле, хотел. А я хотел прижать ее еще теснее, наплевать на боль от порезов, наплевать на эту гребаную спину, все зарастет, все застынет морозными шрамами, все на лике земли, на земляной, круглой Фросиной мордахе, заживет, затянется. Забудется. Да, вот так, прижать крепче, уткнуться своей собачьей мордой ей куда-то между шеей, скулой и подбородком, и носом уткнуться, и впрямь как собаке, и шмыгать, и в жаркую липкую бабью кожу дышать с трудом, сопеть, пыхтеть, и губами, зубами вминаться в теплое, мягкое, и плакать, просто плакать, и все. Я так и сделал.
Собаки тоже плачут.
Спину она мне, опять нещадно матерясь, смазывала йодом. Йод, видно, от наших приносила. А я лежал и думал: вот за что мы сражаемся? За что они сражаются? Зараза сомнения вползла в меня. Я думал вроде как с одной стороны, с нашей, а потом начинал думать с той, другой стороны. Оттуда, где меня накачивали черт знает чем, и вот она наступила, ломка.
У меня наступила правильная такая ломка, я не раз видел, как трясет нариков, у нас во дворе, прямо под нашими окнами, они кололись, у них тряслись руки, они еле попадали себе в вены, потом счастливо закрывали глаза, закрывали и садились прямо на землю, затылками упирались в кирпичную стену, и так сидели и балдели, очухивались, им неважно было, весна или зима – садились в то, что хлюпало под ногами, в снег, в грязь, на хрупкую корку наста. Сидели с закрытыми глазами. Неподвижно. Это у них, кажется, называлось «приход». Я смотрел на них сверху вниз, из окна, на их маленькие, вид сверху, головки, на их кукольные тощие ручки, а шприцев, разбросанных по земле, с высоты четвертого этажа не было видно – тонких, как макаронины. Шприцы я находил, когда спускался вниз и мотался под окном. Люди, словившие опасное счастье, исчезали и оставляли после себя пустые шприцы и еле уловимый запах дешевого парфюма. Девчонок среди них я видел редко, толклись все больше парни. Я не мог купить наркотики, они дорого стоили, я знал; мне хватало табака, водки и пива, а на это хватало денег отца. Ломка, да еще какая, а я-то думал – не будет, напрасно думал: меня просто выворачивало, корежило, мышцы над коленями сводило дикой судорогой, икры вообще превратились в одну железную бесконечную боль. Я плевался, ругался, трясся, терял сознание. Царапал бетонный пол ногтями, из-под ногтей сочилась кровь. Мать-земля подсела ко мне. Я даже не думал, что она так поступит. Она придвинулась ближе, подтащила меня под мышки к себе и положила мою голову себе на колени. Я бился затылком ей о колени, а она крепко держала меня, что-то непонятное пришептывая, я мотал головой, а она держала, я выгибался в судороге, а она держала, держала. Она обнимала меня. Я утихомирился. Мне было все равно: я хотел умереть, и как можно быстрее. Она подтащила меня чуть выше и прижала мою голову к своей груди. И гладила по щеке.
Я откуда-то сверху, из тьмы и тумана, со стороны, вроде как вися под потолком гаража, увидел нас обоих: меня, лежащего головой на груди Фроси, и Фросю, крепко обнимающую меня. Она что-то мне бормотала и пела. Кажется, она пела колыбельную. Я подумал, что она сошла с ума. Но так приятно было колыбельную слушать. Грязная, сажей выпачканная, могучая как здоровенный мужик баба, моя мать-земля, и я, ее сынок недоделанный, тщедушный хиляк, зачем-то поперся на войну, а война взяла и смяла меня, как личинку стрекозы или дождевого червяка, и мать-земля шептала мне: сынок, сыночек, куда же ты поперся, куда прикатился? Катись ты обратно, не страдай, не мучь себя! Ты все равно никогда не узнаешь, кто тут прав, кто виноват! Да это на войне и не надо знать! Она просто война, и все, ничего мудреного в ней нет! Убивают люди друг друга! За что? Да за все! За язык! За деньги! За бабу! За идею! За звезду! За свастику! За вождя! За родину! Да, за родину, за землю! А здесь-то, здесь, на Украине, они ее никак не могут поделить! И черт знает, когда поделят.
Вот такую колыбельную пела мне моя Фрося, богатырская ненька. Я сильнее прижимался щекой к ее камуфляжу, и в щеку мне врезалась железная пуговица. От Фроси пахло свиной тушенкой и немного молоком, и я, окончательно сходя с ума, захотел пососать ее грудь и проверить, есть ли там молоко, и, если есть, просто лежать и глотать, и пить, и напиться до отвала. Я стал младенцем, и, честно, я не хотел возвращаться.
Она время от времени стаскивала с меня свитер и мазала мне спину йодом, и тут я извивался и беспощадно орал. Однако спина подживала. Ужасно чесалась, я все просил Фросю: «Будь другом, поскреби, ну хоть расческой, да просто ногтями». Она вздергивала губу: «Бач, якый! Почешы йому там, почешы сям! Тэрпы!» Я спросил ее: «Ты меня вылечишь и к нашим потащишь?» – «А то!» – ответила она без обиняков. Я так и думал. Меня выхаживали тут лишь для того, чтобы под дулом автомата пригнать к своим, уже не к своим, а к страшным и чужим, чтобы они как можно скорее расстреляли предателя. «Меня убьют?» – так прямо и спросил я Фросю. «Хтось?» – «Наши». Слово «наши» я вылепил губами с трудом. «Ось, дывысь, якый розумный! Убьють! Та ще подывляцця, чы хидный ты кули!» Моя земля умела шутить зло и четко. Не придерешься.
Накормив меня из миски все той же вечной тушенкой, она исчезала – понятно, куда: к нашим. К своим.
Настал день, когда она, натянув на меня пропахший гнилой кровью свитер, сказала: «Всэ, выстачыть валятыся. Йдэмо». Коротко и ясно. И вот он, автоматный ствол, и вот я, иду, перебираю ногами. Если я рванусь и побегу – меня застрелят, как зайца. С украинской стороны не стреляли. Фрося выбрала для моего перемещения затишье. Мы подковыляли к знакомым бетонным навалам. Я впереди, баба с автоматом сзади. Я первый нырнул в бетонный проем и оказался в знакомой гостиной. От нее осталась ровно половина. Вместо другой половины гулял воздух, виднелось небо. Щеки драл мороз. Диваны все были изрешечены, пружины торчали. Я шарил глазами и не видел командира. Ко мне вразвалку подошел Ширма. У него через все лицо бежал огромный жуткий шрам. Он буднично произнес, глядя вроде как на меня и в то же время мимо меня: «Ну что, хохлацкий пленник? Выжил? Молодец». А вот Заяц просто просверливал меня глазенками. Подбежал, хохотал, хлопал по плечам, по спине, и я морщился и стонал, и отдергивался от него: «Ты, слушай, у меня там раны, больно же!» Ребята стащили с меня свитер. Повернули к себе спиной. Кувалда издал длинный удивительный свист. «Вот это я понимаю, отделали». – «Что там у меня?» – клекотом безумного индюка, которого с топором ловят по двору для супа, спросил я. «Там, чувак? Звезда. Пятиконечная!» – «Вот фашисты, ну настоящие», – раздался голос. Это сказал командир, он вошел и стоял у бетонного тороса, и смотрел на красную звезду на моей спине.
Я понял, меня не расстреляют. Значит, Фрося не сказала ничего. О том, что я воевал на стороне АТО и что я стрелял в нее. У меня возникло раздвоение души. Ломки еще приходили, но не такие мучительные, как та, первая. Меня крутило, как в столбняке, я задыхался, но терпеть это было можно. Когда меня ломало, я ощущал себя украинцем, и как будто бы меня пытают ополченцы. Ведь они тоже сражались за идею. Мы за идею, и они за идею. Поросенок пытался сто раз втолковать мне, за какую. И ему это, в общем и целом, удалось. Я понял их идею. Я видел: у них своя тут родина, своя мать-земля, и то, что один огромный кусок их земли захотел от них отколоться, после того, как Россия вроде как без спросу взяла себе другой такой же огромный кусок, это бесило их, у них по этому поводу была своя ломка, их всех так же мучительно корежило и вертело. Крым! Что толку, что там люди захотели скопом перевалить в Россию и все проголосовали за это. Тому голосованию, я понял, на Украине никто не верил. Русский Крым всех взбесил. Мы-то радовались, мы прыгали, пели и плясали: «Крым вернулся! вернулась к нам наша земля!» – а украинцы скрипели зубами, вот что. А тут еще Донбасс. Взбеситься можно по полной программе. Когда мне Поросенок все это вешал на уши, я видел, как настоящее страдание уродует его лоб и рот. Он стонал, кричал, как от боли. «Никогда Украина не будет вашей! С нас довольно ваших красных советских годов! Это была целая вечность, вашего красного ига, пес знает, как мы ее пережили! Но теперь мы независимые! От вас, убийц! Не-за-леж-ны-е, ты понял, понял?!» Я кивал. Он разрешал мне только кивать.
А тут, среди наших, родных партийцев, я чувствовал себя и правда теперь чужаком. Я только притворялся своим. Чтобы меня не убили. Ну я же не мог так запросто подойти к Ширме, к Родимчику, к Шилу и сказать: «Шило, я в тебя стрелял. Я стрелял в вас, ребята». Да, я жестокий парень, я это сам признаю. Но тут нутро мое разорвали надвое, и я потерял настоящего себя. Я потерялся. Потерять себя – знаете, это такая тяжелая болезнь. И это сами знаете где лечат. Но тут, поблизости от аэропорта, не было психушек, не было даже простых больниц, ближайшая больница находилась в Донецке, и в город увозили раненых. Раненый Медведь лежал за продырявленным осколками диваном. «Почему за диваном, а не на диване?» – спросил я командира. «Он сам попросил положить его туда. Когда начинается обстрел, он прячет голову под диван, трясется и плачет».
Не было мне покоя. Ночи напролет я не спал. Мы тут все мало спали, но я перестал спать вообще. Мороз усиливался, даже жаровня не спасала. Я все думал о тех ребятах, об украинцах. Да, враги. Но никто из нас не вставал на их сторону просто так, по-человечески. Да, в Одессе, в прекрасный майский день, перебили и сожгли кучу народу в Доме профсоюзов. Вся Россия по телевизору глядела, ролики в интернете крутила, в Мыколу-сотника плевала, и слюна по экрану сползала. А я понимал: уже шла война! Это был уже метод войны. А метод войны – смерть, другого народ не придумал. Чтобы спасти своего, надо умертвить чужого. И еще я знал одно: жестокость заразна. Фашисты вон победили в Германии потому, что вся Германия была как сырое яйцо на сковородке, мягкая, домашняя, булочка с вареньем, а Гитлер пришел и сказал: вы не булочка с вареньем! Вы – народ героев! А герой жесток! Герой должен сражаться и побеждать! И убить всех, слышите, всех во имя своего великого народа! Ну все, сливай воду, туши свет, все и опьянели от этой идеи. Весь народ опьянел. А теперь, говорят, немцы, на молоке обжегшись, дуют на воду. Боятся там у себя евреев как огня, не дай бог немцу еврея обидеть, а во время второй мировой давили их миллионами. Как клопов. Боятся эмигрантов – а мне Баттал однажды сказал: скоро в Европу хлынет людской поток с Востока, берегись, Европа! Скоро, Европа, тебя не станет! Я смеялся и кричал Батталу: друг, кончай прикалываться! «Я не прикалываюсь, – отвечал Баттал, я серьезно. Будет великое переселение народов. В древности так было, и так будет сейчас».
Ночь. Это, я вам скажу, страшное дело. Ночью страшно. Все спят. Храпят. Или делают вид, что спят. Я бессонным мозгом, похожим на страшную птицу, у него вырастают страшные крылья и страшный клюв, ловлю летающие по морозной гостиной мысли других. Мы все спим в спальниках. Спальник от холода не спасает. Командир дал мне чистый свитер и чью-то куртку. Куртка с чужого плеча, с убитого. Я не видел тут Погона. Спросил, где он. Да и так можно было догадаться, зря спрашивал. «У нас потери еще небольшие, можно сказать, никакие, Погон и еще этот ваш, как его, – командир с трудом вспоминал прозвище, – Горбунок. Горбунок, да? Веня Погорелов и Евгений Рудов. Как с куста». – «Здесь похоронили?» – спросил я. Командир глянул на меня, как на идиота. «Отправили двухсотый. С автобусом. Автобус приходил». И вот надо спать, знаю. Надо. Потому что наутро трудно будет воевать. Будешь двигаться как робот. И можешь даже упасть под пулями и заснуть, такое с бойцами бывало. Мозги отключаются. Командир сказал: скоро будем готовиться к бою внутри аэропорта. Штурм готовить. Штурм! Это страшно. На нас побегут люди, мы побежим на них. Мы круче. Мы дерзкие, четкие, у нас все отточено, мы умеем атаковать, подошли наши танки, мы задавим огневые позиции укропов только так. Мы заложим повсюду взрывчатку. И тогда попробуй схвати нас за хвост. Мы сами тебя, враг, схватим. Враг! Я видел перед собой чуть раскосые глаза медбрата Шапко, что, скалясь, втыкал мне в вену иглу. Видел крошечные острые глазки Поросенка. Мог бы я с этими людьми сидеть в сквере на скамейке и беседовать о девчонках, и потягивать пиво? Мог. Или все-таки не мог? И я для них навсегда враг – русский, поганый русак, заяц-беляк, дерьмовый, гадкий москаль? Ночь, она идет неотвратимо. И утро тоже неотвратимо. И время вообще неотвратимо. Вы понимаете, есть вещи, которые нельзя повернуть назад. Как бы мы ни хотели. Я все видел перед собой ногти отца, что медленно, сверху вниз, процарапывали наши старые обои. Все видел, видел. И ночью я видел это ярче, четче.
Ночь мучила меня, она была моим недосягаемым наркотиком. Я видел ее над собой и вокруг себя, и я говорил с ней, а она все молчала, молчала. Я шептал ей: я стану другим после этой войны, точно стану другим! А каким, спрашивал я сам себя хитро, издевательски, каким это другим ты станешь, ты, убийца и злодей? Я уже стал другим, если я думаю о врагах, как о своих. Этого нельзя делать солдату. Я сейчас солдат, и я солдат русской армии, про которую в России говорят, что ее на Украине нет. Да, ее нет: нет отрядов, рот, дивизий, полков. Нет генералов. Но она есть. Это все русские Донбасса. И все ополченцы, что едут из России воевать за Донбасс. Поэтому я русский солдат. Я убил отца, да, но я уже убил много врагов. «Ха, ха! – хрипло шепчет мне на ухо ночь. – Какие же это враги? Это же люди! Люди! И они бьются за счастье своей земли! Они хотят очистить ее от тебя! От тебя!» Да, от меня, именно от меня. А может, я сам мир от себя очищу? Я заталкивал в рот край спальника, чтобы не закричать. Вцеплялся зубами в толстую теплую ткань. Мысль о самоубийстве казалась мне пошлятиной. Убивали себя только маменькины сынки – от школьной обиды, от несчастной любви. Мужчины жили, жили любой жизнью, без выбора. Я с трудом, поздно, но пытался стать мужчиной. Вот если мне это не удастся – да, пожалуйста: река, крыша, колеса, петля.
Мне было дозволено теперь все, после того, как я убил отца, и мне ничего не было дозволено. Я ждал команды. Я все равно был скот, и на меня был надет хомут. Ночь вырезала новую звезду, теперь на моей груди. Я выпрастывался из спальника, задирал свитер – давай, тьма, режь. Рисуй все что хочешь. Я сам, ногтями, под которые недавно загоняли обойные гвозди, выцарапывал на собственной коже не звезду, а крест. И старый шрам, память о том, как я косил от армии, омывался новой кровью: у меня ногти отросли длинные и острые, как у зверя. И я подумывал, не отгрызть ли мне их. Ножниц в отряде, кажется, не было, мы тут были ни разу не портные.
Неотвратимо все. Неотвратим приказ, неотвратима атака. Командир сказал нам: «Второй отряд на на подмогу. Гарнизон укрылся за обломками, в той стороне терминала». Мы запаслись гранатами. Саперы пробили дырки в полах – туда можно было бросать гранаты. Груды камней и мусора и помогали, и мешали нам продвигаться. Мы двигались, как во сне, мы стреляли и падали на бетон, мы продвигались быстро и жестко, а нам казалось – стояли на месте. Мы сами превращались в дыры: тело переставало быть плотным, сквозь него можно было глядеть, в него, как в теплую, полную крови линзу можно было рассмотреть медленно ползущего червя времени. Шел бой, перед нами вставали баррикады, сделанные чужими солдатами; мы лезли на эти баррикады, забрасывали их гранатами, бросались на пол и обхватывали головы руками. Мы продвигались по коридорам, и коридоры превращались в бетонное тесто. Руки рваного железа били нас по щекам. Мы пробрались уже на верхний этаж. Гарнизон врага был под нами. Заяц подмигивал мне ярким бешеным глазом, торчащим из сгустка сажи. «Прорвемся, Фимка!» Мы поливали из автоматов, и мы с ними срослись, я даже думал, что вот бой окончится, а меня от автомата будет не оторвать, я к нему уже приварен намертво. Мышиные норы, крысиные ходы, а их сделали в железе и камне всего лишь люди. Это мы, люди, шли в атаку, а отстреливались киборги. Да, так, киборги – так называли тех, кто защищал аэропорт. Они искренне думали, что они, герои, защищают свою Украину. Той зимой Донецкий аэропорт и правда стал, весь размолотый в осколки, в каменные клочки, морозной, в крови, ненькой Украиной. Что она, измазанная полосами белого мороза и сизого инея, черная, губастая моя земля, думала о нас?
Огонь работал за нас. Мы только исправно посылали его. Огонь гнал солдат гарнизона в западню. Они понимали это. И мы понимали. Мы знали, что – вот, все закончится скоро. Я уже не слышал, как рвутся снаряды и как свистят пули. У меня опять пропал слух. В полнейшей тишине я двигался, поднимал автомат и посылал вперед огонь, а потом менял расстрелянный рожок. Мне везло. Я все еще двигался и все еще стрелял. Тишина вокруг меня была такая благостная, что на миг я подумал – уж не убит ли я, и не воюет ли это моя полоумная душа, а сам я валяюсь под бетонным козырьком, лежу себе, в кровище, неподвижный. И тут я обернул голову и увидел, как медленно падает, валится в крошево бетона Шило. Он палил из автомата рядом со мной. Когда он упал, вокруг меня разом, страшно, взорвались все звуки. Я сам едва не упал от дикого грохота. Я не выпустил из рук автомат и продолжал стрелять. Все равно Шило лежал мертвый, я видел это: ему разнесло череп вдребезги.
Командир побежал по разбитой лестнице. Я испугался, его сейчас проткнет штырь арматуры. Он показался между завалов с желто-синим знаменем в руках. Из проема один за другим выходили защитники гарнизона. Они выходили с поднятыми руками. На лицах у них была написана ненависть, и больше ничего. Взорванные нашими гранатометами и расстрелянные нашей артиллерией два бронированных тягача горели рядом с пассажирскими рукавами аэропорта. Я смотрел на эти железные факелы. Не сводил автоматного ствола с выходящих из укрытия людей. Люди? Враги! А я кто такой?
«Дайте хоть раненых спасти!» – крикнул солдат с бритой, как у нашего Кувалды, башкой; он поднимал над головой только одну руку, вторая висела вдоль тела плетью. Командир махнул рукой: «Выносите раненых! Оставляйте здесь, только не на открытом месте! Огонь еще не прекращен!» И правда, наша артиллерия еще лупила, был слышен дальний гром. От земли поднимался туман. Все вышли, больше из крысиной норы не выходил никто. «Всех выкурили?! – крикнул командир. – Или проверим?!» – «Проверяй!» – зло крикнул солдат с повисшей рукой. Видно, руку перебило осколком в локте. «Да мы сейчас все ваше гнездо взорвем к божьей матери! – выкрикнул командир. – Уже саперы работают, ну!» – «Подрывай, – сказал солдат, он так и стоял перед нашим командиром с поднятой рукой, будто салютовал. – Никого там нет».
Они все, сдающиеся в плен, выстроились в шеренгу – и я смотрел на их лица, на простые лица обычных людей, и все думал: мы их убивали, они нас, и к чему убивали, и зачем? Страшные мысли, потому что простые. Все простое страшно. Потому что из простого выхода нет, нет выбора. Выход есть только из сложного лабиринта. А когда все лежит на ладони, когда в твоей руке граната, и ты должен сорвать чеку – ну, это проще пареной репы, как говорил мой убитый отец. И это чертовски страшно. Не каждый сможет это сделать без того, чтобы не сойти с ума.
Командир обвел пленных запавшими глубоко под череп глазами. Утер рукой щетину вокруг рта. «Так что? Киборги, да? Сдаетесь? Выкурили мы вас? – Сам себе ответил. – Выкурили!» Он стал считать людей по головам. Я молча считал вместе с ним. Выходило двадцать. «У нас в отряде было пятьдесят», – прохрипел солдат с повисшей рукой. «Пятьдесят? Ничего себе! Тридцатник что, все двухсотые? Или разбежались, как тараканы?» – «Не обижай мертвецов, начальник, – по-лагерному выхрипнул солдат с повисшей рукой. – Мертвецы недостойны такого презрения. Презирай, но не так, – он дернулся и опустил руку, – подло». Они все стояли перед нами, и я ощутил, как плохо быть пленным; но я хорошо знал, знал это не знанием, а просто верным собачьим чутьем, что мы пленных не будем пытать. Не будем вырезать им на спине ножом красную звезду. Мы не фашисты, хотя вот мы, наша партия, все время только и делали, что орали и малевали на стенах домов: «Мы русские наци! Россия для русских!» И нас, да, нас фашистами очень часто называли, и в газетах, и в интернете, и в трамваях-автобусах, и везде, я однажды в электричке с Сортировки ехал, так ко мне старуха подошла, ткнула в меня сухим пальцем и проскрипела: «Фашист ты, бритый фашист! Сыночков наших здесь, в вагонах, режешь!» Я бабке тогда ничего не ответил. Повернулся и пошел по вагону. Берцами стучал. И себе под нос беззвучно, зло повторял: да, я фашист. Да, я фашист! А теперь стоял с автоматом наперевес и повторял, балда, совсем другое: нет, мы не фашисты. Да, мы не фашисты!
Командир заставил нас всех, шеренгу пленных и нас, ополченцев, оставшихся в живых, отойти подальше от терминала и лечь на землю. Саперы подорвали третий этаж. Я сперва услышал крики, это были команды, мои контуженные уши не разобрали, какие; потом раздался грохот, он все приближался, как атомный взрыв, и я опять оглох. Слабые у меня, видать, оказались барабанные перепонки. Пленный боец, из той шеренги, внезапно подогнул колени, сел на корточки, снял каску, крепко, яростно вытирал кулаком лицо и ревел. Он ревел как бык, и даже подвывал. Солдат с повисшей рукой дал ему подзатыльник. Парень все сидел на корточках и по-цыгански тряс плечами. Он плакал и не мог остановиться. Он был очень молоденький, я не знаю, сколько там ему было лет, наверное, лет восемнадцать, вчера в коротких штанишках под стол ходил.
Мы их сторожили, пленных, пока не пришел автобус и не увез их всех в Донецк. Командир привел меня в гостиную, я глядел на серое небо у нас над головами, и на угрюмые тучи, и на дырявые диваны. Из-за дивана командир вытянул мой рюкзак. Я его узнал и тихо охнул. Командир вытащил из рюкзака грязный нетбук и протянул мне. «Пиши», – тихо сказал он. «Про что?» – спросил я и чуть сам над собой не расхохотался. Это ж надо такое сморозить, «про что». «Все про то! – повысил голос командир. – Про АТО! Про нас про всех!» Замолчал. А мне-то что было писать? Слова кончились. Я видел перед собой лежащего Шило с расквашенными мозгами. И у меня свербило внутри только одно: Шило надо похоронить, похоронить его надо. Иначе его птицы расклюют, или собаки сгрызут.
Я сказал командиру: «Шило убили». – «Вот об этом напиши», – опять очень тихо, исчезающим голосом, сказал он.
В очередной раз пришел автобус. Он забрал нас всех и повез в Донецк. По дороге мы узнали, что тяжело ранен Дмитрий Ярош, один из лидеров правых на Украине. Я ехал и думал: мы правые, они правые, так что бы нам не подружиться, а мы друг друга бьем? И будем бить. Заяц говорил со вздохом: «Аэропорт этот гадский, да он же весь смертью набит, там куча растяжек и мин осталась, их же там под завязку, туда нужно срочно отправить целую роту саперов, чтобы все это дерьмо расчистить!» Командир покачал головой: мол, без тебя знаем, что делать. Я оглянулся туда, сюда и вдруг понял: Фрося-то не с нами, Фроси нет. Мать моя земля! Где же ты, ненько? Мои зубы сами проскрипели, с болью, едва не раскрошил их, тихую песню. Моя земля осталась там! Да, там. И я ее больше не увижу. К ней больше не вернусь. Ах ты, вышибет сейчас слезу, сопливая ты тоска, да уже дальняя, отсюда не видно.
Я трясся на сиденье, оно, как и наши диваны в гостиной, было тоже дырявое, тоже погрызенное пулями и осколками, и думал: вот Фросю убьют, на черта она там застряла, ведь то, что укропы сдались в плен, ничего не значит, там еще стреляют и будут стрелять. И, может, долго. Когда стреляют, главное – не ошибиться. Правильно отпрянуть, вовремя броситься в укрытие. Хорошо тощим и гибким. Они наклоняются быстро, пригибаются низко. А моя большая, огромная земля, куда ты от меня покатилась? Подожгут тебя, пробьют насквозь. Мне было стыдно рыдать, я не хотел, я ненавидел это все, весь этот детский сад со слюнявчиками, когда плачут, но меня прошибло. Я был совсем один. И толку, что вокруг меня гомонили люди. Вы понимаете, о чем я. Я хотел ее шлепнуть, мою землю, а она меня спасла от гибели, выходила и снова грубо втолкнула в жизнь: живи!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: