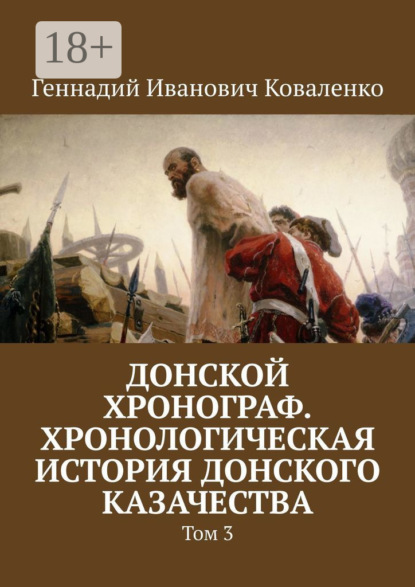
Полная версия:
Донской хронограф. Хронологическая история донского казачества. Том 3
Это событие отражено в статейном списке русских посланников в Крыму Якушкина и подьячего Михайлова: «… Декабря в 18 день того ж (1663) года ходил в Бакчисарай молодой подьячий Макар Дьяков для хлебные покупки, и пришед на стан, посланникам сказал: сказывал ему, Макару, в Бакчисараях полоняник касимовской татарин Ишелей, приехали в Бакчисарай из Перекопи от Карам-бея с вестью татаровя, приходили к Перекопи калмыки с донскими казаками, конные и животные стада отогнали, а перекопский бей Карам ходил за теми калмыки и за донскими казаки с ратными людьми, а ратных людей было с ними с 500 человек, и у Карама с калмыки и с казаки бой был, и с того бою Карам прибежал в Перекоп не с большими людьми, и ратных людей на том бою пропало с 400 человек».
1664 год
В 1664 году, в связи с активизацией боевых действий на Украине, Алексей Михайлович отправляет на Дон грамоту, в которой настоятельно предлагал донцам идти на помощь запорожским черкасам, оставляя у Главного войска воеводу Хвостова с московскими ратными людьми. Казаки, сойдясь в Круг, откликнулись на призыв царя и отправили большой отряд конных бойцов. Донские казаки особо отличились в Пироговской битве на Десне. Они неоднократно атаковали крымских татар и в конце концов заставили их покинуть польского короля Яна Казимира. Разбитые поляки начали спешное отступление в земли Белой Руси. Но у Мглина поляков настиг русский воевода Яков Черкасский, русскими полками и донскими казаками. Здесь поляки были снова разбиты
Разгромив татар, стольник Косогов и донские казаки двинулись на соединение с русскими войсками на Украину. Где события для поляков и союзных им татар развивались неблагоприятно. После неудачной осады Глухова польская армия, в которой было много западноевропейских наёмников, направилась в сторону Новгорода-Северского. Крымские татары из-за нападений на их владения царских войск и донских казаков под предводительством Григория Косогова, а также запорожских казаков кошевого атамана Иван Серко, спешно покинуть короля. 10 февраля 1664 года польская армия начала переправу по тонкому льду на правый берег Десны. На следующий день, когда половина подразделений находилась ещё на левом берегу, по ним неожиданно ударило русское войско князя Григория Ромодановского и 4 казачьих полка левобережного гетмана Ивана Брюховецкого. В открытом сражении погибло больше 1000 поляков, русские и казаки захватили обоз и артиллерию.
Стольник Косогов в своей отписке Алексею Михайловичу доносил: «… В нынешнем, государь, в 1664 году, февраля 3 день, кошевой Иван Серко с запорожскими казаками пошёл к Днестру для добывания языков, а я, холоп твой, послал с ним рейтар и донских казаков 30 человек. И марта, государь, 22 день кошевой Иван Серко писал к наказному кошевому Пилипчате и по своему Запорожскому войску, и ко мне, холопу твоему: его-де Ивановой верною службою, заднепровские города поддались под твою Великого государя руку, только де один город Чигирин, тебе Великому государю не поддался».
По словам казачьей летописи Самовидца а также летописца Григория Грабянки, если бы к битве подоспели другие русские соединения (к примеру, войско князя Якова Черкасского из Брянска или князя Григория Куракина из Путивля), то польская армия была бы разгромлена полностью и едва король смог бы спастись.
В апреле 1664 года запорожцы кошевого атамана Сирко, отряд стольника Косогова и донских казаков, (85 драгун, 120 солдат и 270 казаков), действует против поляков во главе со знаменитым полководцем Стефаном Чарнецким. 7 апреля у города Бужина 2000 поляков Чарнецкого атаковали русские войск и казаков, между ними произошел жестокий бой. Поляки были с уроном отбиты, но атаман Сирко вынужден был отойти в степь. Чарнецкий разграбил Бужин и Субботово – родовую усадьбу Богданa Хмельницкого. Кости великого Богдана и его сына Тимофея были выкопаны из могилы и сожжены. Вскоре полки атамана Сирко и стольника Косогов были осаждены войсками Чарнецкого и Тетери в городе Смеле, сумели нанести большой урон осаждавшим, но вынуждены были вернуться в Каменку.
В апрельской отписке в Москву, казаки, кроме всего прочего, жаловались Алексею Михайловичу на понесённые Войском Донским расходы по приёму и «прокормлению» на Дону русских послов и посланцев: «А приезжают к нам, холопям твоим, из Запорог, и из Калмык посланцы для твоих государевых дел и совету, и мы им честь всякую воздаём, и на дорогу запас им всякой даём же».
В этом году казаки, как и прежде с суши и моря воевали Крым и азовские предместья. Часть донских казаков ещё с прошлого года находилась в Запорожской Сечи, вместе с воеводой Косоговым, постоянно тревожа перекопских татар опустошительными набегами. Но между казаками, и царским воеводой начались размолвки и трения, грозящий перейти в открытый разрыв.
Тем временем война между Россией и Польшей становилась всё ожесточённей. По словам историка Ключевского, «Москва и Польша казалось, были готовы выпить друг у друга последние капли крови». Алексей Михайлович, испытывая острый недостаток в хорошо обученных и подготовленных войсках, в своей грамоте на Дон просил Войско Донское и атамана Яковлева, помочь ему в войне с поляками, казачьими полками. Круг, выслушав государеву грамоту, согласился отправить весной 1665 г. казаков на помощь царским воеводам.
С другой стороны, бояре, дворяне и дети боярские, требовали срочных мер по сыску и возврату беглых крестьян, а воеводы украинных городов, жаловались на массовое бегство на Дон служилых и посадских людей. В результате этого правительство оказалось в сложном положении. С одной стороны, правительству были нужны боеспособные казачьи полки, с другой стороны страдали интересы служилого дворянского сословия. В результате Алексей Михайлович, всё же решил усилить розыск и велел своим указом «имать» беглых из находящихся в России казачьих отрядов.
Так в мае 1664 г. в Москву прибыл казачий отряд атамана Кондрата Михайлова. Донцы подали челобитную в Разрядный приказ, для зачисления их на службу. В начале июня челобитная была удовлетворена, и их было велено отправить в полк воеводы И. А. Хованского. Казакам было выплачено жалованье «… против их братьи донских казаков»: атаману 10 руб., есаулу 9 руб., рядовому казаку по 8 руб. Но в день выдачи жалованья, 9 июня, группа дворян опознала среди казаков беглого человека: «… учеш у тех казаков иматца за беглого человека». Однако казаки отказались его выдать и набросились на дворян: «… бросясь на них многолюдством, учати их бить и беглого человека у них отымать». Но дворяне успели увести беглого в разрядную избу, где драка продолжилась. На шум прибежали караульные стрельцы «… изымав ис тех казаков человек с пятнадцать» и отвели их в Стрелецкий приказ. Действия казаков власти расценили как «воровство» и бунт.
В результате проведённого сыска, беглого холопа было велено вернуть хозяину. Главному возмутителю спокойствия, казаку Емельянову, велено «отсечь два перста» (пальца); «трёх человек пущих заводчиков», в присутствии других казаков, у Разряда «… бить кнутом на козле нещадно. После этой экзекуции, всех четверых сослать «на вечное житьё» в Сибирь. Остальных 14 казаков, было велено отдать атаману, а всех приставших по дороге в Москву к донцам беглых, выдать служилым людям. Таковых оказалось 10 человек из 100.
Этим беглым человеком оказался Василий Спиридонов, кабальный человек дворянина Льва Исакова. Согласно челобитной последнего, тот бежал от него два года назад, прихватив с собой, а лошадей и денег, ружья и платья и всякой служилой рухледи снёс на двести рублёв». В этом же, 1664 году, Спиридонов придя в дом дворянина, вновь обокрал его, обесчестил жену и подговаривал крестьян и дворовых людей уйти с ним.
8 июня Алексей Михайлович указал отправить всех казаков их на службу в полк князя Ивана Хованского, и пожаловать их деньгами. Однако, в связи с тем, что казаки попытались отбить в Приказе Василия Спиридонова, их жалованье было уменьшено. Атаману было указано выдать семь рублей, есаулу шесть рублей и казакам по 5 рублей.
В июне 1664 года, войско, по просьбе Алексея Михайловича отправило в Россию ещё один казачий отряд в 387 человек, вышедший в Тулу для участия в военных действиях против Речи Посполитой. Возглавлял его атаман Василий Ус, в будущем, один из сподвижников Степана Разина.
Известно ещё о двух донских казачьих атаманах: Василии Леонтьеве и Григории Петрове. Согласно столбцам Белгородского стола, отряд атамана Леонтьева находился «во псковском порубежном пригороде» Опочке в обстановке «безпрестанных» боев с «полскими и литовскими людми». Отряд атамана Петрова, согласно столбцам Новгородского стола, находившихся на государевой службе на Опочке «третей год».
12 октября 1664 года, Алексей Михайлович указал князю Борису Репнину отправить донских казаков, прибывших на государеву службу, в полк князя Ивана Хованского под Ржев, выдав им жалованье «… по прежнему нашему Великого Государя указу». Всего на службу было отправлено 197 казаков во главе с атаманом Иваном Болдырем. Однако часть казаков вернулась на Дон, часть отстала из-за болезни и умерло. Всего к Хованскому явилось 169 человек.
Тем временем, бывшие с прошлого года в полку князя Хованского, 150 донских казаков атамана Василия Леонтьева, жаловались царю на выплату им жалованья медными деньгами (по 50 рублей), которые через три дня после выдачи жалованья, были отменены царским указом. В результате чего «И ныне мы, холопи твои, стоим в порубежном городе, помираем голодною смертью, купить нечим и не у ково, все мужики обвоёваны и порублены. М морским козаком, дают твоё государево денежное жалованье и месячный хлеб, а только они служат другой год, а нам, холопем твоим, твоего государева денежного жалованья и хлеба не дают».
Ещё один отряд донских казаков атамана Макара Чекунова, осень 1664 г., атаман. Так же отправил царю челобитную, прося их отпустить на Дон. Так как после ряда ожесточённых боев, согласно челобитной станицы М. Чекунова, из отряда в 200 человек осталось лишь 25, остальных «побили и в полон поимали».
Между тем, в начале августа, произошёл окончательный разрыв между казаками и воеводой Косоговым. Не получив с Дона смены, они самовольно ушли в Главное войско. А воевода жаловался на них царю: «Иные рейтары, солдаты, казаки и черкасы перед походом, и из похода, не дождавшись боя, побежали домой».
Осенью 1664 года из Войска Донского с отрядом казаков в 150 человек, вышел атаман Кузьма Федоров (Курилин). Его отряд входил в более крупное формирование атамана В. Родионова. В этом же году отряды обоих атаманов, вышли на службу. Вскоре атаман К. Федоров просил воеводу князя П. А. Долгорукого отпустить его обратно на Дон, поскольку казаки понесли потери в ряде неудачных боев русских войск с поляками и были «разорены». Из отряда в 500 человек, как сказано в казачьей челобитной, осталось в живых 150 человек, остальные же были «волею Божию побиты». Впрочем, скорее всего, часть казаков самовольно ушла со службы, а отряд К. Фёдорова шел к Москве проселочными дорогами, чтобы его не задержали.
Осенью 1664 г. недавние союзники казаков, калмыки, вторглись в пределы Войска Донского. Большая калмыцкая орда устроила настоящий погром верховых казачьих городков. Так в своей отписке белгородскому воеводе Л. Кобякину, казаки писали, что в октябре «калмыцкие люди, многие казачьи верховые городки «… без остатку разорили и скот отогнали, и отоманов и казаков многих порубили и переранили и жон и детей их в полон поимали». Всего в плен попало несколько сот казаков, их жён и детей. Калмыцкий набег произошёл в то время, когда многие казаки находились в Главном Войске.
Осенью этого года Войско Донское отправило в Москву казачью станицу во главе с Корнилой Яковлевым. О чём писали казаки Алексею Михайловичу, установить не удалось.
17 ноября в Москву пришёл со службы в полку князя Петра Долгорукого, из-под Полоцка, 154 донских казака во главе с атаманом Кузьмой Курилиным (Фёдоровым). Казаки жаловались на то, что полку Долгорукова они жалованья не получали, а в Туле им было выдано всего по 2 рубля. Рассмотрев их челобитную, царь указал выдать им казны приказа Большого прихода по полтине жалованья. 27 ноября, Алексей Михайлович пересмотрел своё решение и указал выдать казакам из приказа Новые чети, ещё по 3 рубля жалованья.
3 декабря 1664 года донские казаки Кузьмы Фёдорова были отпущены на Дон. Царь указал воронежскому воеводе Якову Татищеву пресекать воровство казаков вовремя их пребывания в городе: «А покамест они, на Воронаже будут, и ты б того смотрели берёг накрепко, чтоб оне донские казаки, будучи на Воронеже, гороцким и жилецким и уездным людем никаких обид не делали, и не воровали, ни кого не били и не грабили, а которые учнут каким воровством воровать, и ты б за их воровство наказанье чинил». Особо запрещал царь отпускать с казаками беглых и служилых людей. Хлебного жалованья казакам было велено выдавать по полуосьмине на месяц. А как только Дон вскроется, отпустить их рекой на Дон.
В 1664 году стареющий, израненный Иван Сирко перебрался на Слободскую Украину, поселившись с женой и двумя дочерьми на Харьковщине, в слободке Артемовке, в двух верстах от Мерефы. Обзавёлся мельницей, пасекой… Но мирная жизнь продлилась недолго. В 1665 году Сирко был избран полковником Харьковского слободского казачьего полка, вместе с которым поддержал вспыхнувшее на Слобожанщине казацко-крестьянское восстание против произвола старшины и царских воевод. После подавления восстания он возвратился на Запорожье, где встретил радушный приём.
Казачьи гетманы Украины, то и дело заключали союзы, то с Россией, то с Польшей, то с Турцией и Крымом, чтобы вскоре им изменить. Такая политика превратила Правобережную Украину в опустошительную «руину», где свирепствовали турки, татары, польская шляхта и жолнеры. Положение на Левобережной Украине, защищаемой Россией, резко контрастировало с «руинами» правого берега. Простой народ, в большинстве своём желал русского подданства, гарантировавшего относительное спокойствие и благополучие. Это признавал даже антирусски настроенный гетман Правобережной Украины Павел Тетеря. В своей грамоте польскому королю за 1664 г., он писал, что «… вся Украина решила умереть за имя царя московского». Кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Сирко, в свою очередь уверял Алексея Михайловича, что все города, от Днепра до Днестра, хотят «… держатися под крепкой рукой Вашего Царского величества, доколе души в их телесах будут».
1665 год
В конце 1664, начале 1665 года, Войско Донское отправило в Москву с вестями легковую станицу атамана Позднея Степанова. Однако больше ни какой другой информации об этой станице не найдено.
1665 г. В этом году государево жалованье сопровождал посол в Турцию дворянин Василий Тяпкин. Он должен был восстановить дипломатические отношения со Стамбулом, прерванные из-за войны на Украине. Прибыв в апреле, в верховой Пятиизбянский городок, он велел казакам принять государево жалованье и требовал себе охрану и проводников, для охраны и сопровождения посольства и его имущества. Но это было нарушением войскового обычая: жалованье всегда передавалось Войску Донскому в Главном Войске – в Черкасске. Пятиизбянские казаки, сойдясь в Круг, и выслушав посла Тяпкина, заявили, что «… великого государя казны… принять не смеем». Казаки ссылались на своё малолюдство и выделить требуемое количество казаков для охраны и сопровождения не могли. Посол стал негодовать и настаивать, но казаки в своём решении были непреклонны. Тогда Тяпкин отправил в Москву отписку с жалобой на донцов, где писал, что казаки Пяти Изб Яков Андреев с «товарыщи» государеву указу «учинились непослушны» и «… говорили де невежливые слова изменничьи».
Из Москвы, в Войско Донское была отправлена грамота с требованием разобраться с казаками городка Пять Изб. По прибытию этой грамоты в Черкасск, Я. Андреев «товарищи» были «взяты в Войско». На войсковом Кругу их стали расспрашивать «… по токое… неистовства сыскивали накрепко», в присутствии свидетелей – бывших в то время в Войске царицынских стрельцов Д. Уфимцева «с товарищи». В результате сыска, обвинения посла не подтвердились. Яков Андреев и другие казаки «… посланнику невежливых слов не говаривали». Далее в войсковой отписке государю, следовала приписка, что сам Василий Тяпкин на Круге подтвердил, что он « … писал с сердцем, не осмотрясь». На этом конфликт был исчерпан. Войско Донское заключило с азовскими турками мир и передало им русского посла.
Прибывший в Азов стряпчий Тяпкин, был встречен упрёками и выговорами, ему говорили: «Если бы Российский государь желал находиться с турецким султаном в искренней дружбе, то не приказывал бы донским казакам производить набеги на пограничные приморские города, его государства». Посол же, памятуя наставление государя: не обострять отношений с турками, отвечал азовскому паше: «… великому государю нашему, его царскому величеству про то неведомо, что донские казаки пошли, и указу его царского величества ныне на Дон к казакам не бывало, чтобы им Магмет султанова величества украины не воевать и на украины не ходить». «А если Магмет султаново величество – говорил далее посол – изволит вместе с ним послать к государю посланника или гонца и отпишет в грамоте о казачьих неправдах, то государь велит им не ходить в турецкие украинные города, совершать морские походы и чинить туркам задоров и зацепок, и велит от всякого дурна унять».
Но азовский паша не верил русскому послу, говоря, что «… прежние де царского величества послы и посланники говорили так же, что он Василий, говорил, будто его царское величество о казацких неправдах не знает, и указу его царского величества о том им не бывало. А для чего де его царское величество, присылает к ним, казакам, своё государево денежное и хлебное жалованье и сукна погодно; и то де знать, что казаки всякие им обиды чинят и войну вчинают по указу его царского величества, а не своим изволением. Да к ним же де его царское величество присылает в помощь своих государевых ратных людей, стрельцов и солдатов».
На эти обвинения Василий Тяпкин отвечал, что жалованье царь присылает на Дон за казачьи службы в дальних украинных городах, и за военную службу, не по государеву указку, а по своей охоте. А солдат и стрельцов государь посылает на Дон для защиты своих государевых украинных городов от крымских и нагайских татар. Кроме этого Тяпкин заявил Магмет паше, что он зря жалуется ему на казаков, так как он послан царём к султану для решения общих великих дел, а о казаках и прочих делах, ему говорить не приказано. На этом переговоры с пашой закончились, и посол через Крым был отправлен в Стамбул. В турецкой столице его продолжали терзать вопросами о казачьем воровстве и разбоях, и требовать их прекратить. Под давлением султана и великого визиря, Тяпкин отправил от себя грамоту донским казакам, где просил их прекратить на крымские улусы и Азов. Но Войско Донское ответило на него отказом, передав азовскому паше, что «Василья Тяпкина мы не слушаем, а слушаем указ великого государя, прислана от великого государя на Дон грамота, чтоб нам послать под Крым для языков, и про Василья Тяпкина проведать, и мы для языков под Крым послали».
Как мы видим, строительство турками в донском гирле своих крепостей, лишь затруднило выход казакам в море, но отнюдь не прекратило их морские походы. Казаки ежегодно, когда с боем, когда хитростью, прорывались в Азовское и Чёрное моря, и продолжали разорение побережий.
Весной, вместе с получением государева жалованья, Войску Донскому была прислана царская грамота, где среди прочего, Алексей Михайлович обращался к Войску с призывом прислать на войну с Польшей несколько тысяч казаков. Донцы, сойдясь в Круг, решили по общему согласию, отправить в помощь русским войскам 2000 конных казаков, под началом походного атамана Ивана Разина, старшего брата Степана Разина. В России казаки попали под командование князя Долгорукого, человека жёсткого и решительного. Донские казаки успешно сражались с поляками до осени. С наступлением же холодов и осенней распутицы, они стали помышлять о возвращении на Дон, считая службу свою, как и в добрые старые времена, добровольной. Но так не считал князь Долгорукий, отказавшийся отпустить казаков на Дон, грозя им расправой. Между князем и Иваном Разиным произошла крупная ссора. Казаки недовольно взроптали, ведь им на смену должны были прийти другие полки с Дона. И Иван Разин, призрев приказ Долгорукого, повёл своих казаков домой.
Князь, узнав об этом, отправил за ними погоню, с приказом вернуть донцов. Царские войска под угрозой смерти сумели задержать часть казаков и возвратили их. На глазах всех казаков и его младших братьев, Иван Разин был повешен, за неисполнение приказа. Казаки, пролившие немало крови защищая Московское Царство, от экспансии Польши и мусульманского мира, были потрясены этой казнью, и многие из них затаили злобу против Москвы и русского боярства. Как впоследствии стало ясно, поступок Долгорукого был недальновидным и вылившимся в восстание под предводительством Степана Разина, принёсшего немало бед как Войску Донскому, так и России.
В конце ноября, в начале декабря Войско отправило в Москву зимовую станицу во главе с атаманом Корнилой Яковлевым и есаулом Карпом Федосеевым и 28 казаками. Казаки привезли с собой войсковую отписку и били челом о пожаловании государева им жалованья. В Москву донцы прибыли 18 декабря.
Исполняя волю государя, казаки и калмыки беспрерывными набегами под Азов и Перекоп не давали покою врагам своим. В ноябре 1665 г., всё Войско Донское, соединившись с полками русских ратных людей, в очередной раз приступало к Азову. Казаки и россияне с боем взяли предместье и предместные укрепления. Все попытки азовского гарнизона отразить неприятелей не увенчались успехом. Множество турок было истреблено, в их числе пал и сам азовский паша Мустафа, зять турецкого султана. Узнав об этом, султан велел обнести предместья каменной стеной, чтобы хоть как-то защитить его от практически ежегодных разорений и грабежа донскими казаками. Известие об этом предприятии и прочих донских делах, было отправлено в Москву в декабре 1665 г. со станицей Родиона Осипова.
В этом 1665 году, лучилось знаковое событие, повлиявшее на ход как Донской истории, так и всей России. Одним из казачьих отрядов пришедших по призыву царя для участия в войне с поляками, командовал атаман Иван Разин. До недавнего времени существовал негласный обычай, согласно которому, казаки, по истечении определённого времени, могли покинуть русскую армию и уйти на Дон. Что и попытался сделать со своими казаками атаман Иван Разин. Однако воевода князь Юрий Долгорукий воспротивился этому. Атаман, считая, что казаки служат русскому царю по своему желанию, а не по долгу, самовольно покинул стан Долгорукого. Узнав об этом, князь приказал русским войскам перехватить самовольщиков. И когда это было сделано, приказал повесить атамана Разина. Смерть брата, произвела на Степана Разина неизгладимое впечатление, и он затаил в душе жестокую обиду.
Был ли кто виноват в подобном исходе? В основе всех этих событий лежит, принципиально разное понимание воинского долга. Иван Разин, как и многие его предшественники, полагал, что служит, когда хочет. А не хочет – не служит. Князь Долгорукий воевал согласно воинского долга и крёстного целования русским царям. И здесь никто не виноват. Долгорукий служил России и её самодержцу. Атаман Разин – себе.
В ноябре или декабре 1665 года отряд донских казаков атамана Иван Карпова ушёл со службы из г. Борисоглебова (русское название захваченной шведской крепости Динабург на реке Западная Двине) в Псков. По грамоте из Разряда, полученной князем И. Хованским в Пскове 24 декабря, ему было указано про казаков «роспросить и розыскать подлинно», как они ушли из Борисоглебова, а «вешать… и кнутом бить» до государева указа их запрещалось. Сами казаки, впоследствии утверждали, что пришли из Борисоглебова в Псков по «отпуску» тамошнего начальства, поскольку там было «запасами скудно». Чем закончилась эта история не ясно.
В декабре 1665 года Войско Донское отправила в Москву с вестями станицу во главе с атаманом Родионом Осиповым (Калужениным), сыном героя Азовского сидения, войскового атамана Осипа Петрова (Калуженина).
В этом же году, Войско Донское отправило в Москву легковую станицу атамана Позднея Степанова. В Преображенском Усть-Медведицком монастыре, где вначале была лишь построена часовня, казаки по благословлению святейшего патриарха Никона, в 1665 г. построили деревянную церковь по имя Преображения Спаса. Освятили ее в 1670 г.
1666 год
1666 г. Алексей Михайлович, рассмотрев войсковую отписку и челобитную, доставленную станицей Корнилой Яковлевым и Родионом Осиповым, указал отправить на Дон своё жалованье паче прежнего 2250 рублей, 200 половинок гамбургских сукон, 3000 четвертей хлебных запасов, 50 пуд зелья ручного, 50 пуд зелья пушечного, 50 пуд свинца и 50 вёдер вина. С жалованьем было велено отправить дворянина Клементия Синицына.



