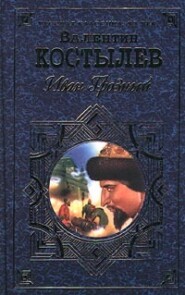 Полная версия
Полная версияИван Грозный. Книга 2. Море
После бури, когда все обитатели корабля «Иван Воин» собрались на палубе, Керстен Роде через переводчика рассказал московским людям о разрушительной силе морской волны. Рассказывал он об этом с каким-то особым восхищением, то и дело торжественным, величественным жестом указывая в сторону моря. Оно еще продолжало гудеть, в сильном волнении покачивая корабль. Керстен Роде торжественным, полным благоговения голосом говорил:
– Волна – великая сила! Смотрите, как разбиваются о камень утесов буйные гребни волн… Вы видите пену, вы чувствуете злость, с которой море набрасывается на свои каменные оковы.. Его ничто не может остановить, сам творец мира не может помешать его разрушительной мощи… Глядите, волны бегут к берегам, перескакивают через подводные камни. От их ударов дрожат исполинские каменные стены… Снизу доверху они дрожат, и шум волн перекатывается, словно гром, во всех извилинах и ущельях прибрежных утесов… Вода врывается в щели и трещины каменных берегов, подтачивает, разбивает их в мелкий песок. И часто я не узнаю недавно только виденных берегов. Море сбросило в воду то, чем я часто любовался. Там, где был утес, я зачастую вижу теперь ровное место, залитое водой. Море обладает силою, которая губит то, что создал сам Бог.
Керстен прошептал про себя молитву. А затем, обратившись сияющим лицом к своим слушателям, сказал с гордостью и самодовольством:
– И вот мы, моряки, хотим побеждать даже эту дьявольскую силу волн. Ваш царь приказал мне вести корабли в западные страны, я должен быть победителем морей и океанов, мы должны поспорить с водяным демоном. Морскому царю не помогут никакие пираты… Керстен Роде клянется вам, мои московские друзья, в этом!..
Андрей Чохов с уважением и любопытством слушал слова Керстена Роде.
Один из холмогорских матросов толкнул Андрея Чохова в бок, прошептав:
– Эк он хвалится! Наши поморцы Ледовитое море послушным сделали. Плавают, будто лебеди! А уж то-то море побойчее этого. Где уж тут! Пожалуй, там все эти дацкие люди петухами бы запели. Беломорский морячок так понимает: вынесет – наш, не вынесет – Божий! Аминь! Што уж тут говорить – все время воюем со смертью!
Андрей после этого стал внимательно приглядываться к берегам, где представлялась возможность их видеть.
Наслушавшись рассказов своих и чужих матросов, он теперь уже многое начал понимать из того, что раньше его ставило в тупик; жизнь моря становилась ему интересной, близкой.
Вот, например, невдалеке виднеются одинокие, торчащие из воды острые скалы; окруженные бушующим морем, они возвышаются, опираясь на основание из подводных камней в виде башен или разрушенных мостов. Андрею понятно теперь, что действием воды здесь была разрушена большая скала, разделена водою на отдельные каменные глыбы… Но морские волны на этом не успокоились. Они продолжают с яростью, настойчиво нападать на эти обломки былого берега, стремятся добить их окончательно.
Солнце, жгучее, ослепительное, вырвалось из-за обрывков туч, осветив серое, пенящееся море и видневшийся вдали берег.
Керстен Роде приказал снова поставить фок, грот и брамсели.
Датчанин, штурман «Иван Воина», радостно перекликался с Керстеном Роде, указывая рукою на солнце.
Андрей Чохов вместе со своими пушкарями заботливо обтирал тряпками и куделью пушки. Снова были открыты наглухо запертые люки, и снопы свежего воздуха и света ворвались в душный кубрик. Купцы вылезли на палубу, усердно крестясь на все стороны. Теперь они уже не те, что были, когда отправлялись из Нарвы в плавание. Среди них даже в самый разгар бури уже не было паники, они с упорным терпением, молчаливо дожидались в своей каюте конца шторма.
Моряки распознали в полосе земли берега чудесного залива Зюдерзее.
Когда-то, в эпоху древних римлян, когда они проникли сюда, вся эта местность, окружавшая залив, была покрыта густым лесом, но все это со временем было смыто Северным морем, и вместо лесов и холмов на большом пространстве образовалась ровная поверхность из мелей и подводных кос. Гладкие, вечно зеленеющие берега радовали глаз, манили на отдых.
Московские путешественники сразу почувствовали, как успокоительно, целебно действует на душу эта зеленеющая, озаренная солнцем ровная полоса земли. Клонило в дремоту, в розовый полусон, сквозь который светлым, золотистым призраком проступала опять она… Москва!
Бросили якоря в полуверсте от острова Маркен, у громадной косы земли.
Голландские поселяне, жившие на острове, встретили московских людей радушно, гостеприимно.
После передышки корабли поплыли дальше.
Впереди еще много всего придется пережить. Об этом и сказал Керстен Роде своей команде на палубе. Один Бог знает, удастся ли благополучно проплыть мимо Дании, воюющей со Швецией, мимо берегов немецких земель, мимо Данцига, где кишат польские пираты… мимо Ревеля и ливонских портов. Везде московский флот подстерегают опасности, и надо быть готовым к боям и смерти… Это сознавал каждый человек на московских кораблях, ибо теперь-то, после того что русские слышали о Москве в иных странах, им стало ясно, что немало имеется в Европе людей, которые боятся Москвы, не желают иметь с ней дела. Они не хотят, чтобы московские люди плавали по западным морям. Везде приходилось слышать фантастические рассказы о хитрости русского царя, об его лютости, бесчеловечности, жадности… Приезжие из Польши и Германии в Англию купцы и воинские люди болтали невесть что. У русских, гостивших в Англии, волосы поднимались дыбом, хотя они и не верили болтовне польских и немецких проходимцев. Одно было ясно – Европу нарочно пугают царем.
Когда обо всем этом задумывались русские, сидевшие на кораблях, еще любимее, еще дороже становилась для них родина. Вдали от родины лучше всего познается величавая простота, стыдливая и некичливая силушка матушки-Руси! И чем больше слышишь судов и пересудов о родной земле, чем больше видишь враждебности к ней в иных странах, тем правдивее, чище и добрее представляется она закинутому на чужбину русскому человеку.
Раздумывая об этом, Андрей прижался к своей любимой пушке, которую сам он и отливал впервые из меди; тихо, про себя, запел протяжную старинную русскую песню о Волге.
Андрей многого не понимал из того, что творилось в иных государствах; неведомо ему было и то, зачем все короли восстают один против другого. Андрей знал хорошо только одно дело – пушкарское. Как бы он ни был неучен, в одно он твердо верил, что Бог создал моря и суши для всех государств, для всех людей… Чего ради моряки иных стран в иноземных гаванях смотрят недружелюбно на московский караван судов? Особенно испанские, шведские и Сигизмундовы мореходы!
К Андрею подошел Алехин:
– Ну, брат, раньше весны не прибыть нам в Нарву. Придется постоять в датских водах… Сейчас Керстен Роде об этом говорил… Опасается он стоянок в датских гаванях… Короля своего боится… Ему хорониться там придется. Немцы требуют, чтобы король захватил его, Керстена Роде, и казнил.
Андрей сказал серьезно:
– Наш ноне он человек… Никому его не отдадим. Кирилка Беспрозванный и Ерофейка Окунь – понимающие люди… Сами заядлые мореходы, однако хвалят Керстена… И разбойничьи хитрости знает…
VIВ Большой палате Кремлевского дворца происходил отбор людей в особую дружину. Царь решил набрать ее для личной своей безопасности.
Отбор воинов совершался в торжественной обстановке. Государь на троне, в золотых одеждах, окруженный новыми советниками, опрашивал тех, кто был допущен к смотру. А всего приказано было пройти через палату шести тысячам человек.
Утомленное, исхудалое лицо царя привлекало внимание тех, кто его близко знал. У некоторых воинов выступали слезы на глазах, особенно у побывавших вместе с государем в походах. Кипела злоба к недругам государя, к тем, на кого он гневался, кого держал в опале. Измена Курбского и дьяков, убежавших с ним в Сигизмундов стан, открыла людям глаза на непостоянство боярской знати в службе государю. Невольно возникало желание у малых людей помочь царю, быть верными его слугами. Тяжело Иван Васильевич перенес известие об измене Курбского; с тех пор поднялась буря в его душе, с тех пор царь стал неузнаваем.
Теперь он обращается к помощи незнатных слуг и воинов, и всяк из них готов ему служить, не щадя своей жизни.
Бояре втихомолку подсмеивались над новой затеей царя.
Генрих Штаден в кругу своих друзей-немцев с язвительной улыбкой говорил: «Окружили великого князя новодельные господа, которые должны были бы быть холопами прежних».
Но посадский, простой люд был на стороне царя. К слуху о наборе царем особого полка верных людей низкого звания на посаде отнеслись сочувственно.
Алексей Басманов и Афанасий Вяземский, стоявшие около трона, опрашивали каждого: какого он рода-племени, из каких его жена, а ежели в походах участвовал, то под рукою какого воеводы, с какими князьями или боярами дружбу вел?
Когда была отобрана тысяча воинов, князь Вяземский велел им в присутствии митрополита, всего кремлевского духовенства и бояр дать клятву царю в верности, которая гласила:
«Я клянусь быть верным государю и великому князю и его государству, молодым князьям и великой княгине и не молчать обо всем дурном, что я знаю, слыхал или услышу, что замышляется тем или другим против царя или великого князя, его государства, молодых князей и царицы. Я клянусь также не есть и не пить вместе с земщиной и не иметь с ними ничего общего. На этом целую я крест!»
Клятва была произнесена.
Молодым воинам, набранным царем в телохранители, не показалось ничего нового во всем этом. Они всегда служили верою и правдою государю, всегда дорожили славою царства, и коли услыхали бы они или узнали бы о чем-либо недобром, о каком-либо злоумышлении против царя, они тогда же пошли бы и доложили о том Малюте либо своею рукою порешили бы изменника. И за князей молодых и за царицу они всегда готовы в огонь и воду.
После принесения клятвы Алексей Басманов объявил отобранным воинам, что государь по великой своей царской милости жалует их имением во сто гаков[38] земли, и чтобы они принуждали мужиков ту землю обрабатывать, чтоб больше хлеба и иных злаков ко благу его и государя она производила и чтобы в Москву малая толика на торг привозилась. Тут же, объявив всем тысячникам о награждении их земельными участками, Алексей Басманов сказал:
– Блюсти землю вы должны безубыточно, доброхотно, а не как некие ленивые богатины, коим было бы токмо себе, а што царю и Богу и всему народу, в том и заботы не имут… И службу государю тож справлять должны рачительно, чтоб служба из земли не выходила, што положено по достатку, то и должно быть для войны посажено на коня. Не грешно ли, когда из двухсот семидесяти двух вотчин в Тверской области старым обычаем пятьдесят три помещика никакой службы не служили государю? Одни служили князю Владимиру Андреевичу, иные князьям Оболенским, Микулинским, Мстиславским, Голицыным, Курлятевым и даже просто боярам. Не оскудеет ли житница царства от того порядка?
Во время речи Басманова Иван Васильевич внимательно вглядывался в лица своих новых слуг.
Далее держал речь князь Вяземский.
Он прочитал грамоту о разделении Русской земли на «земщину» и отделенную от нее часть, которую царь назвал «опричниной». В той части государства, которая отходила к земщине, должен был сохраниться прежний строй и старое управление. Там по-прежнему оставались воеводы, наместники, старосты и судьи, вместе с вотчинниками и помещиками. Во главе земщины государь поставил бояр Ивана Дмитриевича Бельского и Ивана Федоровича Мстиславского.
Когда дьяки выкликнули имена этих бояр, оба они, спокойные, важные, подошли к трону и низко поклонились царю: затем приблизились к митрополиту и склонили перед ним свои головы. Митрополит благословил их, втайне удивившись, что царь облек таким великим доверием Мстиславского, дочь которого осталась вдовою после казни ее мужа Александра Борисовича Горбатого. Мстиславский, сильный духом, славный воевода, бывший друг Курбского, не раз наедине высказывал митрополиту Афанасию свое недовольство жестокостью царя, и вдруг… он – глава всей земщины! Мстиславский, словно поняв его мысли, слегка улыбнулся.
Царь объявлял своею собственностью города Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Тихвин, Ярославец, Суходровью, Медынь, Суздаль, Шую, Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюг, Старую Руссу, Каргополь, Вагу, также волости московские и другие с их доходами.
В самой Москве он взял себе в опричнину улицы Чертольскую, Арбатскую с Сивцевым Вражком, половину Никитской с разными слободами, откуда царь велел выселить всех дворян и приказных людей, не записанных в царскую опричнину.
Потные, раскрасневшиеся от волнения, сидели бояре на своих местах с убитым видом, слушая грамоту, переглядывались между собою, вздыхали: уж не перед концом ли света такое беззаконие!
А царь, когда все окончилось, вдруг быстро поднялся с трона, несмотря на утомление, обвел всех пристальным взглядом и при воцарившейся в палате тишине громко произнес:
– Коли Господь Бог соблаговолит прибавить вашему государю добрых верных слуг, и те будут взяты сверх одной тысячи в опричнину… Господней добродетели нет пределов! И я верю: многие исправятся и поймут государеву волю и покаются в грехах, небрежении и лености. Царь сумеет найти своею милостью каждого.
Бояре разъезжались по домам, тихо переговариваясь о том, что в опричнину царем взяты те владения, в которых наиболее живы удельно-княжеские порядки. Владения князей ростовских, стародубских, суздальских и черниговских, а также заокские вотчины князей Одоевских, Воротынских, Трубецких – все это стало опричниной. Царь нанес удар в самое сердце древнего княжевладения.
Втихомолку бояре ругали князей Федора Трубецкого и Никиту Одоевского, вступивших тоже в опричнину по своей доброй воле, обвиняли их в своекорыстии и лести.
Михаил Иванович Воротынский впал в горестное уныние. Взамен родного Одоева он получил землю на несколько сот верст дальше, к западу. Другие тоже были поражены страшным горем, когда узнали, что им придется покинуть родные гнезда и переселиться в иные уезды. Царь хочет стереть самую память в народе об удельном княжении былых времен.
Кому радость, а кому горе!
VIIСильный стук в наружную дверь разбудил Феоктисту Ивановну. Отец ее, стоявший двое суток в Кремле на охране дворца, спал крепко, не слыша все возраставшего грохота в дверь. Феоктиста, накинув на себя халат, побежала в его опочивальню.
– Батюшка… Батюшка!.. Очнись… Стучат… Ой, ой! Господи! Да что же это такое? Дверь ломают, батюшка!.. Дверь!..
Истома открыл глаза, вскочил с ложа и, не понимая, в чем дело, ухватился за саблю. Анисья Семеновна спрашивала в дверях, кто стучит. Раздался знакомый голос Григория Грязного: «Отворяй, старая ведьма!»
В открытую дверь ввалилась ватага опричников. Топот сапог, грубые голоса нарушили сон стрелецкого дома. Поднялась суматоха.
– Истома! – прозвучал в темноте пьяный голос Григория Грязного. – Одевайся. Государево дело есть до тебя.
Анисья Семеновна пришла из кухни с зажженной лучиной. Осветила озлобленное лицо Грязного.
– Полно тебе, Григорий, чай, не глухие! – сказала она укоризненно.
– Видать, глухие, коли мешкотно дверь государевым слугам растворяете, – проворчал Грязной. – Скажи-ка старине, штоб поторапливался… Малюта Скуратов его требует.
– Не шуми. Поостерегись! – послышался голос рассерженного Истомы. – Одеваюсь.
Вскоре в переднюю комнату вышел одетый по-походному, как бы собираясь в караул, Истома Крупнин.
– Оставь саблю-то… Не нужна тебе она! – усмехнулся Грязной.
– Ты мал чином, штоб мною повелевать. Щенок неразумный! Государь-батюшка единственно может лишить меня сабли…
Истома поцеловал рыдавшую Феоктисту, перекрестил ее, облобызал и Анисью Семеновну и спокойным голосом произнес:
– Ладно. Идем.
Долго стояли обе женщины на крыльце, дрожа от страха всем телом, прислушиваясь к топоту удалявшейся грязновской стражи. Совершилось это все так быстро и неожиданно. Дома они стали на колени, вознося Богу молитву о благополучном возвращении Истомы домой.
Грязной и его стражники ехали верхами, Истома шел пешком, то и дело скользя и спотыкаясь в темноте. Он был спокоен, уверен в том, что тут или какая-то ошибка, или злоумышление его недругов. И в том и в другом случае Истома полагал легко оправдать себя. Он не чувствовал за собой никакой вины. С юных лет был верным рабом и слугой великих князей как Василия Ивановича, так и Ивана Васильевича; готов в любую минуту умереть за царя; нередко приходилось ему охранять царя в его разъездах по богомольям. Сам царь Иван Васильевич не раз награждал его за верную службу. Чего же ради теперь ведут к допросу? Диву давался Истома, размышляя об этом, но шел смело и бодро на таинственный допрос. Все же… там, где-то в глубине, сосало сердце чувство острой обиды. За что? Кому понадобилось издеваться над седовласым стрелецким сотником?! А что скажут стрельцы его сотни? И что подумают посадские люди, когда узнают… Нет, уж лучше не думать. Позор! А главное, уже второй раз в его дом врываются Грязные… Мстят за Феоктисту? Надо поведать о том государю… Надобно подать на них челобитье!
Григорий Грязной всю дорогу смеялся, шутил, перекидываясь пустыми разговорами со своими товарищами, как бы стараясь этим показать свое небрежение Истоме. Он хотел выглядеть веселым, беспечным – человеком с чистой совестью. Шутя он сказал: «Опять нас сегодня дурным ветром в кучу сбило!» – «Ветер будет дуть, покуда не выдует всех врагов государя», – сказал один из опричников в угоду своему начальнику.
И много других обидных для самолюбия слов услышал Истома от грязновских молодцов.
Стрелецкого сотника втолкнули в подземелье к Малюте, туда, где допрашивали и пытали самых опасных преступников.
Истома недоумевал: неужели и его обвиняют в измене?
Грязной, выйдя наверх после того, как оставил Истому в подземелье, громко рассмеялся:
– В сети сей, юже скрыша, и увязе нога его!
Словно из-под земли появился Василий Грязной. Ласково поглаживая одного из коней и прижимаясь к нему щекой, Василий спросил:
– Неверную душу привели? Давно бы так.
– Знамо: душа согрешила, а тело в ответе!.. – громко, с усмешкой в голосе произнес кто-то в темноте.
Своими злоречивыми шутками и насмешками над обвиняемым они усердствовали один перед другим, стараясь казаться неумолимыми к заподозренным в измене людям. И теперь с большою охотою издевались над своею новою жертвою, соперничая друг с другом в ядовитости своих шуток.
Истому охватил в подземелье холод, сырость, какой-то неприятный смрад, напоминающий запах паленого мяса. В большом сводчатом каземате, в углу которого тлели кучи углей, у стены, на широкой скамье, неподвижно, будто истукан, вырубленный из дерева, сидел Малюта. Лицо его рассмотреть близко невозможно. В отсвете жаровни жили одни его большие, искоса улыбчатые глаза.
Истома огляделся по сторонам, перекрестился. В каземате, кроме Малюты, никого не было.
– Здоров, сотник! Аль не узнаешь? – вдруг ласково проговорил незнакомым голосом Малюта. – Начадили, надымили, словно тараканов, нехристи, жгли!.. Посоветуй. Сижу тут, как в геенне огненной. Шестую неделю варева не видал и забыл, каково оно есть. Едим тут с ребятами всухомятку. Колотья в животе ежедень не переходят. Тяжела служба у Ивана Васильевича. Не так ли?
– Не тяготился я службою государю и не тягощусь никогда, – скромно ответил стрелец.
– Добро. Не от льсти словеса твои. Да как же иначе доброму дворянину на свете жить? И то сказать – с кем греха не бывает! Один Бог без греха. А бес не дремлет… Нешто не знаешь – сатана и святых искушает. Силен бес! И горами качает, и людьми, что вениками, трясет. Не так ли?
– От бесовской проказы оберегаюсь Христовым знамением. К тому же поведай мне, Григорий Лукьяныч: пошто меня привели к тебе?
Малюта медлил с ответом. Вздохнул. Уперся взглядом в землю.
– Не торопись, дружок. Отгадай, в каком ухе звенит?
– Не знаю, – покраснев от досады, буркнул Истома.
– Нет. Скажи.
– В левом.
– В левом? – Малюта захихикал тоненьким, дьявольски ехидным голоском. – Когда так… приступим к делу. Угадал. Спасибо! Невесело хороших людей за жабры хватать, однако мое такое дело, што и отца родного, коли вина есть, отделал бы. Не гневайся, Истома, а скажи-ка мне без кривды: в каких мерах ты с князем Курбским? Помнится, в Черемисии, в походе, будто… не знаю: правда ли то… вы в одном шатре с ним жили. Не так ли?
Малюта поднял тяжелый, оловянный взгляд на Истому.
– В те поры кто не дружил с воеводою Курбским, возвеличенным высоким боярским саном самим батюшкой государем? И я почитал за честь жить с ним в едином шатре и дружбою его гордился и похвалялся.
– Это так. Правильно. Но, как говорится, друг мой: «Козла выжили, а все псиной воняет!» Почитателей и друзей немало осталось у князюшки на нашей святой земле. Вот хоть бы вассиановцы! Кто того не знает: Курбский дружил и с заволжскими старцами, помогал им. А теперь оных еретиков и смутьянов прячут у себя на куту друзья Курбского. По какой причине, скажи, у тебя укрывался Зосима? Кто, как не бес, внушил тебе мирволить оному злодею, пожегшему Печатную палату? Спрятали вы его у себя, да напрасно. От нас не укроешься… Со дна окиян-моря достанем. Из земли выроем.
Брови Малюты сурово сдвинулись, глаза сверкнули, зашевелились ноздри, и вздрогнула широкая борода от внезапно вытянувшейся вперед нижней челюсти. Весь он, Малюта, как-то разом перекривился.
– Не укрывали мы его. Меня не было и дома в те поры. Прикинулся старче замерзающим, мои бабы сдуру и ввели его в избу, пожалели. А кто ж его знал, что он за человек? Мало ли по Москве шатается безвестных нищих.
Малюта прошипел:
– И через царскую грамоту ты убил человека в лесу тоже по незнанию. Не так ли?
– Того человека, Ваську Кречета, убил я по приказанию Никиты Васильевича Годунова. Разбойник он был и царское имя порочил!
Малюта встал, отошел в угол и, пригнувшись, как будто собрался прыгнуть на Истому, проговорил:
– Кто бы ни был тот человек, убивать его через цареву грамоту не дано тебе. Ко мне приволок бы, а не убивал. Кому вручена государева грамота, тот государев человек. У нас морской разбойник с нашими кораблями ушел в море по государевой грамоте, так ты и его бы порешил? Ой, неверный Истома! Нагрешил ты знатно. Умножаются беззакония и без того. И не лишне было бы тебе открыть здесь всю истину, без понуждения. Чью прихоть ты исполняешь? Кто надоумил тебя кривить душою и преступать закон за спиною государя? Отвечай! Кому в угоду нарушил ты крестоцелование? Раскаивайся. Нелегко мне выводить измену наружу, ибо действие сего злого духа глубоко в душе человека таится. Облегчи мне тяготу мою, поведай чистосердечно, чью волю ты вершишь? Без боярской ехидцы тут дело не обошлось… Ну, говори!
– Не вижу я вины своей, совесть моя чиста, и лжеучение Вассиана не по душе мне, и Курбского князя я проклял с той поры, как узнал об его измене, и разбойника убил за то, што, прикрываясь именем царя, он грабил народ. Нередко государевой грамотой во зло государю же вершат свои дела неверные слуги.
– Истома, смирись. Не мудри. Долой гордыню! Признавайся! – выпучив глаза и сутуло съежившись, подскочил к стрельцу Малюта. Вытянув голову, сжал кулаки. Казалось, он вот-вот набросится на Истому.
– Помилуй, Господи! Григорий Лукьяныч, чего ради мне наговаривать на себя, – спокойно, с улыбкой, ответил Истома, пожав плечами. – Не лукавил я перед тобою, говорил правду. Не дорога мне голова моя, дорога честь. Коли моя душа лишняя на белом свете, возьмите ее, убейте меня, но лгать не буду!
– Знай же, Истома, как ни хорони концов, а правда сыщется! – погрозился на стрельца Малюта, сразу приняв вид спокойный, невозмутимый, тяжело вздохнул и снова уселся на скамью.
– Правда чище ясного солнца, Григорий Лукьяныч, а коли так, спокоен я. Не пугай меня. Не боюсь. Видит Всевышний Творец – чиста совесть моя. Горд я тем, что малодушия ради не сказываю ложно на себя вину.
Малюта хлопнул в ладоши.
Вбежали двое верзил в красных рубахах, схватили за руки Истому.
– Устройте! – мотнул в сторону Истомы Малюта. Вскоре Истома понял, что дело плохо: его отвели в темную земляную нору под железною дверью, куда сажали тех, кто обречен на казнь.
Придет беда – отворяй ворота! На другой же день после увода Истомы в дом стрелецкого сотника явился приходский священник, отец Сергий, и стал упрашивать Феоктисту, чтобы она вернулась к своему мужу Василию Григорьевичу Грязному. Того требует митрополит, коему принес свою жалобу обиженный бегством жены, убитый горем супруг.
– В послании к коринфянам сказано: «Жена своим телом не владеет, но муж», – тихо, вкрадчиво говорил старичок священник. – Муж и жена по закону составляют одну плоть. Апостол Павел, будучи девственником, по долгу учителя христианского, говорил мужу и жене: «Не лишайте себя друг друга!» Коли ты, матушка, сделалась женой, то и должна выполнять обязанности жены, вот што, милая Феоктистушка! Вернись, не гневи Бога.



