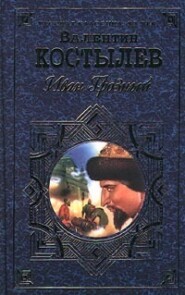 Полная версия
Полная версияИван Грозный. Книга 1. Москва в походе
– В чужом доме не указывают, а в своем Бог велит… Коль пушку такую царю дадим, чтоб башню сбивала, так от того никому не приключится беды, кроме врага…
Кусков надулся. Неужели с мужиком спорить? Унизительно! А Василий Грязной рассмеялся и отъехал прочь. Кускову было чересчур досадно, что воеводы послали к царю вместе с ним человека «подлого рода» как ровню. А главное, «этот лапоть» совсем не ценит того, что рядом с дворянами едет и что дворяне беседою его удостаивают, не брезгуют. Довольно! В походе повольничали, с дворянами из одних луж воду лопали! Довольно! Теперь не на поле брани. «Пожалуй, с боярами легче справиться, нежели с этими! Их ведь – целая земля! Мажь мужика маслом, а он все дегтем пахнет. Кровь! Другая кровь, чем у нас!»
Чтобы немного рассеяться, Кусков соскочил с коня и, сдав его Андрейке, стал собирать цветы в канаве около дороги. Собирал и думал: «И цветы-то не для них растут! Разве поймет он приятность цвета?»
Поймав себя на том, что снова стал думать о смердах, Кусков плюнул и со злостью бросил цветы в канаву.
На востоке вспыхивали зарницы, яркие, неожиданные, грома не было слышно.
– Эй вы, молодчики! – крикнул Кусков. – Поторапливайтесь! Гроза бы не захватила! Доехать бы до села нам…
– Гроза в Москве… А тут только молнии… – усмехнулся Грязной и, подъехав к Андрейке, спросил: – Ты о чем все думаешь?.. Ишь, губы растрепал. Сказывай!
– А беда вот в чем… Не свезут такую пушку ни кони, ни волы, никакая тварь… Чем ее двигать-то?
– Какую пушку? – удивился Грязной.
– Такую… большую… большущую!.. Чтоб ядро каменное не менее пяти десятков весило, а чугунное и все бы сто…
Кусков покосился на парня с легким испугом: «Не рехнулся ли с радости, что к царю едет?» Пришпорил коня. «Бог с ним!» Отъехал далеко в сторону.
– Каково же весить будет та пушка? – поинтересовался Грязной.
– Тыщи две с приварком.
– Слазь с коня, парень, помолись Богу! Пускай отгонит от тебя бесов… Довольно блудословить! Не смеши людей!
Андрейка громко рассмеялся, глядя на Грязного. Тот в недоумении таращил на него глаза.
– Помочи голову, пушкарь! Вот моя баклажка! Не думай о пушках… не надо… с ума сойдешь. Думай, как бы нам боярыню колычевскую сберечь да землю ту к рукам прибрать.
– Любо ту пушку на Москве поставить, чтобы о силе она говорила. Пушки, что и человеки, расти могут. И вырастут. И большущие будут! И всяк недруг струхнет, коли будут они у нас.
Грязной махнул рукой, плюнул и, напевая себе под нос, поскакал впереди. Ему показался очень забавным Андрейка. Василий Грязной не гнушался простым народом, как Кусков. Напротив, он всюду прислушивался, присматривался к черному люду и любил вступать в разговоры с мужиками, подшутить над ними. «Глупо не знать рабов, когда собираешься властвовать!» – так рассуждал он, когда его начинала упрекать жена за панибратство с конюхами.
Кусков вздохнул, притих, трусливо оглядываясь в сторону Андрейки. Мелькнуло: «Заговаривается! Бог с ним!»
Грязной опять повернул коня к Андрейке. Начал расспрашивать, как же так можно подобную пушку отлить. Андрейка с увлечением принялся рассказывать Грязному о том, о чем он давно уже думает, – «об убоистых пушках, с которыми удобнее осаду чинить».
Начинало темнеть, зарницы сверкали все реже и реже. Немолчно стрекотали кузнечики в траве. Усталые кони шли тихо. На пригорке обозначилось село с ветряными мельницами, с церковью. Тянуло ко сну.
Грязной сказал с усмешкой, дослушав Андрейку до конца:
– Ну, сам посуди: зачем нам крепости долбить? Скучно. Надобны легкие пушки, чтоб душа в поле разгулялась…
* * *Царь встретил гонцов просто, по-домашнему – в голубой шелковой рубахе, подпоясанной пестрым татарским кушаком, в темно-синих бархатных шароварах. На голове его была шитая золотом тафья.
Лицо его светилось приветливой улыбкой.
Гонцы опустились на колени, положив к ногам царя отнятые у ливонцев знамена. Василий Грязной вручил ему воеводскую грамоту. Царь со вниманием прочитал ее, а затем стал разглядывать полотнища знамен. После того поднял за руку каждого из гонцов и поочередно поцеловал.
В это время из внутренних покоев вышла Анастасия с царевичем Иваном.
Гонцы поклонились царице; Анастасия ответила им также поклоном. Царевич Иван, держа мать за платье, улыбался. На голове его был шлем, а в руке деревянная сабля.
Кусков и Грязной начали было прославлять царскую мудрость и доблесть русских воинов, но Иван Васильевич остановил их: «Обождите! Спасибо за службу, но хвалиться обождите, не ровен час и сглазите!»
Царь с улыбкой принял знамена от гонцов, сказав жене:
– Вот в левой руке Нейгаузен, а в правой – Дерпт… Мои люди знают, какие подарки я люблю. Спасибо им!
И тут же он приказал кравчему Семенову отнести знамена в государеву переднюю палату. Сел в кресло. Рядом с ним Анастасия. Постельничий Вешняков и другие царедворцы стали по бокам царской семьи.
– Ну, поведайте нам, добрые молодцы, про что знаете, что про что слышали да и что видели. Храбро ли защищались орденские люди – немцы в Дерпте?
Грязной рассказал про осаду Нейгаузена и Дерпта, упомянул и о смерти Колычева. Царь, как показалось Андрейке, одобрительно кивнул головой.
И царь и царица слушали Грязного с большим вниманием. Царевич Иван и тот притих, с любопытством разглядывая воинов.
Ознакомившись с донесением воеводы, царь сказал, что немца Бертольда Вестермана, который помогал царскому войску вести переговоры с нарвскими властями, надо щедро наградить, чтобы знал он, что русский царь добро, сделанное ему, никогда не забывает.
Иван Васильевич особенно подробно расспрашивал о командоре Нейгаузена Укскиле фон Паденорме и о бургомистре города Дерпта Антонии Тиле. Много рассказов слышал он о них и прежде. Знал, что Тиль был яростным противником Москвы, и тем не менее Иван Васильевич заявил с улыбкой восхищения:
– Нашлись, однако, храбрецы! Хвала и честь тому войску, которые имеют таких противников!.. Легкие победы не могут радовать истинного воина. Боюсь, не возомнили бы о себе мои люди и не ослабли бы! Война впереди! Вот о чем бы надо вам всем подумать. Воины должны даже перед концом войны думать, что она только начинается. Тогда мы всегда будем непобедимыми…
Кусков сказал, что войско по одному мановению руки его великой царской светлости готово в любую минуту лечь костьми во славу своего мудрого государя.
Иван Васильевич посмотрел в его сторону, хмуро, неодобрительно покачал головой.
– Не любы мне твои слова! Мне надобна сила и победа, а не похвальба и не кости! На что мне кости? Видел я их!
Кусков покраснел, растерялся, подумав: «Зря сунулся. Пуская бы говорил Грязной!»
– А что молвите мне, други, о нашем наряде? Приметчив ли он? К осаде удобен ли? И много ль попусту ущерба нашей казне от недолета и перелета ядер? Об этом думали ли вы?
И вдруг указал пальцем на Андрея:
– Сказывай!
Парень вздрогнул, смутился: царь спрашивал именно о том, о чем он постоянно думает.
– Ущерб государевой казне, батюшка-царь, превеликий от худого стреляния… А того скрывать, ради верности, не буду.
– Говори прямо, не бойся! – ободряюще кивнул головой Иван Васильевич.
Грязной метнул недружелюбный взгляд в сторону пушкаря.
Андрейка посмотрел на дворян, помялся, помялся, да и сказал:
– Соломиной не подопрешь хоромины… тож соломиной и не разобьешь хоромины… А камень в Ливонии крепкий, столетний кирпич, неуступчив огненному бою.
Густые черные брови Ивана удивленно приподнялись. На губах скользнула улыбка. Он посмотрел на жену. Та тоже улыбнулась. И ей понравилась смелость парня.
Андрейка продолжал:
– Неубоистые выстрелы чинятся от многих неустройств как в самом стрелянии, так и от милости пушек… Огонь простора, дальнего боя, силы просит, а мы не даем…
Кусков побледнел, грозно покосился в сторону пушкаря. Но вот он заметил, что царь наклонился в сторону Андрейки, со вниманием слушает его, и тогда Кусков изобразил доброе выражение на своем лице.
– Каковы же причины неубоистого стреляния? – продолжил царь.
– Коли сердечник нехорошо и непрямо вставлен, либо при литье сдвинулся, либо при просверливании погрешность была… Буде пушка неладно в станке лежит, да мост если под нею покат либо не крепок и изгибается… Буде пушка пристойного заряда не восприняла, отчего либо высоко, либо низко выстрелится. Аль середина непрямо сыскана, аль расстояние неведомо…
Царевич, положив ручонки и головку на колони матери, задремал под мерную, спокойную речь пушкаря. Его маленький шлем давно в руках царицы. Анастасия слушала пушкаря со вниманием. Она смотрела на него ласково, ободряюще.
Андрейка говорил и о разной тяжести ядра, о ветре, о дожде и снеге… Все это тоже влияет на точность выстрела. И порох неодинаковый – тоже нехорошо.
Царь с нескрываемым любопытством слушал Андрейку. Он задал ему вопрос о том, какие ядра лучше оказались: литые или кованые, угластые или круглые?
Андрейка ответил, что круглое ядро лучше воздух разбивает, нежели угластое. Литые и кованые ядра Андрейка хвалил и говорил, что они государю дешевле стоят, нежели свинцовые или каменные, ибо от них больше пользы в бою. Свинцовые ядра и тяжелы, и разбиваются, и расплющиваются, они обходятся государю вдвое, а то и втрое дороже железных.
– Да и что в каменном ядре? Оно само разбивается о каменную стену, а стена от него лишь поцарапана… – говорил Андрейка, раскрасневшись.
Иван рассмеялся.
– Каменное ядро пообветшало, истинно! – проговорил он. – Им ворон бить, а не замки. А про то, чем плохи пушки наши, ты мне и не сказал… А ну-ка!
– Невелики они, государь, в них той ярости нет, коя надобна… Заморские мастера у нас на одной мере стоят… Далее не двигаются… У немчинов видел я великие пушки… А нам надо еще больше, еще убоистее…
– То же и я думаю, молодец, – нам нужны такие пушки, чтобы врагу неповадно было… Однако от великости ли одной убоистость?! О том поспорить можно. Но речи твои любы мне. Кусков, гляди, какой у тебя литец знатный! – И, обратившись к остальным гонцам, проговорил: – Что скажете, дворяне?! Побольше бы вам таких холопов.
– Есть они, батюшка-царь, у нас, есть, и немало: и в вотчинах и в поместьях… – ответил Грязной, вытянувшись перед царем.
– Слушайте их и в руках держите, чтоб гордынею ума не восхитились бы и более того, что Богом определено холопу, не возомнили бы о себе. Мудрость и покорливость иной раз не уживаются вместе.
– Постоим, батюшка-государь, за порядок дворянского обычая! – сказал Грязной.
Кусков опять выскочил вперед:
– Голову сложим, батюшка-государь, за тебя.
Царь строго посмотрел на него:
– Голову сложить, храбрец, тоже невелика мудрость. Достойнее голову обратить на пользу государю и родине. Такую голову, как его, – Иван кивнул в сторону Андрейки, – надо беречь; мы оставим его при нас, в Москве, на Пушечном дворе. А ты, Кусков, отправляйся вспять, к Шуйскому, прикажи ему от царского имени, чтоб всех мастеров-литцов, что есть у него, гнал в Москву… Буде, погуляли! Пора в литейные ямы… Готовиться надо к большой войне. Ну, идите. Господь с вами! А ты, Василий, останься.
Все опустились на колени, поклонились царю и, сопровождаемые постельничими, вышли из палаты, кроме Грязного.
Царь поднялся с кресла.
– Ну, что скажешь, царица?
– То же, что и ранее говорила. Велика земля твоя и многими полезными людьми удобрена…
– Ну, теперь ты иди, погуляй в саду с царевичем, а мы тут побеседуем о делах ливонских.
Царица поклонилась царю; отвесил преувеличенно низкий поклон и очнувшийся от дремоты царевич, вызвав улыбку на лице Ивана Васильевича. Любовным взглядом проводил он жену и сына.
– Ну, докладывай, – кивнул он Грязному, когда они остались вдвоем.
* * *На следующий день царь Иван собрал в своей рабочей палате мастеров-иноземцев и лучших литцов пушечного дела из московских людей, а с ними был и Андрейка. Царь пожелал знать, нельзя ли, не увеличивая размера и веса пушки, сделать ее дальнобойнее, а может быть, порох и зажигательные составы удастся сделать злее, пускачее. О ядрах царь желал знать, можно ли ковать их легче весом, но могущественнее в действии. Царь знает, что камень летит быстрее пера, коли их бросать рядом, а стало быть, и тяжелое ядро пускачее, нежели легкое, но, быть может, его заострить наподобие копья и тем облегчить лет? Нужно, чтоб легкие пушки были разрушительны, ибо тяжелые пушки великая обуза войску в походе…
В сильном смущении слушал Андрейка царя, беседовавшего с немецкими и свейскими мастерами. Вчера ведь он доказывал царю, что нужны большие орудия, что они разрушительнее и приметчивее, а сегодня царь настаивает на малости орудий.
Чем больше вслушивался Андрейка в разговор царя с иноземцами, тем яснее для него становилось, что царь озабочен улучшением полевой артиллерии, а не осадной.
Иван Васильевич рассказал иноземным мастерам, как велики были трудности с большим нарядом при походе на Казань. Пришлось разбирать орудие на части и везти их к Казани водой… Благо, коли над Казанью одержали победу, и пушки остались при войске, ну, а случись иное – войску пришлось бы все орудия побросать на добычу врагу.
Кто-то из иноземцев сказал с подобострастием:
– Вашего царского величества войско непобедимо… Вам тут нечего опасаться…
Иван Васильевич посмотрел на него нахмурившись. Немного подумав, он покачал головой:
– Нет большей опасности, нежели та, когда ты хочешь казаться сильным, не обладая истинной силою. Не о том нам стараться, чтоб о нашей силе повсеместно болтали, а о том, чтоб она у нас в руках была, а тебя бы почитали слабым.
Опять царь опровергает мысли его, Андрейки, ведь ему хочется сделать такую пушку, чтоб при виде ее все приходили в ужас, и поставить эту пушку на самом виду. Пуская, глядя на нее, иноземцы думают о том, какою силою обладает Москва. А царь говорит: не надо казаться сильным. Вот и пойми!
Когда беседа закончилась, Иван Васильевич, отпустив иностранных мастеров, остался с московскими пушечными литцами. Он сказал им, чтобы они изготовили одну пушку пудов на пять, с длинным дулом, и другую такую же пушку, широкодульную, но короткую. Ядра он также велел для этих пушек сковать и шарообразные и угластые.
– Будем добиваться своего! – сказал он. – Не все чужими головами жить!
Он приказал держать все это в тайне от иноземцев…
Вечером царское семейство молилось в дворцовой церкви. Митрополит Макарий служил молебен по случаю взятия ливонских крепостей.
По окончании богослужения он раскрыл Библию и громко, торжественно, при свете двух больших свечей, которые держали двое исподьяконов, прочитал:
– «Пределы твои – в сердце морей; строители усовершили красоту твою; из синарских кипарисов устроили все мосты твои; брали с Ливана кедр, чтобы сделать мачты; из дубов васанских делали весла тебе; скамьи из букового дерева, с оправою из слоновой кости с островов Хиттимских; узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса и служили стягом твоим; жители Сидона и Арвады стали гребцами у тебя; фарсистские корабли стали караванами в твоей торговле, а ты сделался богатым и славным среди морей; от вопля кормчих твоих содрогнутся государства и в сетовании своем поднимут плачевную песнь о себе! Аминь!»
После того митрополит сошел с амвона, и царь и митрополит обнялись и облобызались.
В глазах Ивана Васильевича – раздумье. Он тихо сказал:
– Земному владыке не будет гордыни в том, если он станет молиться о бессмертии своего царства…
В полночь царь потребовал к себе князя Воротынского.
В открытое окно дворца виднелась освещенная луной Москва-река. Сосны, церкви, избы Замоскворечья – все было объято сном, даже не слышалось обычного тявканья псов.
Иван Васильевич остановился против окна, всею грудью вдохнул в себя легкий, после дождя, воздух. Пахло липовым цветом. «Люди спят спокойно, спят, потому что бодрствует царь!» – подумал царь Иван, прислушиваясь к кремлевской тишине.. В саду робко шептались деревья; повеяло влагой полночного тумана со стороны Москвы-реки. Прохлада скользнула по лицу, задула свечи. Большой своей рукой царь прикрыл ставню.
Постучали в дверь.
– Входи! – громко сказал Иван, обернувшись.
Низко кланяясь, вошел Воротынский, помолился на иконы. Заспанное лицо выражало недоумение.
– Садись, Михайло Иванович. Пошли-ка там гонца за Телятьевым. Пускай из войска едет в Москву. Нужда тут в нем: понадобился царю.
Воротынский, не садясь на скамью, поклонился.
– Слушаю, государь!
После этого Иван Васильевич развернул чертеж расположения русского войска в Вирляндии[68].
– Гляди! Надобно сильную, храбрую сторожу разверстать у берега моря, вон, глянь! Отсюда и досюдова, от Нарвы до Тольсбурга… Пошли туда князей Одоевских, Темкиных, Хованского, Лобанова да дворян: Грязного Тимошку, Старикова Яшку, Татищева Гришку с казаками и стрельцами… Скажи, я приказал! Слушай! Берегите море, крепко сторожите земли по Нарве… Объяви: испомещены будут в той земле и денежно жалованы те, что усторожливы. Беспоместные дети боярские на моей стороне стоят крепко. Да из простых людишек примечай к пожалованию, дадим по двадцати четей на человека… Чтоб каждый был о двух быстроногих конях, не забудь! Разъезды частые с нарядом от Нарвы и до моря учини; станицы раскинь, стояли бы все за государево дело крепко. Табуны добрых коней сгоните из Новгорода в Приморье, нужды чтоб в них не было; харчевников из Новгорода и Пскова сведите туда же. Довольно уж нам пьяных новгородских купцов ублажать и непотребных жонок!.. Со всех земель навезли они их. Увы мне – оные златолюбцы! Доберусь я до них! Хлеба, сена возьми у них. Не щади! Кто же, как не ты, о сторо́жах позаботится мочен?! Они – наша защита… Обездолили их в бывшие времена… не думали о них… На полевых сусликов да на лесного зверя рубежи оставляли. Мысль я имею: не в это лето, так в другое созвать засечных голов с рубежей в Москву и порядок единый, твердый с ними обсудить, а тебя поставлю воеводою над ними… Говорил не раз о том и сделаю так. Служи правдою!
Воротынский дал боярское слово царю приложить все свое старание к устройству крепчайшей охраны приморской земли, отвоеванной у ливонцев, поклонился и ушел.
Царь Иван после его ухода снова распахнул окно. Глубокими вздохами вобрал в себя прохладу. Близка заря. Слышны одинокие голоса петухов. Бледнеет небо. Под самым окном, на набережной, сонными, хриплыми глотками выкрикивают сторожа:
– Слу-ша-й!.. Тула!
– Гля-ди!.. Москв-а-а-а!
Удары в било, дребезжа, таранят торжественную тишину Кремля.
* * *На берегу моря, в окрестностях Ревеля, одиноко бродил пастор Бальтазар. И все думал-думал: «У гордеца, как у плохого ваятеля, можно видеть нелепейшее изображение его деяний, говорил Сократ. То же самое происходит и с зазнавшимися рыцарями нашего древнего ордена. Московский царь торжествует, а наши рыцари падают ниже и ниже».
После Дерпта русские взяли крепости Везенберг, Пиркель, Лаис, Оберпален, Ринген и другие замки. «Московиты движутся от Дерпта на север к Ревелю».
Вчера из Ревеля, бросив свой замок и город, бежал ревельский командор. Он передал свои обязанности Христофору Мунихгаузену, приказав населению считать Ревель городом короля датского, и что «московиту» придется за Ревель биться не с Ливонией, а с Данией.
Мунихгаузен отправил королю Христиану в Данию послов с ключами от города, прося у него покровительства и защиты от «московита».
Однако из Дании были получены неутешительные известия. Датский король не хочет ссоры с царем Иваном, отказывается принять город Ревель под свое покровительство.
Бальтазар в последние месяцы постарел, осунулся. Ревель готовился к обороне лениво, небрежно, но не жалел времени на то, чтобы досадить «московиту»: русские церкви обратили в оружейные склады и живодерни, у московских купцов, оказавшихся в Ревеле, отняли все их достояние.
Бальтазар Рюссов, глядя на все это, начал оправдывать московского царя, и, увы, он, немец, ливонский гражданин, любящий родину, с горечью записал в свою летопись: «… Магистр ливонский, архиепископ рижский и епископ дерптский с умыслом отвергли все напоминания о долге, о неправдах, творимых с русскими купцами, и тем ведут себя к собственной гибели, и сердце их, как фараоново, пребывает окаменелым; поэтому царь должен был начать войну с ними, испытать их страхом и побудить к справедливости. Но они все еще остаются непреклонными; поэтому они должны страдать, будучи теперь наказываемы мечом и огнем. И это не его, а собственная вина ливонцев…»
Бальтазар плакал, набрасывая эти строки. Он вписывал их в свою «Ливонскую хронику» для потомства как предсмертный стон умирающей родины.
Вот он выходит из своего маленького домика, увитого плющом, на берег, и с грустью вслушивается в рокот волн бушующего моря… Из гавани отплыл, слегка накренясь под ветром, корабль, набитый беглецами-дворянами. Свой скарб, вместе с домашними животными, целый день они погружали в корабль, покидая родной край.
Корабль треплет ветром, сильно качает на волнах, будто само море разгневалось на трусливых ревельских обывателей…
Дания! У многих на устах это слово. Но… если ты обрек на погибель свою родину-мать, может ли мачеха питать к тебе любовь и доверие? Она должна ждать еще большего зла от такого приемыша. Трудно спасти того, кто сам добивается своей погибели.
Так думал Бальтазар.
Вчера в Ревеле появилась старая Клара, служанка Колленбаха. Она рассказала Рюссову о том, что русская девушка, та, что была в доме Колленбаха, жива и здорова и находится в русском стане под Тольсбургом. Она повенчалась с начальником порубежной стражи. Ее, Клару, они отпустили через рубеж беспрепятственно и дали ей на дорогу хлеба и денег.
Бальтазар поблагодарил Бога за то, что хоть одним злодеянием у рыцарей стало меньше.
Он сел на днище опрокинутого челна. От порыва ветра, от мелкой водяной пыли, освежавшей лицо, от рева волн становилось легче.
Это унылое, пасмурное небо как нельзя более соответствовало его душевной скорби.
Бальтазар взглянул в сторону города, затем вынул из кармана книгу пророка Иезекииля, с которой в последнее время не расставался, наугад раскрыл ее и стал тихо читать:
– «Так говорит Господь Бог: вот я на тебя, Тир, подниму многие народы, как море поднимает волны свои.
…И разобьются стены Тира и разрушат башни его. И измету из него прах его и сделаю его голою скалою.
…Местом для расстилания сетей будет он среди моря, и будет он на расхищение народам.
…И сойдутся все князья моря с престолов своих, и сложат с себя все мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю и будут содрогаться и изумляться о тебе.
…И поднимут плач и скажут себе: «Как погиб ты, город мореходцев, город знаменитый, который славился силою на море, и жители его, наводившие страх на всех обитателей его?!»
Холодный пот выступил на лице пастора. Судорожною рукой он сунул книгу опять в карман.
Буревестники метались над самой головою. Волны со звоном разбивались о громадные камни на побережье. Тучи ползли низко, почти касаясь поверхности моря; чудилось, они задевают верхушки башен на замке, обволакивая их своими черными косами. Море дышало холодной тоской, леденило кровь однообразным, унылым ревом… Серое, безотрадное, беспокойное небо!
Пастор закрыл глаза… Ему всего только тридцать три года, но лицо его изборождено морщинами и в волосах уже белеет седина. Он, немец, жалеет, что родился и живет среди немцев в эти дни позора и гибели своей родины…
* * *Как у себя дома, беззаботно перекликаются новгородские петухи на берегу Балтийского моря.
После нескольких дней ненастья наступила хорошая погода.
В шатре душно от первых же лучей восходящего солнца. Герасим поднялся с ложа, поцеловал спящую Парашу, оделся и вышел на волю.
Над взморьем играли белые орлы.
Они то сталкивались грудь с грудью, нахохлившись и часто взмахивая серебристыми крыльями, то кружили сверху вниз, как бы догоняя один другого, а затем плавно разлетались в разные стороны, чтобы через несколько минут снова начать свой веселый поединок.
Палевые пески пышными косами раскинулись в тихой воде. В заливчиках между ними еще дымились клочья тумана.
Под навесом у коновязи стоял Гедеон. Он приветливо заржал, увидев хозяина. Выразительные глаза его, показалось Герасиму, спрашивали: «Где же ты там пропадал?» И как бы стыдя Герасима, конь качал головой. Герасим чувствовал себя и в самом деле провинившимся.
Давно бы надо было встать и напоить коня.
Герасим ласково погладил его теплую шелковистую шею. «Недаром тя Паранька любит! Ишь, гладкой!» И тут же поймал себя на мысли: «О чем бы ни думал, всегда приходила на ум Параша!» Ну что ж! Теперь она его жена. Поп в Тольсбурге обвенчал их по-христиански. Теперь он оседлый порубежник.



