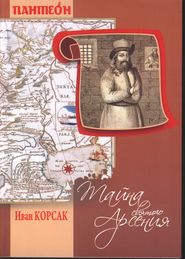 Полная версия
Полная версияТайна Святого Арсения
– А если за нас возьмутся? Чего же здесь душой кривить?
– Это еще нужно в следствии довести. Человек слышал звон, но не знает, откуда он, вот и выслужился перед императрицей, написал искренне.
– В конце концов, можно на всю Сечь большую беду накликать. Клеветнику какому или любовнику дежурному неизвестно что придёт в голову…
Кошевой ответил не сразу, лишь глаза призакрыл, словно его на сон потянули.
–Не пойдут сейчас с нами воевать. Однако, рано или поздно, я этого никогда еще не говорил,
братья, рано или поздно, Петербург захочет срубить Сечь нашу под корень. Но не теперь: очень нужны мы в войне с Турцией.
Калнишевский опять поднял колокольчик.
– Гонца! – бросил шустрому джуре.
Топот копыт коней, которые рванули с места порывисто, все отдалялся, стихал и, наконец, замер.
*
19
В тесную комнатку над сенями, с облупленными стенами и треснувшей печкой, которую снимал поручик Василий Мирович, – на лучшее жилище не хватало, потому что уже восемнадцать месяцев не получал жалования, двое незнакомцев неожиданно заявились поздним вечером.
– Вас просит высокая персона, – сообщили гости, когда представились, но просьбу выразили твердым, не вызывающим ни малейшего сомнения, тоном.
Мирович не знал, куда его везут в карете с зашторенными окнами. Он только глазом окинул, когда взошел, мраморные ступени роскошного дворца, точеные причудливые перила… "Что бы такое приглашение значило?" – удивление Василия не имело границ.
В просторном зале его ожидал такой, как и он, молодой мужчина крепкого телосложения, в расшитом золотом восточными узорами халате.
– Садитесь, подпоручик.
"Граф Григорий Орлов! Всесильный фаворит, некоронованный повелитель империи, – похолодел Мирович.
Они остались вдвоем.
– Дело, о котором будет идти речь в настоящий момент, особой государственной важности, – граф молвил негромко, но выделял каждое слово так, словно был перед солдатской шеренгой. – Вы можете прислужиться Ее императорскому величеству, своей казацкой земле и, конечно, себе лично. Если вы готовы к этому – я буду говорить дальше, если нет – аудиенция закончена. Только помните – после слова "да" назад дороги нет.
На Мировича будто два ведра холодной воды кряду на голову – еле отошел от неожиданной встречи с таким высоким лицом, как здесь же поручение наподобие "иди туда, не знаешь куда, сделай то, не ведаешь что…".
Василий не знал, что ответить, вытянувшись в струнку, он только мигал глазами, пока не выжал:
– Ваша светлость, я не умею так… А может, я не способен, не в силе, может, это противоречит моему естеству и чести, может…
– Достаточно! – рубя махнул ладонью граф, как будто саблей. – Раз в жизни фортуна каждому дает свой шанс – в настоящий момент он ваш.
– Ваша светлость, и все же хотелось бы уточнить…
Граф нервно крутнул головой, не желая больше даже говорить.
"Господи, – умолял в мыслях Мирович, – то ли мне даруешь вознаграждение, то ли испытание, то ли коварное искушение. Как распознать душой, как не совершить зло, которого не поправить?".
В то же время у Василия перед глазами много примеров, когда человек одним единственным шансом сумел воспользоваться, чтобы изменить всю жизнь – и ходить далеко за примером не нужно, вон граф Орлов перед ним.
И если это действительно такой случай, зачем же ему им легкомысленно пренебречь? Он смог бы тогда возродить славу и мощь прежнего рода Мировичей, его влиятельность и честное имя. Предок его, полковник Мирович, во время казни гетмана Остряницы был прибит гвоздями к осмоленным доскам, горел на медленном огне, но ни стона, ни вскрика, от него не услышали. Прадед Иван – сподвижник Мазепы, гетман, выдал за него свою сестру. Федор Мирович, когда шла речь о неподчинении земли Казацкой, пожертвовал всем состоянием, не побоялся клейма изменника, пошел в эмиграцию с Орликом и до последних дней своих отдавался большому делу, не оставляя хлопоты о своей земле, скитаясь Турцией и доживая в Варшаве. Петр I отобрал все родовое имущество в казну, семью выслал в Сибирь. И только через многие годы детям разрешили вернуться на Украину, к их дяде, наказному гетману Павлу Полуботку. Бабушку Пелагею Захарьевну отпустили домой через два года после детей, и она последнюю копейку отдавала на достройку собора, которую начали еще свёкор и муж.
Годами напрасно писала бабушка многочисленные челобитные, чтобы вернули ей хотя бы девичье приданое. И сам он, Василий Мирович, должен быть достоин своего рода, а не скитаться по чужим ободранным углам, на чужой земле и смирно стоять перед пьяным каким-то майором.
-Да, – наконец-то вымолвил Мирович, проговорив с глубоким выдохом, будто с закрытыми глазами прыгнул в бездну, не ведая, глубокая она или нет.
– Тогда слушайте, – на краснощёком, дородном лице графа как будто пробежала тень от какой-то тучи. – В Шлиссельбургской крепости много лет уже заключен Иван Антонович, прежний император, который стал им еще младенцем. Императрица Екатерина хочет освободить его, вывезти и предоставить волю. Хорошее сердце императрицы не может терпеть такую несправедливость, тем более, что Иван Антонович ей даже дальний родственник.
– И кто же посмеет противоречить воле ее императорского величества, что ей мешает?
– У каждого есть свои враги, достаточно их и у нее. Освободить Ивана Антоновича нужно вооруженно, охрана там небольшая, и двадцати штыков не наберется. Когда вы заступите на военный караул, то у вас вдвое больше будет солдат.
Вдруг тревога охватила Мировича, даже ногти на пальцах стали охладевать, он не испугался, что в столкновении разное случается, может, и пуля слепая догнать, страх одолевал из-за того, что к мнимым грехам его рода допишут теперь неопровержимую его личную вину.
Колебание и нерешительность Василия не утаились от графа, он продолжал речь, четко вычеканивая и притискивая каждое слово, словно гвозди забивал.
– В случае успеха вам возвращаются все родовые имения, как материнские, так и по отцовой линии. И еще одно. Ее величество императрица замыслила большие реформы. Среди прочего, если суждено осуществить задуманное, реформы коснутся Малороссии – автономия будет возвращена, как при царе Алексее Михайловиче и Богдане Хмельницком. Конечно, будет изменен гетман, на Запорожской Сечи разве это кошевой – одни же деды среди старшин, достаточно посмотреть на Калнишевского или Федорива – порох из них сыплется и мхом уже поросли. Императрица будет советовать казачеству лишь молодых… Дружественная, со своими вольностями Малороссия, как сотню лет назад, по мнению императрицы, нам куда выгоднее, чем край, где Мазепы будут рождаться друг за другом.
Орлов глянул на Мировича так, как будто он умышленно прицепился к нему, и теперь графу не просто так отделаться от навязчивого посетителя; посмотрел так, словно вымолвил раздраженно: "И чего тебе еще нужно?".
– Я согласен, – холодным, как вода из полыньи, голосом ответил Мирович. – Но если случится непредвиденное, то я просто государственный преступник, тогда не вы моим собеседником будете, а палач.
Граф вместо ответа взял из стола лист бумаги и, не давая в руки Мировичу, держал его так, чтобы можно было читать.
Василий быстро пробежал глазами строки, которые говорили о его молодости, неопытности, ошибочных представлениях о величии того или иного дела – императрица даровала ему помилование. Четкая подпись наискось, которую вся империя уже знала, не вызывала сомнение.
20
После обеда за карточным столиком императрица с Орловым и Паниным разговаривали о турецких делах. Екатерине Второй хотелось, чтобы умиротворенные яствами и питьем Григорий с Паниным хоть на малость меньше ссорились и не пускали ехидные шпильки друг другу при наименьшей возможности – случай же всегда выищется.
– Говорят, турок весьма радуется Колиивщине на Украине, – Орлов веером перелистывал карты, ища нужную, словно этот турок спрятался где-то в карточной кипе. – Малорусский мятежник, хотя и православный, но с басурманским заодно…
– И потеха турецкая, но за французские деньги. И суфлер их тоже с парижским произношением, – буркнул Панин, а когда Екатерина Вторая сбросила карту, только брови поднял удивлённо: – Ваше императорское величество, азартные игры в России запрещены…
– Азартные – это на деньги. А мы на камушки, – довольная, чуть-чуть лукавая улыбка императрицы мелькнула по лицу – и остроумно ответила, и сбила с толку Панина неожиданным, достаточно рисковым, действительно азартным ходом.
Еще несколько ходов – и Панин сделал гримасу, словно от изжоги, и глянул недовольно на горсточку "камушков" – бриллиантов; императрица небрежно подгребла свой выигрыш к себе.
– Относительно истории с турками, Никита Иванович, – вдруг исчезло у нее утешение от выигрыша. – От какого-то казака пришло письмо, в котором пишется, что Калнишевский, в придачу, готовит депутацию к крымскому хану. Если мы не уступим в споре за пограничные пределы, то хочет, мол, под протекцию ханскую проситься, то есть турецкую.
– Худшего времени не выдумать, – Орлов раздавал карты искусно, пролетев весь стол, они складывались ровненько, словно пришпиливал кто-то их. – Здесь не Сибирь для кошевого светит, здесь виселицею пахнет.
– Князь, еще Мациевича не выдыхали, – императрица настороженно крутнула головой, как будто оглядывалась, нет ли митрополита где-то поблизости. – Враль в надежной клетке, но и оттуда неизвестным образом умудряется народ баламутить.
– А если это очередная малоросская хитрость? – крутнулась мысль в голове Панина и, не удержавшись там, прозвучала вслух.
-По-моему, плотникам уже время колоду для виселицы тесать. Не хватает нам только, чтобы к полумиллионной турецкой армии приобщилась еще казацкая голь, – Орлов как-то неуклюже взмахнул рукой, и карты посыпались на пол. – Не подсматривать!
– Здесь, Григорий Григорьевич, не руками, не саблей или веревкой нужно размахивать, – Панин не привычен был к неосмотрительности или поспешности. – Здесь надо хорошенько подумать. Какая-то хитрость мне кажется в этом письме: может, запугать Петербург хотят, может, выведать наши действия – нужно взвесить всё тщательным образом…
– Пока будете весить, – Орлов так вымолвил словцо, будто передразнивал, – то кошевой свяжется с ханом. А вспомните, Никита Иванович, как Выговский с ханом соединился, и цвет нашего войска втоптали в грязь под Конотопом, разве что глупость их и дрязги нас от опасного похода на Москву спасли.
– Может, просто выждать, не дать ход письму, что-то и засветится, – вслух рассуждала императрица.
– Мудро говорите, Ваше императорское величество, – ухватился сразу за слова Панин. – Я бы только от себя одну штуковину прибавил. А что как вытворить письмо кошевому как будто от крымского хана, хорошенько продумать его – замыслы кошевого вылезут тут же, как шило из мешка, мы же будем знать все от близкого окружения Калнишевского.
– Детская затея, – на своем упёрся Орлов. – Раскусит ход старик– проныра.
– Раскусит – то что теряем. Проверяли на верность, или другую отговорку найдем.
– А когда еще хуже – своими выкрутасами поможем казакам с крымчаками объединиться?! Вот представление будет, француз такое не выдумает…
Императрица дальше поддерживала игру разве что для видимости, ее за живое зацепило собственно турецкое виденье. Она годами вынашивала и еще будет тщательнее обдумывать свою взлелеянную идею, которая станет самым грандиозным мифом на века. Она должна подтвердить брошенные на всю Европу слова Вольтера: "Великий муж по имени Екатерина!". Придет время, и она выскажет вслух задуманное. Потому что имеет твердое убеждение, что всё-таки найдет общий язык с этим чудаковатым Иосифом ІІ, императором Священной Римской империи. Ей чихать на его выходки – одевается простолюдином, ездит в старой, сильно поношенной карете, запретил подданным становиться на колени и целовать руку. Она найдет, чем убедить Иосифа, совместно они развалят Османскую империю, где паши допускают дикое своеволие, бандиты грабят города и села – на помощь придут даже христианские подданные, которые восстанут. Будет перекроена вся Европа. На месте Молдавии, Валахии и Бессарабии они образуют новое государство под именем Дакия во главе с императором-христианином. Россия возьмет хотя бы Очаков и Днепровский лиман, да еще землю между Бугом и Днестром.
Волей великого мужа по имени Екатерина будет возобновлена древняя Греческая монархия на руинах варварского, басурманского государства. А на престол посадить можно было бы, скажем, ее внучка.
И ради этой большой игры приемлема любая хитрость и любые действия, потому что это игра не на эти камни, которые блестят перед ней на карточном столе, а куда более серьезная и более рискованная.
Игра на камни между тем подходила к концу, мысли императрицы были далеко, Панину сегодня никак не везло, поэтому Орлов с плохо скрытым удовлетворением сгребал брильянты со стола.
– Пиши, – сказала императрица Панину. – Пиши, Никита Иванович, письмо этому запорожскому усатому деду, письмо от хана, поиграем немножко в кошки-мышки. А тогда увидим, кто из нас гвоздем в темя битый.
21
Он с трудом переступил порог своей камеры-одиночки, быстрее перелез, потому что ноги плохо сгибались, словно к ним кто-то привязал по грубой палке; тихо доковылял к стулу и опустился так осмотрительно на него, как будто там могли иглы торчать. Мирович обхватил голову руками и неподвижно сидел неизвестно сколько времени – это время вдруг остановилось, как песочные часы, что по непредвиденной причине забились и тоненькая струйка мелкого песка исчахла, оборвалась. Собственно, ему без надобности было уже время – зачем человеку вещь, которой пользоваться невозможно? И не потому, что он в тюрьме, в крепкой каменной клетке, в силке (сам себя поймал!), а потому, что теперь он не в силах изменить обстоятельства хотя бы на маковое зернышко.
Сегодня над ним свершился суд. Значит, все?
В камере заключения, просторной и сухой, никоим образом не похожей на слепую и заплесневелую камеру уже покойного императора Ивана Антоновича, у Василия Мировича было время передумать все события последнего времени. Тем более, вначале его никуда не звали, никто не приходил, и Мирович чувствовал себя, как на необитаемом острове.
Что случилось? Почему? Что предвещало такой неожиданный, непредсказуемый и не обусловленный никакими договоренностями ход событий?
Он стал перелистывать в памяти, как спешно прочитанную книгу, перелистывать назад страница за страницей и вдумываться не только в отдельную строку, но и в отдельную букву и знак – каждый мог таить в себе отгадку.
В первую очередь, почему выбор графа Орлова и императрицы пал именно на него – если с самого начала они замышляли не благородное дело, а совершить хотели мерзость, то какая-нибудь обычная ищейка с Тайной Экспедиции здесь бы больше пригодилась. Почему он?
Появившись в Петербурге из неизвестности, за два только года Мирович стал известным. Василия радовало, что его поэзии гуляют в рукописях столицей, его узнают, его цитируют, неподкупный Михаил Ломоносов, который шаркал коридорами университета и зимой, и летом в своих восточных валенках, украшенных стеклом собственного изготовления, во время лекций цитировал поэзии Василия Мировича как пример новейшей поэтической школы. А когда был объявлен конкурс на рисунок перил петербуржских мостов, то победителем его стал Василий Мирович. Он, потомок знаменитого рода, состоянием которого больше полувека занимаются восемь императоров и столько же созывов Сената, дерзнул сам судиться с Сенатом – осмелился тот Мирович, дед которого еще жив, хлопочет из Варшавы об украинской независимости, подстрекает европейских дипломатов. И без него хлопот Петербургу хватает – французский король Людовик ХV так и не признал за Екатериной Второй титул императрицы, а когда хочет подтрунить над какой-нибудь дамой, то говорит, что одевается она, как Екатерина…
Почему же граф Орлов с императрицей остановились именно на нем? И как будто бы сначала все шло так, как договорились. Вместо ожидаемого всеми наказания за жалобу на Сенат, императрица досрочно даже, 1 октября 1763 года, прапорщику Мировичу присвоила звание подпоручика.
Обрушилось все в душе, когда увидел в полумраке, в мерцании подслеповатой свечи, на сыром полу тело Ивана Антоновича, неживого уже, в луже крови, с перерезанным наискось горлом – потихоньку булькая, из раны хлестала кровь.
Он молился каждый раз, идя на очередное заседание высокого суда, более высокого не помнил Петербург: сорок восемь сановников в раззолоченных мундирах и иерархов духовных в пышном облачении – молился, чтобы сдержаться и не выдать тайну договоренности; он ошибся один и ему перед Богом держать ответ.
И только сегодня, когда прозвучал приговор, он позволил себе бросить в лицо лукавым судьям:
– Петр Третий недолго на троне был, его убийцей стала жена. Она же украла трон у несчастного Ивана Антоновича, она же грабит эту землю. Разве вы не знаете, что по ее распоряжению были посланы корабли к брату своему, князю Фридриху-Августу с золотом и серебром на двадцать пять миллионов? Их отобрали у тех, кто сегодня кору из деревьев ест и солому. Перед Страшным судом Екатерине не оправдаться.
Вот и все. Завтра приговор приведут в исполнение. А может, в последний момент примчит гонец на коне, и, задыхаясь, зачитает помилование? То самое, которое видел он с размашистой подписью императрицы, видел собственными глазами в руках графа Орлова?
22
Прошло немного времени после того, как написал Калнишевский из Глобой и Головастым в Петербург донос сам на себя, вот и посетил кошевой дом Ивана Глобы. Пока хозяйки накрывали на стол, мужчины обсуждали, как разместить и на землях каких беглецов-украинцев, которые были еще под поляком. В покои, путаясь под ногами хозяек, степенно вошла кошка, осмотрелась настоящей хозяйкой, и стала тереться о ноги, в том числе Калнишевского.
– Спокойная кошка у тебя, – изумился кошевой, – домашняя, чужих людей совсем не боится.
– Такой кошки нигде нет, – загадочно улыбнулся хозяин. – Она даже знает немецкий язык.
– Придумай еще, – крякнул, давясь смехом, кошевой.
– А ты попробуй, – заводился Глоба. – Вот назови несколько имен украинских женских и одно немецкое.
Кошка и в самом деле была домашней, без церемонии на колени уселась Калнишевскому и удовлетворенно замурлыкала.
– Пелагея, Мокрина, Горпина, Надежда, – поддался на удочку писаря кошевой и потихоньку гладил кошку, что с видимым наслаждением выгибалась. – Маруся, Степанида, Текля, Ангельт-Цербская…
При последнем слове кошка вдруг дико заверезжала, подскочила вверх, словно обожженная, оглянулась вокруг взглядом, в котором даже искры шипели, а тогда метнулась по комнате, чем-то невероятно напуганная, молнией из угла в угол металась с нахохлившейся шерстью и несмолкающим криком, наконец, прыгнула на стол, перебрасывая кушанья, а тогда просто ринулась в окно – стекло из окна загремело и посыпалось по сторонам.
– Говорил же тебе, что знает немецкий, – почесал затылок хозяин, посматривая на непредвиденные кошачьи убытки.
Кошевой только глаза недоуменно уставил.
– Да не говорит она по-немецки, – пожалел гостя Глоба. – А вот колбасу слышит за три версты. Поймал ее на злодействе джура, отмолотил, как сноп, приговаривая "Фредерика", "Августа", "Ангельт", "Цербская", – вот и подумала кошка, что и сейчас ее будут бутузить…
Хозяйки, ворча и смеясь, накрывали заново на стол, джура с виноватым лицом рядном заслонял окно, а между тем прибыл гонец с почтой.
– Оба письма из Крыма, – Глоба взялся читать и объяснять, время от времени умолкая, пока разбирал написанное. – Эта грамота ханская. Пишет Крим-Гирей, что может вернуть нам чумаков и казаков, которых в ясырь завела недоля. Но выкуп поставил, как за родную тещу. А второе письмо от приближенного к хану, пишет, что может нам просто так помогать, если вместо Петербурга лицом станем к Бахчисараю.
Долго всматривался кошевой с Глобой, чуть ли не внюхивались в эту писанину, обдумывая каждое слово.
– Какие-то неодинаковые они, как будто бы и одним языком писанные, но говор разный, – кривил губы и зачем-то даже облизывался военный писарь. – Что-то мне здесь не нравится.
– Мне тоже кажется – какое-то шило в этом мешке слов таится, сверху не видно, а руку колет, – кошевой помрачнел.
Крутили-вертели мужчины, уже и на столе остыло, пока всё сообща не истолковали.
– Отсылай второе письмо в Петербург. Но от нас словцо добавить следует, какие мы дружелюбные и добрые, верой и правдой служим императрице, – сказал в конце кошевой. – А как наших людей из неволи освободить, я уже придумал.
23
В тот день митрополит Арсений мыл полы, ползал на четвереньках весь день, пока стало постреливать нестерпимо в спине и только вечером немного отпустило, словно с закатом солнца боль и себе отправилась на отдых.
-Вот если бы Бог даровал человеку крыла, то полетел бы в далекие края, где нет несправедливости, человеческой злобы, где правда торжествует и совесть на троне, – говорил за ужином монах Феофилакт, вечный мечтатель, ребенок по натуре, хотя у этого ребенка вся борода уже в инее.
-Хватит, Феофилакт, и так раньше всех петухов нас будишь, – намекнули ему на привычку просыпаться рано и начинать возиться, хлопотать и будить своим шатанием всех.
– А правда, владыка, хорошо было бы: допек нам, скажем, наш унтер-пьяница, а я бы поднялся под тучи и полетел куда-то, где нет унтеров при монастырях, где только Божья любовь всех охраняет.
Митрополиту и откликаться не очень хотелось, ныли еще руки от дневной работы, и на Феофилакта с его детской болтовней почему-то никто не сердился, и невозможно просто рассердиться, даже грех было гневаться на этого добросердечного чудака, который с каждым последней крошкой поделится и каждому хотя бы чем-то будет стараться подсобить.
– А мне таки выпало видеть человека-птицу, – ответил митрополит.
До сих пор на болтовню Феофилакта внимание не очень обращали, ужинали, уставшие, да и только, а здесь все, как будто сговорились, повернули головы.
– То было еще в Ростове, – отложил ложку митрополит. – Один крестьянин, хорошо помню, звали его Евсей, весьма способный был ко всякому ремеслу человек: и плотник искусный, и сапожник ловкий – все в его руках горело. Так вот, вбил он себе в голову, что крылья смастерить сумеет, летать на тех крыльях сможет. Но крылья нужно делать слюдяные, стоят они немало.
И митрополит рассказал, как оббивал человек разные казенные пороги, выпрашивая ссуду, умалчивая, на какое непредвиденное дело она ему нужна. Наконец, таки разжился деньгами, сделал слюдяные крылья. Разного люда собралось посмотреть, как будет летать тот Евсей, что не протолкнуться. Разбежался сначала, взмахнул он раз крыльями, во второй раз, действительно, поднялся сажен на три, а тогда как грохнется наземь. Не умер, конечно, от того, так себе, лишь синяков набрался и ребро одно, вроде бы, поломал. Но хуже боли допек ему люд казенный.

