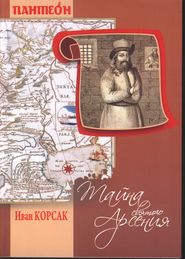 Полная версия
Полная версияТайна Святого Арсения
– Мой славный предшественник Петр I, – обернулась опять лицом к банкиру, – почти три четверти казны тратил на войны. И что? В памяти благодарных россиян он остается Петром Великим. Поэтому и мне, наверное, к такой доле расходов тянуться нужно.
– Чем больше цель, тем большая в деньгах потребность, – не стал умничать Судерланд – у него зуб разболелся, но роскошь, хотя бы сделать гримасу, несвоевременна.
– Я ни с кем из придворных не могу, а когда и боюсь, поделиться мыслями, потому что кто-то их обязательно переиначит и ошибочно истолкует, – Императрице почему-то хотелось поделиться передуманным, словно оно там барахталось и возилось, и все просилось в мир широкий. – Что останется после человека, когда он уйдет?
Она посмотрела на банкира так, будто именно он единственный в мире знал ответ.
– Не зна-а-ю, – протяжно пропел удивлённый Судерланд. – Мне и в этой жизни заморочек хватает.
– Что осталось от персидского царя Дария? Или от Александра Македонского? Или от обладателя всех миров Чингисхана? – прижимала она, как будто на допросе, и банкир обязан был дать точный ответ. – Где построенные ими города, любовно возведенные дворцы? Нет их. Где положенные ими дороги? Есть лишь невероятное число сложивших головы чужих и своих воинов. Но их имена – и Дария, и Александра Македонского, и Чингисхана плывут горделиво над веками, как эти тучи над весенним Петербургом. Я вам скажу, что остается после великих в мировой истории: остается миф. Это невероятное для меня самой открытие… Миф, что-то такое эфемерное, бесплотное, нематериальное, лишь миф способен победить непостижимое течение веков. Время и войны разрушат дворцы и города, исчезнут народы, из карт политических пропадут государства, а миф Чингисхана, Александра Македонского и Дария останется навеки.
– А я не знаю цену, по чём мифы теперь на рынке покупаются… И можно ли приобрести их за деньги? – В Судерланда даже зуб перестал болеть.
– Деньги нужны, и еще, и много, – совсем на иронию не обиделась императрица. – Если судьба забросила меня в эту страну, то должна воспользоваться случаем… Я должна быть большей россиянкой, чем сами россияне, должна расширить границы моей империи. А это кое-что стоит… Из этой до сих пор грязной страны пьяниц, воров и попрошаек, из недавнего улуса отдаленной провинции Чингисхана, обязана вытворить миф великой России – и через века вспомнят, кто снискал это величие. Я построю, конечно, также дворцы, но не уверена, что войны и время их уберегут. А миф о великой России и ее императрице будет крепче всех тюрем…
– Замысел достоин вашего императорского величества, – Судерланд не мог скрыть сомнения. – Но прошлое уже на пергаментах разных нацарапали летописцы, да и сегодня, извините, не все в России такое радужное, так как люд простой не везде роскошествует.
– Глупости, банкир, – устало ответила императрица. – Мои льстивые царедворцы думают, что не знаю, как в голодные зимы крестьяне едят желуди, болотную траву и солому, спят в грязи вместе со скотом, а помещики из крепостных девушек создали гаремы. Но это, поверьте, забудется, останется лишь величие. Благодарные потомки будут ставить мне памятники – горделиво буду подниматься на высоком постаменте, а где-то там внизу разместятся славные мужи империи, мои помощники, мои фавориты, скульпторы, уже сами разберутся, кого изобразить и в какой позе… Прошлое отредактируем как надо, что бы там летописцы, очевидцы, философы, военные и государственные деятели не рассказывали. Наведём порядок со всеми летописцами – мы перепишем историю России, настоящие пергаменты пойдут в огонь, зато останутся из них правильные списки. Вся историческая документалистика будет тщательным образом почищена, начиная с Нестора-летописца и до более близких времен, все должно отвечать великому мифу, что-нибудь иное станет невозможно доказать. Не только чужая земля, но и ее история, будет героической историей России.
– Я, думаю, договорюсь с банкирскими домами Голландии, – величие замыслов Судерланд переводил как будто из одного языка на другой, на свои финансовые ходы.
Императрица же прикидывала, какую сумму она должна назвать банкиру. Нелегкой была ноша военных расходов, но и здесь хватало кому давать. Отдельно, не для чужих глаз, вела записи подарков тем, кто давал ей утешение в опочивальне, кто мог приголубить и заставить забыться от тяжелых трудов на троне. От Орлова, как остыл, откупилась малостью: сто тысяч рублей на достройку его дома, право на год пользоваться винными погребами и экипажами царского двора, оставила все предварительно подаренные поместья и еще сто пятьдесят тысяч ежегодного пенсиона. Зоричу даровала город, Васильчикову – пятьдесят тысяч, серебряный сервиз, дом на Миллионной да еще село, Ермолову – сто тридцать тысяч и еще четыре тысячи душ крепостных, Потемкину сегодня – очередных сто тысяч… А еще просители отовсюду, вон из Киево-Могилянской академии вчера для профессоров просили – для них тринадцать копеек в день как раз. А Судерланд пусть не ленится шевелить мозгами – банкир милый все-таки человек, вон собачку какую ей прехорошенькую подарил. Он таки постарается, если быстрый умом, хорошие отношения поддерживать с ней. Расходы – это замысловатая вещь весьма, они растут, как на дрожжах. Как-то она не поленилась и с немецкой пунктуальностью взялась считать в целом, суммарно подаренное лишь любовникам, кроме упомянутых текущих расходов. Братья Орловы получили семнадцать миллионов рублей, Высоцкий не стоил больше трехсот тысяч, зато Васильчиков – один миллион сто тысяч, Завадовский – миллион триста восемьдесят, Зорич большую утеху приносил – миллион четыреста двадцать, Корсаков успел лишь на девятьсот двадцать тысяч затянуть, Ланской, милый ребенок, ей и сейчас не жаль семи миллионов двести шестьдесят тысяч, Ермолову хватало пятьсот пятьдесят тысяч, Мамонов, зверюга самый настоящий в постели, стоил миллион восемьсот восемьдесят тысяч, а над ними возвышались братья Зубовы с тремя с половиной миллионами. Конечно, никто не сравняется из них с Потемкиным: пятьдесят миллионов – это без дворцов, драгоценностей и посуды, без крепостных душ. А тех душ Орловы получили где-то до пятидесяти тысяч, Васильчиков – только семь, Завадовский – шесть тысяч в Малороссии и две в Польше, Корсакову подарены четыре тысячи польских душ. Всех она точно не могла посчитать, потому что деньги нужно одалживать и отдавать, а души бесплатны, сами себе плодятся.
– И еще буду благодарна за совет: сколько можно дополнительно выпускать бумажных ассигнаций и не будет ли казначейству хлопотно, если налоги люд России будет платить бумажными ассигнациями, а Белая Русь и Малороссия – настоящими серебряными рублями?
Судерланд был хорошо осведомлен в здешних финансах, долгах внешних и внутренних, иначе ему было бы ничего делать в этой стране. Вал бумажных ассигнаций, внедренных Екатериной ІІ, нарастал, и они обесценивались – вопрос лишь предела этого вала. Платить налоги люду России бумажными деньгами, а Белой Руси и Малороссии серебром – значило сделать в этих землях бремя чуть ли не впятеро больше – за серебряный рубль уже ходили двадцать два бумажных. Об этом никто вслух не говорил, но Судерланд прекрасно понимал, что, кроме возложения на Малороссию и Белую Русь впятеро больше ноши, у замысла императрицы будут весьма далекие последствия. Вода течет из горы вниз, так и потекут деньги – купцы и заводчики не будут вкладывать кровные в земли, где налоговая гора, золото и серебро, будет течь в долину – упадок этих двух земель увидят лишь с годами. Да и цены от бумажного вала бегут наперерез – когда вступала императрица на трон, то хлеб стоил в семь с лишним раз дешевле, с девяноста шести копеек за четверть ржи стал семь рублей, попробуй, проживи человеку. Но это не Судерланда головная боль.
– Ваше императорское величество, насколько я осведомлен, долги России уже втрое превысили годовой доход казны. Поэтому у меня есть совет, чтобы печатные станки деньги не так быстро клепали… Воля ваша делать разные налоги в разных землях, но не вызовет ли это недовольство, тем более, бунт?
– На эту болезнь у меня есть знатные врачи – Михельсон, Суворов, поэтому вылечат.
На следующий день, подскакивая на весенних выбоинах и разбрызгивая грязь, карета Судерланда мчала в нидерландские края, верста за верстой оставляя за спиной это загадочное, обычным умом не понятое государство.
16
Калнишевскому из Мациевичем не суждено было больше встретиться, но тогдашний разговор не раз приходил в голову Петру. Вспомнилось ему, и как возвращался из коронации в Украину.
– Что же оно будет, владыка? – спрашивал Калнишевский у митрополита. Двое пожилых людей, которым пошёл седьмой десяток, один седой, а второй облысевший, говорили тихо, чтобы их беседа чужим ушам не досталась. – Нет большого добра в Украине, да и здесь воздух мне не по вкусу…
Калнишевский вдохнул носом так, словно тот воздух, который неизвестно чем пах, как раз был его главной заботой.
– Светлые пасхальные дни, казалось бы, доброта и умиротворение на душу лечь должны были, и хорошее слово… Ан нет, идет вчера мне навстречу мужик, пьяный в стельку, спотыкаясь и падая, кричит через улицу, увидев знакомого:
– Христос воскрес …твою мать!
Я даже перекрестился, – и Калнишевский положил на себя крест, словно эта картина как раз была перед глазами.
– Не знаю, Петр, – митрополиту вспомнились другие горькие случаи, потому что не засиживался на месте, объездил немало приходов ростовской и ярославской земли. – Бог наказал за что-то Россию…
– А у нас говорят, что это царевич Алексей проклял сыноубийцу Петра 1 и, умирая, пророчил: "Из-за тебя Бог накажет всю Россию".
– Кто знает, может, и упало проклятие на землю эту из-за того, что сына отправил в могилу, а в исповеди вместо "Веруешь ли?" заменил на "Пьешь ли?" – Арсений передохнул, нехитрым было здоровье, сибирские путешествия до сих пор давали себя знать. – И, думаю, не на одном лишь выродке-императоре вина… Ответственны перед Господом и этим людом все те, кого называют "цветом", – образованные, сановные, ученые мужи, душпастыри. Потому что это из-за их тихого согласия, нередко подленькой выгоды, народ спаивают, за скот держат. Мало того, народу объясняют, что он самый лучший и самый храбрый, не к ремеслу его и плугу готовят, а к разбою и войнам. А дальше все просто: у соседа дом белый и яств в том доме полно, он бессердечен, хотя и нажил мозолями, но не делится с тем, что в шинке гулял; иди, говорят тому люду, забери все, что в белом доме, оно такое же и твое… Еще и душпастыря заставят благословить разбой. И нет никого среди того "цвета", ни среди придворных, ни среди ученых мужей, чтобы разбой назвал разбоем, а голодному люду объяснил: тебе достанутся крошки, добытое же в разбоях и войнах достанется ненасытному сановитому. Так ограбив один чужой дом, натравят на новый, и повторяется это без конца…
– Не может так бесконечно продолжаться.
– И не хотелось бы… Но в этом человеческом котле учиниться способно еще худшее. Именно время прийти новому Чингисхану, не важно – в штанах он будет или в юбке, и поведет он тогда разрушенный вдребезги народ, голодный и озверевший люд, куда перстом укажет. И народ поверит этому Чингисхану, даже будет воспевать его, монументы-памятники возводить. Эта имперская чума зависти и разбоя страшнее самой чумы, потому что заразная болезнь такая не погибает ни в мороз, ни на солнце, и как уберет Господь Чингисхана, то придет еще какой-нибудь там Батый, и все пойдет на круги своя…
– Что же нам делать, владыка? Неужели Батыя ожидать?
Калнишевский заглушал неожиданное раздражение, и ему это плохо удавалось. "Хорошо митрополиту рассуждать со своей неблизкой кафедры, – подумал с сердцем. – Член Синода, самой императрице может поперек слово сказать… Попробовал бы на моем месте: с одной стороны полыхает пламя над жилищами от татарских набегов, с другой – Польша криво поглядывает, с третьей – русский сановник жадной лапой тянется, еще и люд неизвестно из каких краев, как в мокрое лето тучами комарьё, обседает".
– Хорошо там, Петр, где нас нет, – рассмеялся митрополит, и Калнишевский не заметил даже, что отвечал он на невымолвленное вслух. – А делать… Молиться и просить Божьего благословления. А еще хозяйничать. Всевышний даровал казацкому люду благодатную землю, то неужели ожидаете, что он по почте пришлет распоряжение облагородить ее, чтобы вместо ковыля рожь-пшеница шумели? Бог скрижали дарует не каждый день… Или ждете, пока людность, которая счастья не имела и не умела получить на своей земле, заселится на твоей?
По дороге домой много передумал Калнишевский, взвешивал сказанное ежистым митрополитом, сначала сердился в уме на него, а когда остыл, то стал рассуждать, что, действительно, нужно не упустить время на хозяйство. Среди самой запорожской братии есть желающие, уставшие от походов, наконец, жениться – чего же им не помочь завести свои хутора? Даже есть неженатые, которые охотно будут копаться в земле. Зимовья завести на реке Самаре, пусть сажают себе садики, вокруг ульев хлопочутся. Из полтысячи таких зимовьев учредиться может. И крестьяне из Гетманщины, Слобожанщины пусть селятся, даже беглецам из польской Украины не следует запрещать. Здесь им не накинут непосильные налоги и другие повинности. Сечевых казаков сейчас далеко за десять тысяч, а вместе с теми, что в палатках, то и до двадцати наберется. А еще парочка-вторая тысяч женатых казаков, которые живут на своих зимовьях и слободах. Крестьянского люда, наверное, тысяч сто пятьдесят, а всего в Запорожских Вольностях, наверное, таки двести наберется – это же какая сила… Будет, кому землю свою приукрасить.
Качалась-покачивалась карета в неблизкой дороге, смотрел Калнишевский на поля и перелески за окном, и словно их не замечал – все хотелось заглянуть наперед, через годы, все хотелось увидеть, как сады зашумят, и ульи озабоченно будут гудеть.
Но расхозяйничаться ему тогда не пришлось. Ведь дома его ожидали не ульи – гудел старшинский совет.
– Должен сложить булаву, Петр. Не понравился ты почему-то Екатерине, – опускали глаза старшины. – Хороший ты мужчина, и атаман славный. Но несвоевременно гневить императрицу.
Молча положил булаву Калнишевский. Хотелось было спросить: почему же тревожили меня, старого, когда голод подступал к Сечи, а теперь уже не нужен? Но не сказал, только поблагодарил и поклонился во все стороны.
17
На Шлиссельбургскую крепость наплывали туманы. Они зарождались над водой, окутывали берега, окутывали каменные крепости, а уже до полуночи туманы совсем сгустились – фонари на стенах сквозь эту серую вязкую мглу казались лишь желтыми крапинками с лёгенькими нимбами. Караул обходил с факелами, но толку от них немного было, потому что уже за три шага ничего уже было не видно, быстрее помогала перекличка охраны.
"Как раз, – подумал подпоручик Мирович, который дежурил караульным офицером. – Как раз время, его звездное время начинать великое дело. Даже природа в помощь".
Он долго хлопотал и таки добился, хоть в один момент и не без высокой помощи, своего назначения в Шлиссельбургскую крепость. Он, простой подпоручик Василий Яковлевич Мирович, должен этой ночью сделать великое дело, благодарность за которое сразу двух народов, – освободить наследника русского престола, который был императором еще с младенчества, Ивана Антоновича, так же заслужит благодарные слова из прадедовской, такой неблизкой отсюда его земли. Лодка готова отвезти наследника в безопасное место.
Бьют часы второй час ночи, туман не развеялся, разве что стал гуще.
– К оружию! – голос Мировича то ли из-за волнения, то ли из-за сырой погоды какой-то хриплый.
Топот солдатских ног, призрачное мигание факелов. У него под командой немного, лишь тридцать восемь штыков, да и этого храброму хватит.
– Заряжай! – голос подпоручика твердеет.
Сонный подполковник, командир тюремщиков, выскочил в нижнем белье.
– Кто дал право объявить тревогу?
Его отталкивают, так что летит кувырком. Мирович быстро, глотая иногда слова, зачитывает манифест об освобождении.
Тюремная охрана от начального беспорядка пришла в себя, уже отстреливается, но напрасно в тумане попасть.
Мирович дает своим солдатам новую команду:
– Стрелять поверх голов!
Тюремщики дальше оказывают сопротивление, и тогда выкатывается пушка, спешно подносятся ядра и порох.
– Заряжай!
Как вдруг со стороны тюремной охраны:
– Не стреляйте! Сдаёмся!
Из тумана, как из мутной воды, выплывает силуэт капитана Власьева, направляется к Мировичу.
– Пошли со мной, подпоручик, – Мирович направился за капитаном.
"Неужели все так просто? – невероятное удивление заменяло в душе его недавнее волнение. – Неужели такое великое дело можно так быстро решить? И ни одного погибшего солдата!".
Их твердые шаги сырым полом крепости, которые вторили вначале, глушит топот солдат, что и себе направились за офицерами. "Неужели это возможно в мире – так просто? – У Мировича от удивления тело похолодело больше, чем от предрассветной сырости. – И лодка, где сильные гребцы уже наготове, повезет, наконец, ни в чём не повинного пленника?".
Наконец Власьев остановился около покрытой плесенью и грибком, грубой работы двери.
– Здесь, – только и сказал, вынул свечу и зажег.
Власьев, Мирович и еще один офицер из тюремной охраны Чекин.
В пустой камере ни души, какие-то лохмотья, что определенно назывались одеждой, развешаны на стене, стол и кровать, скамья…
– А где же… где Иван Антонович? – поднимает Мирович медленно взгляд на Власьева.
И здесь в мерцающем свете подслеповатого пламени, он замечает что-то на полу, нагибается разглядеть, хватает руку капитана со свечой, пригибая ее ниже.
Мужчина, который лежал на каменном полу, уже не двигался, шея вся в крови, и лужа ее расплывалась, мужчина лежал как-то полускорчась: или защищался еще перед смертным часом, или судороги последние так тело свели.
– Вы? – обернулся Мирович к Власьеву и Чекину. – Вы убийцы?
Свой голос Мирович, теперь уже спокойный, какой-то даже будничный, поручик сам не узнал.
В тиши, наступившей внезапно, громко хлопнув, только капля влаги с потолка упала.
– У нас присяга, – шмыгнул носом, словно школьник, и попятился Чекин. – Мы выполнили долг.
Теперь все, что происходило в голове Мировича, было в такой же мгле, которая наверху укутывала всю крепость. Солдаты вынесли тело покойного бывшего императора на плац, молча выстроились.
Светало, солнце сквозь мглу не способно было никак пробиться, только на фоне просветлевшего неба уже вырисовывались контуры казематов.
– Оружие на караул!
Шорох одежды, заученные движения, до подсознания, как у механических каких-то игрушек.
– Последние почести императору – залп!
Выстрелы прозвучали почти в одно и тоже время, как раскатистый гром, тот гром заметался плацем, наконец, преодолел его тесноту, вырвался за крепость и покатился над рекой, ложбинами, катился и перекликался сам с собой.
– Вы арестованы, – шагнул к Мировичу теперь уже по форме одетый комендант тюремной охраны. – Ваше оружие, подпоручик. И вы, Власьев и Чекин, арестованы также. Надеть им всем наручники.
18
Булава кошевого в руку Калнишевского вернулась неожиданно – перевыборы свалились как белый снег на белую и без того уже его голову.
– Калнишевского кошевым!
– Кумекает, согласны!
Он стал общество совестить:
– Зачем же, братья, старца одного менять на другого?
Нечего и слушать: гудели казаки, выкрикивали отрицательно, гоготали, как растревоженные гуси.
Тогда взялся за более веские резоны.
– Нельзя делать такое без рескрипта императрицы. Нехорошо из-за булавы ссориться. Да и время для этого не самое лучшее.
– А мы без налыгача чьего-то обойдемся! Сколько уже нас, как слепых тварей, кто-то чужой будет водить…
– Побойтесь Бога, есть из своих кого выбирать!
– Калныша! Не пренебрегай нами, Петр!
Лучше было бы тихо кости выгревать на завалине, заработали эти кости на покой, выходили мирами и выездили, но так уже гоготало братство, что, наконец, покорился.
Одним днем промелькнули первые годы. И взялся кошевой, в первую очередь, за то, о чем говорил из Мациевичем, о чем советовался и за что сердился – за хозяйство. Груши и яблони поднимались в садах на новых хуторах, разрастались, блеяла и мекала живность на тех подворьях; со временем уже не хуторами, а целехонькими слободами облагалась земля.
А когда новые тучи стали зависать над Сечью, пригласил в гости к себе военного писаря Глобу и есаула Головатого – рождественские праздники еще продолжались, щедровальники из порога не сходили.
Как поужинали и выпили по рюмке, позвал колокольчиком кошевой джуру.
– Никого не пускать!
А тогда вынул бумагу, перо с чернилами и положил перед Глобой:
– Пиши!
Мало какая оказия в государственных делах случается, в календари она не всегда заглядывает, поэтому Глоба уселся удобнее и макнул перо.
– Что писать, Петр?
– Пиши донос на меня императрице.
Глоба даже голову наклонил и прищурился, словно собрался нить в маленькое ушко иглы втянуть.
– Петр, но мы же только по одной рюмке выпили.
– Пиши, пиши. А если думаешь, что я один в доносе буду скучать, то и себя добавляй, и Павла за компанию.
Глоба все еще прищуренно поглядывал, будто целил в ту невидимую иглу, и понемногу стал понимать, куда кошевой клонит.
– Пиши, Иван, донос, что кошевой Калнишевский вместе с таким же негодяем военным писарем Глобой и есаулом Головастым злое дело собираются совершить. Если в ближайшее время в споре Запорожского Коша и России за пограничные земли императрица ослушается казаков, то кошевой собрался к крымскому хану послать депутацию. Выберут, мол, человек двадцать таких же, как здесь указаны парсуны, и будут просить там принять их под хана протекцию. И подпиши "Павел Савицкий", с ним я уже тихонько вчера договорился.
Головастый только за ухом почесал:
– Петр, а не случится пересол? Сибирский мороз немножко больше нашего, – ткнул пальцем в оконное стекло с вычурными узорами, что папоротниками сказочными расцветали.
– Братья, я стар, мне уже бояться поздно. А вы решайте, не принуждаю, чье имя можно еще вычеркнуть – бумаги у меня достаточно переписать.
– За кого нас принимаешь, – буркнул Глоба и поглядел на Головастого, тот лишь головой крутнул.
– Петр, а ты хорошо все обдумал? Не поверят, скажем, и на невинного человека беду накличем?
– Нет, Павел, после Искры и Кочубея, казненных, на их взгляд, напрасно, за топор палача сегодня не станут хвататься.

