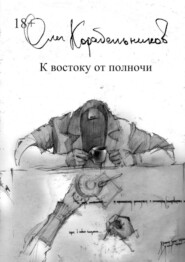
Полная версия:
К востоку от полночи
– Ну да, до поры, до времени, пока любовь жива. А потом? Ведь недаром есть и первая любовь, и последняя, и между ними сколько! Семья как раз и убивает ее, человек тянется к новой любви, ан нет, закон не позволяет, мораль, оставленная нам христианством, запрещает. Вот и трагедии: измены, ревность, драки.
– Ну и что же, приспела пора возвращаться к групповой семье?
– Да мы и так возвращаемся, но на более высоком уровне. И здесь движение по спирали.
– Развращаемся, – усмехнулся Оленев. – Эх ты, стареющий певец сексуальной революции. В твои годы пора и о душе задуматься, а ты как юнец безусый. Еще теорию стакана воды вспомни. Да было все это, а семья все равно осталась. А все эти теории радости тела, любви, разлитой поровну, свободы тела и духа и прочие, прочие, разваливаются и рассыпаются. К чему бы это?
– К тому, что мы с тобой засиделись в столовой, – проворчал Чумаков, сгребая тарелки.
Кончился рабочий день, началось дежурство. Он любил эти первые часы, когда в больнице затихал шум голосов и шагов, больные укладывались спать, и он сам тоже мог, наконец, расслабиться, свободно покурить, а то и подремать в кресле.
Тоненькой струйкой текла вода из незакрытого крана, она ударялась в раковину и наполняла ординаторскую стеклянным звоном. Чумаков сидел в кресле, подходить к умывальнику не хотелось, и он, воспитывая терпеливость, старался не раздражаться, а представить что-нибудь лесное, родниковое, бьющее из-под влажной земли и текущее по вымытым добела камням.
Закрыв глаза, он представлял себе летний лес, пытался вспомнить звуки и запахи июля, но это не удавалось, в середине зимы лето забылось, и не верилось в жару и гул шмелей над венчиками цветов. Звук льющейся воды все равно оставался городским, водопроводным, и мнились ржавый железный кран, выходящий из бетонной стены дома, грязная лужа на асфальте, пустые бутылки, стоящие в ряд, и сгорбленный старик, неторопливо моющий их одну за другой.
10. Дедушка
Каждый раз, возвращаясь домой, Чумаков видел этого старика, то моющего бутылки у крана, то сидящего на ящиках у посудного ларька в терпеливой очереди. Каждый раз он узнавал его лицо, обрамленное длинной седой бородой, старый солдатский бушлат, стоптанные сапоги, вспоминал предыдущие встречи и ощущал стыд. Чумакову было стыдно, что он сам молодой и здоровый, обеспеченный жильем, одеждой, его положение врача престижно, и он может без страха заглядывать в будущее, зная, что впереди его ждет спокойная старость, пусть одинокая, но не такая вот, сиротская и безнадежная. Он успокаивал себя придуманными историями, мол, есть у старика и жилье, и заботливые дети, и румяные внуки, но он просто опустился, спился, ему вечно не хватает на вечернюю бутылку портвейна, и что ни говори, он сам виноват во всем. Но старик не походил на горького пьяницу; специально удлиняя дорогу, Чумаков проходил рядом с ним, заглядывал мельком в лицо и с раскаянием убеждался, что предположения его ложны и придуманы лишь для того, чтобы успокоить вечно ноющую, неизлечимую больную совесть.
«Перестань, – говорил он своей совести, поднимаясь на третий этаж, – перестань изводить меня своими фантазиями. Я не могу спасти всех, у меня не хватит сил, чтобы утешить плачущих и оделить обиженных. Их слишком много, несчастных и одиноких, больных и скорбящих. Разве я не посвятил свою жизнь избавлению людей от болезней, разве этого мало?» – «Мало, – ныла совесть плаксивым голосом, – в больнице твоя работа, ты за нее деньги получаешь, все равно ты больше ничего не умеешь, только скальпелем размахивать, да клизмы назначать. Ты негодяй, Чумаков, ты проходишь мимо человеческого горя, ты, сытый и чистый, закрываешь свои подлые глаза, фарисействуешь, лицемеришь передо мной, а я тебя насквозь вижу, я тебя с детства знаю, тебе нет дела до чужого горя».
Чумаков скрипел зубами, вяло оправдывался, но покой не приходил и совесть не умолкала. «Я же помогаю людям, – говорил ей Чумаков. – У меня постоянно кто-нибудь живет, я кормлю, пою и одеваю чужих мне людей. Я трачу на них все деньги, мне самому ничего не надо. Ну почему ты у меня такая сварливая? У всех людей совесть как совесть, а ты пилишь и пилишь целыми днями. Слушай, когда-нибудь я потеряю терпение и вырежу тебя напрочь. Надоела!» – «Рука не поднимается, костоправ чертов! – кричала совесть. – Гордыня обуяла! Делаешь добра на грамм, а хвалишься на пуд! Видеть не могу твои бесстыжие глаза!» – «Ох, – жаловался Чумаков. – Доведешь ты меня до инфаркта». – «И доведу, – безжалостно грозила совесть, – я тебя в гроб сведу. Я тебе за все отомщу. Загубил меня, в грязи вывалял, отравил мои юные светлые годы». – «Чтоб тебя! – стонал Чумаков, ворочаясь в постели. – Специально не женюсь, чтобы избежать женских упреков и криков, а ты заменяешь мне и жену, и тещу, чертова баба!» – «Подойди к дедушке, – требовала совесть, – узнай, чем ему можно помочь. Он такой старенький, у него такие добрые глаза, он, наверное, ночует на стройках, мерзнет и голодает, дети из дома выгнали, внуки камнями забросали, он, бедненький, бутылки собирает, чтобы прокормиться, а у тебя морда лоснится от сытости и спишь в мягкой постели!» – «Ну ладно, ладно, – сдавался Чумаков, – подойду, спрошу, только оставь меня в покое».
Он давно бы подошел к старику, но мешала стеснительность, было неудобно вторгаться в чужую жизнь без приглашения, он боялся обидеть незнакомого человека и все придумывал способы, приемлемые для знакомства.
Однажды Чумаков специально купил пару бутылок пива, сел неподалеку от старика, торопливо выпил одну и аккуратно поставил на видное место. Старик словно не замечал приманки, он сидел на ящике, щурился на солнце, шевелил губами, будто рассказывал что-то самому себе или молился. Чумаков покашлял и спросил:
– Дедушка, у вас закурить не найдется?
Старик отрицательно покачал головой и не сказал ни слова.
На большее фантазии у Чумакова не хватило, он не спеша допил вторую бутылку и позвенел ею для пущей наглядности. Старик даже не взглянул в его сторону. «Видишь, – сказал Чумаков своей совести, – я пытался, он сам не желает». – «Кто же так делает? – заканючила совесть. – Ты уязвляешь его гордость, хочешь купить за паршивые бутылки. Он человек, у него есть свое достоинство». – «И у меня есть, – возразил Чумаков, – как же я подойду без повода и заговорю о погоде?» – «У тебя вообще ничего нет! Ни добра, ни жалости, ни такта!» – «По крайней мере, меня нельзя назвать бессовестным, – ехидно заметил Чумаков, – ты-то у меня есть…»
На другой день он увидел старика, бродившего по газону и рвущего траву. Было раннее лето, зелень свежа, и пыль еще не осела на травах. Старик снял сапоги, босиком ходил по резным розеткам одуванчиков, срывал желтые цветки, подолгу всматривался в них, потом отбрасывал и снова искал что-то известное ему одному.
Чумаков остановился, закурил и, растягивая время, тоже сорвал одуванчик на длинном трубчатом стебельке. Белый млечный сок испачкал руку. Чумаков повертел цветок, понюхал, запах был тонкий и неуловимый.
– Красивый цветок, – сказал Чумаков. – Вроде бы и сорняк, а красивый.
На этом его познания в ботанике кончались.
– Это не цветок, – сказал старик хрипловатым голосом, – это прообраз Великого Яйца.
Чумаков чуть не прыснул в ладонь, как смешливая школьница, но вовремя проглотил смешок и спросил:
– Что за Яйцо, дедушка?
Старик распрямился, хмуро взглянул на Чумакова из-под косматых бровей.
– Великое Яйцо, из которого весь мир самосотворился. А это его прообраз, чтобы мы помнили и благоговели. Яйцо растеклось по времени, сперва желток, потом белок, медленный порыв ветра разносит животворное семя по Вселенной.
«Ну вот, – вздохнул про себя Чумаков, – старик еще и того».
– Да, – сказал он вслух, – действительно…
О чем еще говорить, он не знал, старик сам продолжил:
– А вот ты стопами попираешь шары световидные.
– Вы же сами ходите по газону, – возразил Чумаков.
– Я с почитанием и благоговением. Мне зачтется, из тебя вычтется. Не мни траву, ходи по асфальту.
– Бог накажет, что ли? – неуверенно предположил Чумаков.
– Какой еще бог, юноша! – равнодушно сказал старик, глядя на солнце. – Сам себе бог, сам себя и наказываешь.
– Это интересно, – сказал Чумаков, хотя интересно ему не было. – Но что же мы с вами на улице разговариваем? Давайте зайдем ко мне, попьем пивка, яичницей закусим. Тоже ведь символ, а?
«Ну что? – спросил он злорадно совесть, когда поднимался по лестнице впереди старика, несущего свой неизменный мешок. – Теперь твоя душенька довольна?» – «Возьми у него мешок, – слезливо сказала совесть, – Ты, бугай, идешь налегке, а он, бедняжка, еле тащится».
Ноши своей старик не отдал и в комнате, сев на стул, задвинул мешок под ноги, словно боялся, что его отнимут. Ел старик неторопливо, с достоинством, от пива отказался, на дым чумаковской сигареты покосился с неприязнью, отвечал, если спрашивали, сам вопросов не задавал, но незаметно, исподволь, получилось так, что Чумакову стало интересно беседовать с ним, ему нравилось лицо старика, его большие костистые руки, белая нечесаная борода, прикрывающая ворот рубахи, прозрачные голубые глаза. Если бы Чумаков был художником, то лучшей модели для изображения монаха-отшельника или раскольника трудно было пожелать. Чумаков так и спросил старика, не старообрядец ли он, вышедший из тайги. Старик отрицательно покачал головой и кратко сказал, что со всем этим христианством ничего общего не имеет.
Познания Чумакова в религии ограничивались немногими словами: бог, черт, ад, рай, поп, дьякон да еще адамово яблоко, и то последнее было больше из области анатомии. О существовании других религий и верований он помнил смутно. Уже позднее, рассказав Оленеву о словах старика, Чумаков узнал, что все эти теории собраны из различных восточных и шаманских верований, подчас очень древних, но с примесью современных идей, нахватанных, должно быть, из популярных журналов. Как Чумаков ни пытался, он не мог представить себе старика читающим журналы.
Его звали Ильей, фамилию он не назвал, сославшись на относительность всех прозвищ, а о себе рассказывал скупо: «Блуждал во тьме, набрел на свет, теперь очищаюсь». И добавлял что-нибудь о механизме очищения корпускул души с помощью квантов света. Единственным авторитетом для старика было солнце – источник света и тепла. Потом выяснилось, что он мог подолгу смотреть на солнце, сощурив глаза и шепча что-нибудь про себя, а лежа на диване, поворачивался лицом к лампочке и тоже смотрел невидящим взглядом на накаленную спираль. Иногда он одну за другой зажигал спички и, не боясь ожога, глядел, как догорают они, и при этом лицо его было умиротворенное и почти счастливое.
На предложение Чумакова умыться старик охотно согласился: оказалось, что мыться он любил и физическую чистоту ставил в связь с чистотой душевной.
Чумаков задержал его у себя, сославшись на интерес, вызванный рассказами, и получилось так, что дедушка остался сначала ночевать, а потом и жить в квартире Чумакова. Тот выделил ему спальню, сам переселился в большую комнату и, доверяя старику, разрешил полную свободу действий. Пете старик сразу не понравился, с присущей ему прямотой он спросил Чумакова:
– Это что за тип?
– Это дедушка, – мягко сказал Чумаков. – Ему негде жить, он пока поживет у нас, хорошо?
– Чей еще дедушка? – спросил Петя. – Твой, что ли?
– Нет, вообще дедушка, ничей. Он очень добрый и умный.
– Это ты у нас добрый, да не умный, – отрезал Петя. – Что ты знаешь о нем? Может, бродяга, может, вор, а ты перед ним распахнул двери. Документы спросил?
– Зачем мне его документы? И разве я у тебя спрашивал, где твой паспорт?
– Да у меня на лице написано, кто я такой, – сказал Петя, и это было чистой правдой.
В мешке у дедушки оказались пучки высушенных трав и жестянка с проволочной дужкой. В первый же вечер он попросил разрешения у Чумакова воспользоваться плитой, тот охотно согласился, и вскоре кухня наполнилась запахами поля и леса.
– Лечишься, дедушка? – спросил Чумаков, незаметно перейдя на «ты». – Что болит-то, скажи. Я врач, помогу, если надо.
– Есть одна болезнь у человеков, – ответил старик, – именуется погибелью тела, а все остальные – лишь дороги к ней. У кого короткая и легкая, у кого долгая и мучительная. Я же ищу лекарство не для облегчения пути, а для излечения от болезни.
– От смерти, что ли? – не понял Чумаков.
– Смерти нет, – отрезал старик. – Есть погибель тела.
– Но лекарство все равно спасет от этой погибели. Так, что ли? Эликсир бессмертия, выходит?
– Пилюля, – поправил старик, и Чумаков чуть не рассмеялся. До того смешным показалось ему это сочетание: «пилюля бессмертия». Чуть ли не «священный клистир».
– Это хорошо, – сказал он. – Это великая цель. И что-нибудь получается?
– Еще немного, – ответил старик. – Осталась последняя плавка. Девятая.
Позднее Оленев разъяснил Чумакову, что «пилюля бессмертия» – это термин даосизма, древней китайской философии. Употребляется также буддийской сектой «Желтое небо», тоже китайского происхождения.
– Странный у тебя дедушка, – хмыкнул Оленев, выслушав рассказ Чумакова. – Он не китаец?
– Да ты что! Истинно славянский тип.
– Тем более странно. Тут одно из двух: или он чрезвычайно начитан в специальной литературе о Востоке, или просто жил в Китае.
– Начитан! – воскликнул Чумаков. – Я вообще сомневаюсь, умеет ли он читать.
– А кто его знает, – только и сказал Оленев.
Допрос с пристрастием учинил дедушке Петя. Не обученный такту, он спросил прямо:
– Ты, дедуля, мне мозги не парь своей болтовней. Не на такого напал. В твои годы нормальные люди пенсию получают, внуков нянчат, а не шляются по помойкам. Где твой дом? Сидел, что ли? Так и скажи, что сидел, а теперь бичуешь. Давай я тебя устрою работать вахтером или ночным сторожем. Работенка непыльная, навар невелик, зато бутылки собирать не надо. А что, ты мужик крепкий, потянешь. Поди, нелегко по канавам ночевать?
Старик на вопросы отвечал уклончиво, а отвечая, поглядывал на Чумакова, словно ища защиты, Чумаков не выдержал жалобного взгляда и сказал Пете:
– Брось ты дедушку мучить. Нашел преступника, идиот. Пусть занимается своей пилюлей, сколько захочет. Небось, нелегкая жизнь была, а, дедушка?
– Всякая, – сказал старик. – Поиск труден, и сам путь кремнист и увит терниями. Век человека подобен пузырям на воде. Один лишь свет нетленен.
– Тьфу на тебя! – плюнул Петя, сатанея.
А старик делал благостное лицо и спокойно продолжал:
– У трех миров – единое тело, у десяти тысяч видов – единая истина, у девяти оборотов – единая природа. Прошедшее, настоящее и будущее – три предела одного рождения. Восемнадцать миров опустеют. Будет изначальное единое тело…
– Да что его слушать! – вскричал Петя, вскакивая. – Он же чокнутый! Или притворяется чокнутым! Во наплел! А ты и уши развесил. Гони его взашей, пока дом не спалил, а то я сам в психушку позвоню.
На другой день дедушка исчез из дома. «Эх ты!» – коротко упрекнул Чумаков Петю и пошел на поиски. Искал он недолго. Старик сидел на своем любимом ящике и предавался созерцанию. На маленьком костерке, разожженном из щепок, кипела жестянка с водой, старик смотрел на солнце, и лицо его было спокойно.
– Пойдем домой, дедушка, – сказал Чумаков.
Он не ожидал, что старик так легко и просто согласится. Он был готов к уговорам и припас немало слов. Они не понадобились, старик коротко взглянул на Чумакова, залил костерок водой и взял мешок наизготовку.
– Живи у меня, сколько захочешь, – сказал Чумаков. – Вари свою пилюлю, говори, что угодно, мойся хоть по десять раз в день, но только не позорь свои седины, не собирай бутылки. Не хочешь рассказывать о прошлом, не рассказывай. Это твое личное дело, я сам в душу к тебе лезть не буду и другим запрещу. А на Петю не обижайся, он добрый и очень честный, только прямой слишком. Это бывает по молодости, сам ведь знаешь, а?
Старик молча шел за Чумаковым, сапоги стучали по асфальту, в мешке шуршали травы, звенели бутылки, посапывали во сне новорожденные дракончики, великая мечта о бессмертии медленно приобретала форму большой розовой пилюли, хоть и подслащенной, но горькой на вкус…
Так и осталось непонятным, где жил старик до Чумакова, откуда пришел в этот город, что искал здесь, на что надеялся и как собирался жить дальше. А Чумаков постепенно привык к нему, к его непонятным речам, к тихой возне у плиты, к запахам трав и бульканью отваров, к шарканью босых ног по полу и утренним омовениям, к его странным поступкам и ночному бормотанью у окна, когда луна светит и звезды почти не мерцают.
«Блаженненький», – называл старика Петя, но допросы свои прекратил и, как прежде, отдавал всю получку в общую кассу. Впрочем, своего отношения к дедушке не изменил, считал его тунеядцем, и время от времени предлагал Чумакову то объявить розыск родных старика, то подыскать ему подходящую работу, то запретить опасные опыты на кухне, от которых все они взлетят на воздух или когда-нибудь отравятся долгожданной пилюлей.
Девятая плавка пилюли явно застопорилась. Старик досаждал Чумакову странными просьбами: достать чистой киновари и ляпис-лазури, или купить нефритовую чашу, без которой невозможно «покорение дракона и тигра», или разыскать три цветка с восемью лепестками, названий которых он не знал. Никакими записями старик не пользовался, и Чумаков не знал, чему удивляться больше – то ли причудливой фантазии старика, то ли его необъятной памяти, но, в общем-то, не будучи психиатром, решил про себя, что тот явно болен не слишком опасной для окружающих болезнью, или, попросту говоря, выжил из ума. Это нисколько не охлаждало теплого отношения Чумакова к дедушке, напротив – он старался окружить его заботой, выполнял самые невероятные просьбы и готов был терпеливо выслушивать туманные рассуждения о трех мирах, о природе совершенной пустоты и о море страданий. Как ни странно, но в последнем пункте дедушкины рассуждения совпадали с чумаковской «теорией». Чумаков выражал свой принцип такими словами: «Кто ничего не имеет, тому нечего терять, кто не теряет, тот не испытывает сожалений, кто ни о чем не жалеет, тот спокоен, кто спокоен, тот счастлив».
Сам он мог только мечтать о полном выполнении этого принципа, к сожалению, теория не всегда совпадала с действительностью, и, не имея ничего, отчего-то хотелось иметь хоть что-то, а это, естественно, вызывало чувства, далекие от счастья.
Дедушка разрешал эти противоречия коротко: «Не желай! Желание лепит из пустоты иллюзорные формы и приводит к страданию». Сам же он желал бессмертия. Ни больше, ни меньше.
Старик любил животных. Правда, с говорящим скворцом у него сложились непростые отношения. Птица, наслушавшись его речей и перемешав их в своей маленькой головке с телевизионными премудростями, передразнивала дедушку или просто доводила мысль до абсурда подобными фразами: «Рыбаки Заполярья вышли сегодня в море страданий. В совершенной пустоте океана их ждет богатый улов макрели и красных пилюль». И так далее. Старик же в суете своей поправлял скворца, произнося длинные туманные монологи у клетки, и даже горячился, когда скворец разражался громкими криками: «О, ракета средней дальности! Вот и мне суждено преодолеть нейтронный барьер большого дерби! Пять вожделений исчезли!»
Морских свинок, бездетную пару Яшку и Машку, старик любил нежно и безответно. Несуразные и бестолковые зверьки эти вызывали у него чуть ли не родственные чувства, он часто брал их на колени и ласкал худыми длиннопалыми руками, не гнушаясь черных катышей, которыми свинки награждали его по своему обыкновению. «Заблудшая тварь, – говорил он, – ей не понять…»
Петю он побаивался и старался не попадаться ему на глаза, особенно если Чумакова не было дома. А к Сене относился безразлично, считая все его художества блажью и суетностью, не имеющими ничего общего с настоящим делом. Ну, а когда появилась Ольга, дар его красноречия расцвел и заиграл новыми красками. Он нашел благодарную слушательницу и любознательную ученицу.
Он был единственным, кто дал ей надежду, и она приободрилась, стала следить за собой, толкла травы в ступке и, втайне от Чумакова, пила подозрительные настои. Скорее всего, именно дедушка внушил Ольге мысль, что ее спасут роды. «Жадничала, – говорил он, – на ребенке экономила, о себе думала, вот тебе и наказание от природы. Недаром природа и роды от одного корня».
Как ни странно, но больше всего старик любил насекомых. А так как в городе выбор их был небогат, то свою любовь он изливал на тараканов и мух. Убить таракана при нем было жестоким поступком, лицо его бледнело, руки начинали дрожать, он словно бы слышал удесятеренный хруст раздавленного беззащитного тела и принимал эту маленькую незаметную смерть, как гибель близкого человека. «Химическое оружие запрещено!» – кричал он, смело вырывая из рук Пети аэрозольный дихлофос.
Он свято верил в несколько устаревшую теорию самозарождения живых существ и считал тараканов если не разумными, то чрезвычайно умными животными. Вечные спутники человека, выжившие рядом с грозным и хитрым соседом, независимые от него духовно, но зависящие от его пищи и жилья, они представлялись старику древним и мудрым племенем, призванным следить за человеком, разведчиками природы, вездесущими соглядатаями, добровольно идущими на жертвы ради спасения жизни на Земле. Он восхищался красотой их узких коричневых тел, быстрым бегом, осмысленными перебежками по кухонному столу, чуткими усиками, блестящими лбами и искренне желал, если, конечно, не удастся получить заветную пилюлю, после смерти воплотиться в теле Великого и Прекрасного Таракана, восседающего на Лотосовом троне.
Ночные насекомые озадачивали его своей тягой к свету. Он и в этом видел свое родство с ними – старшими братьями человека. «В природе нет ночного света, кроме света луны, звезд, светляков и гнилушек, – говорил он, – а насекомые древнее человека. Почему же они стремятся к свету, зажженному нами? Что ищут они, что хотят? Откуда в них это? Днем спят, скрываясь от солнца, а ночью ищут искусственный свет. Велика тайна и нет на нее ответа…»
Ну, а мух он любил за прекрасные летные качества, за прихотливость траектории полета и за «неугомонную жизнерадостность».
– Ты еще вшей разведи, – ворчал Петя, безжалостно прихлопывая черное блестящее тельце, – или блох. Разведи и радуйся. Они от твоей крови быстро спятят, сектант чертов.
– Им же больно, – стонал старик. – Тебя бы так, окаянного, в лепешку-то.
– Людей не жалеешь, – огрызался Петя, – а переносчиков заразы вылизывать готов. Уродятся же такие!
– Это ты никого не жалеешь, – смело вступал в спор дедушка, – ты и человека этак прихлопнешь и не моргнешь глазом.
– Надо будет, и прихлопну. Иных давно пора к ногтю прижать.
Дискуссии обрывал Чумаков. Он не любил ссор в доме, тем более из-за пустяков. Его мечта – гармония взаимоотношений людей, живущих вместе, – так и оставалась мечтой. Всегда чего-то не хватало, то ли терпимости, то ли жалости, то ли умения понять другого человека. Он очень старался, чтобы в доме был мир, убеждал, уговаривал, гневался, но это, конечно, тишины не прибавляло. Новая семья все равно оставалась похожей на обычную, со всеми ее бедами, радостями и печалями. И отсутствие кровного родства – «проклятия человечества», по терминологии Чумакова, – ничего не меняло.
И Чумаков втайне сам начинал подумывать, что его теория оказалась неверной, или просто люди не доросли до осознания великой идеи. Второе предположение было более лестное, но справедливое ли, вот в чем вопрос…
11. Вечер
– Есть у меня к тебе вопрос, Василий, – сказал Оленев, заходя в ординаторскую. – Сугубо интимный. Ответишь?
– Не знаю. В зависимости от степени интимности.
– Что у тебя было с женой Костяновского?
– С чего это ты взял? Я с ней почти незнаком. Спроси лучше, что у меня было с Софи Лорен.
– Не придуривайся. Я вот сейчас думал о твоем разговоре с профессором. Или ты мне не все рассказал, или не выложил все козыри. Не такой он человек, чтобы бить не наверняка. Он долго искал подходящего момента и должен был поставить тебе условия заведомо жесткие.
– Предположим, но при чем здесь его жена?
– Во-первых, давно ходят подобные слухи, а во-вторых, ему явно невыгоден развод, это отразится на его карьере и благополучии. Измену жены он стерпит, несмотря на гордыню, а вот если она уйдет от него или публично потребует развода, тогда…
– Не хочешь ли ты сказать, что она собирается уйти ко мне? Или что я готов жениться на ней? С какой стати?
– Ясно. Не хочешь говорить. Не та степень интимности. Бережешь честь женщины и правильно делаешь. Только сам подумай над этим. Это серьезная угроза и… способ нападения для тебя.
– Вот как?
– Видишь ли, он шантажирует тебя жалобой, а ты можешь сам перейти в наступление. Сказать, например, что уведешь его жену к себе.



