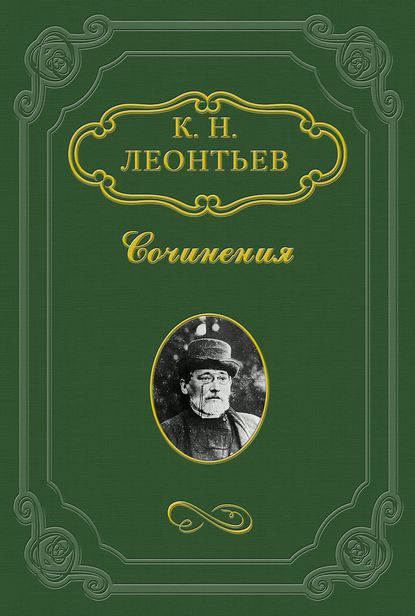 Полная версия
Полная версияПлоды национальных движений на православном Востоке
XVI
Все эти четыре нации родного нам Юго-Востока: греки, румыны, сербы и болгары – с виду (культурно-бытового) теперь очень между собою схожи, несмотря на все несогласия свои… (Состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия…)
Разница между ними не больше, чем разница между четырьмя карточными валетами…
И самые яркие, самые «червонные» из всех четырех восточно-православных валетов этих в настоящее время все-таки болгары. По крайней мере – бандиты, разбойники и умеют народ свой заставить себе повиноваться… Они бьют друг друга, бьют духовных лиц; секут бывших министров, производят церковные coup d'Etat, сажают по несколько епископов разом в экипажи и увозят их куда-то. Не насыщенные своим отложением от Вселенской Церкви, они хотят уже и от своего экзарха произвести раскол на расколе. Если бы они не нуждались в мнении больших монархических держав Запада, – они давно бы, я думаю, закрыли храмы и объявили бы «царство разума»! Они топят ночью граждан своих в Дунае, – они не боятся Турции; знать не хотят России; Австрию тоже, конечно, стараются эксплуатировать как-нибудь в свою пользу. Сербов разбили наголову! Что ж? По крайней мере сильно, просто и нам впредь поучительно! Поучительно, между прочим, – и в том смысле, что, чем свободнее, чем беззаветнее чисто национальная племенная политика, тем она революционнее, тем государственный нигилизм ее нагляднее. Перед болгарской революционной диктатурой молодца Стамбулова бледнеют все прежние эллинские умеренные волнения, а тем более вялый и дряблый румынский либерализм. Греция освободилась впервые в менее отрицательные времена, и у ней есть великий охранительный тормоз: глубокая связь ее истории с историей Православной Церкви. Румыны, менее всех других народов Востока родственные России по крови, языку и по западным своим претензиям, со стороны социального строя зато – более всех этих народов напоминают Россию. У них, как и у нас, было крепостное право, были сословия, было дворянство знатное и дворянство низшее реформы, положим, и у них, как и у нас смешали все это в одну либерально-равенственную болтушку; но нравы, предания, привычки привилегированных сословий надолго еще переживают права и привилегии и влияют на жизнь. В Румынии поэтому какая-то тень дворянского духа и дворянских привычек должна иногда (почти невидимо тормозить все то, что так неудержимо рвется вперед в Болгарии, – более дикой, молодой и лишенной всяких осязательных преданий. Сербское племя тормозится пока на общереволюционном пути тем областным раздроблением, о котором я выше говорил. Разница, как видим, есть между этими четырьмя народностями православного Востока, но это не какая-нибудь существенная разница в духе, в идеале преобладающего общественного направления; это разница в степени напряжения одних и тех же наклонностей. Различие не качественное, а количественное.
Все эти народы идут пока на наших глазах не в гору истинно культурного обособления от Запада и органического своеобразного расслоения внутри, а под гору демагогического внутреннего уравнения и внешней всесветной ассимиляции в идеале «среднего европейца». Различие не в цели стремления по наклонной этой плоскости, а только – в силе тормозов.
Всех сильнее и крепче тормоз у греков, всех ничтожнее – у болгар. Румыны и сербы – первые по социальным причинам, вторые по внешнеполитическим – занимают между ними средину.
И вот, возвращаясь снова мыслью моей к последним, к задунайским православным сербам, снова говорю себе:
Политическое объединение всех сербов, хотя бы, например, под властью князя Николая Черногорского, возведенного в Короли, желательно при известных обстоятельствах для будущего политического равновесия в неизбежной Восточной конфедерации с Россией во главе. Объединение сербов – вопрос одного лишь времени, и видеть князя Николая Королем всех сербов желательно не потому только, что он был доселе верным союзником России (это может легко измениться), – нет, я не то имею в виду. Я не публицист «дипломатических» фраз в угоду завтрашнему дню! Это не мое призвание – хвалить лишь то, что сейчас союзно, и бранить лишь то, что нам теперь враждебно. Сознаю, что этот способ действия, эта ложь, это всеобщее соглашение искусственного и притворного пристрастия приносит свою долю пользы отечеству, ибо действует возбуждающим образом на большинство читателей (то есть на тысячи и тысячи умов, в политике недалеких). Но что ж делать? У всякого свои наклонности. Для меня сильный человек сам по себе, яркое историческое и психологическое явление само по себе дорого даже и в Мексике или на мысе Доброй Надежды, а тем более в славянской среде, которую я боготворил бы, если бы она не была вообще так похожа на самую серую, самую казенную, самую до швов истасканную общеевропейскую демократию. Мне дорог Бисмарк как явление, как характер, как пример многим, хотя бы и доказано было, что он нам безусловный враг. Мне жалок Гладстон, который употребил силу своего характера и своего ума на то, чтобы сознательно двинуть когда-то великую, своеобразную родину свою как можно дальше по пут и все т ого же проклятого прогресса, все той же уравнительной бессмыслицы. Он жалок мне, хотя бы он был тысячу раз друг России. Россия еще недостаточно умом самобытна, и потому дурные политические и культурные примеры для нее опаснее политических врагов. Внешние враги, войны, даже открытые бунты там и сям для России не должны быть страшны. Ее ближайшая будущность, ее ближайшие триумфы несомненны. Страшны должны быть для нее пошлые примеры и вялые влияния. Сомнительна долговечность ее будущности; загадочен смысл этой несомненной будущности, ее идея. И я ли один так думаю? Нет, я знаю, многие в этом согласны со мною. Только не скажут громко, а лишь «приватно» пошепчут…
Поэтому и князь Николай должен быть дорог не только и не столько как союзник России, сколько как славянин, высоко и своеобразно развившийся, поэт, полководец, политик, герой в живописной национальной одежде.
Но если… (положим)… если в самом деле сбудется то, о чем я говорил?.. Если он воцарится в Белграде?
Не облечется ли он в «Европу» всячески – и в прямом, и в переносном смысле? Если даже и в Черногории уже занадобился какой-то «кодекс», если для составления этого «кодекса» отыскался даже кровный черногорец Богишич{25}, то чего же ждать от либерального пансербизма? Если сам Бисмарк в столь разнородной и содержательной когда-то Германии стал (хотя бы невольно, а не преднамеренно, как Гладстон), стал орудием космополитической ассимиляции, то что же против этого течения может сделать самый энергический и даровитый Король небольшого и духом ничуть не оригинального племени?
Сила обстоятельств превозможет его!
О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс!
О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории!{26} С конца прошлого века – ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних людей: средний рациональный европеец, в своей смешной одежде, не изобразимой даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью!
Нет! – никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идеалом однородного, серого, рабочего, только рабочего и безбожно бесстрастного всечеловечества!
Возможно ли любить такое человечество?!
Не следует ли даже ненавидеть не самих людей, заблудших и глупых, – а такое будущее их, всеми силами даже и христианской души?!
Следует! Следует! Трижды следует! Ибо сказано: «Возлюби ближнего твоего и возненавидь грехи его!»{27}
XVII{28}
Я кончил и спрашиваю себя: неужели не ясно теперь, что племенная политика как правительств, так и самих наций есть в наше время – не что иное, как одна из форм всемирной революции, один из самых сильнейших способов космополитического все-смешения?
Я говорил о самой России и Турции со дней Парижского трактата; о свободной Греции и объединенной Румынии; о болгарах, купивших первоначальную свободу свою отторжением от Вселенской Церкви, и о неизбежном в более или менее близком будущем пансербизме, не могущем, по-видимому, ничего дать, кроме – самой обыкновенной современно-европейской плоскости «передового» стиля.
Везде – на всем этом обширном протяжении от Ледовитого океана до Средиземного моря и от Великого океана до пределов Западной Европы – за последние 30 с небольшим лет космополитическая революция сделала неимоверные успехи. Везде ослабление религиозного чувства; везде демократические наклонности (даже и бескорыстные у многих); везде больше противу прежнего сходства с Западом в быте, привычках, понятиях и модах!
Разница между самой Россией и православным Юго-Востоком, впрочем, та, что в первой с 81 года начался все больший и больший переворот к охранительной реакции и в действиях власти, и в стремлениях мысли; а на Юго-Востоке – ничего подобного еще не заметно и не может даже и быть, ибо там власти общей и сильной нет, а мысль своя еще незрела и европеизмом еще не пресыщена, – не доросла еще до той потребности независимости от Запада, к которой порывается эта национальная мысль у нас – на всех поприщах.
Вот разница.
Но (с другой стороны) если мы вообразим себе две картины всего православно-мусульманского Востока: одну времен Государя Александра Павловича, 20-х годов, или даже и времен Императора Николая, 30–40-х годов, а другую – современную нам, – то, разумеется, мы будем поражены при виде тех успехов, которые сделала и на Востоке за истекшие полвека всемирная революция.
Вообразим себе сперва время Николая Павловича и султана Махмуда, – положим, даже и после освобождения Эллады.
Какое разнообразие нравов, положений, законов, обычаев, воспитания и вкусов! Какое еще твердое единство Православия!
Была разнородность власти в России, на Босфоре, в Египте, в Греции, Сербии, Черногории, Молдавии, Валахии. Была поразительная пестрота жизни, но было упорное и покорное духовное единение в Церкви. Государь русский на Севере; Патриархи на греческом Юге. В России крепостное право и властное, богатое, покойное, в высших своих слоях столь изящное и тонкое дворянство. Николай Павлович; Филарет; Пушкин. Какая триада! Не бедна духом, должно быть, была жизнь первой половины этого века в России, – если ее «почва» произвела трех таких исполинов – Церкви, Царства и поэзии! И все они трое были в умственной связи; все трое признавали друг друга.
На Юге турецкое крутое и грубо-распущенное владычество; молодая еще тогда, новая, эллинская свобода, – по гражданскому идеалу, положим, не самобытная, уже вполне западная, но по густой еще закваске турко-византийской старины поневоле, так сказать, в самой жизни чрезвычайно оригинальная. Соединение большой набожности в массе населения, большой патриархальной и пастушеской наивности с древним риторством и самой новейшей французской демагогией… Какие вожди недавней народной свободы еще живы и действуют. Какие разнообразные и сильные характеры! Колокотрони, Караискаки, Каподистриа, Миаули, Канарис, Метакса, Колетти, Маврокордато, Кундуриоти…
Кто русской партии, кто французской, кто английской; кто был дипломатом иностранной державы (Каподистриа), кто английским жандармом на Семи островах (Караискаки), кто врачом (Колетти), кто граф (Метакса), кто купец или моряк… Колетти, Колокотрони в фустанеллах, как корсары лорда Байрона; Кундуриоти и Миаули в шальварах (а Миаули при этом и в роскошных шелковых чулках); только Маврокордато, Каподистриа и гр. Метакса (к сожалению!) – в сюртуках…
В Сербии старый Милош, в такой же расшитой одежде, как теперь кн. Николай Черногорский. Хитрый, твердый, старинный человек; свинопас и князь; освободитель отчизны и приятель турецких пашей (которые даже дарили ему негритянок). Старый Милош, который сам рассказывал, что однажды похоронил живого священника вместе с мертвецом за то, что тот, вопреки строгому запрещению брать с бедных больше таксы, потребовал с одной неимущей вдовы несколько золотых.
В Черногории, свободной от турка, неприступной, бесплодной, светом почти забытой, суровой до свирепости, – владыкой Митрополит Православный, светский государь [самодержавный] [как малый папа] – над горстью своевольных и воинственных горцев.
В Молдавии и Валахии – богатых, хлебородных – крепостное право, как у нас (с местными особенностями); дворянство полуазиатское и полуфранцузское, еще православное, но распущенное в нравах, давно забывшее оружие; народ – простодушный, робкий, привычный к рабству. В каждом княжестве по господарю, вассалу Турции, и по дивану (совету), довольно своеобразному учреждению в разнородной среде восточных христиан. Монастыри богатые, многолюдные, «преклонимые» Св. Местам Востока. В общей картине жизни, в языке, духе, нравах этой Молдо-Валахии – странная смесь греко-византийского, парижского, славянского, турецкого…
В Болгарии – безусловное, безмолвное, давнее подчинение туркам; ни дворянства своего, ни духовенства собственно болгарского, ни даже многочисленного и сильного торгового класса из болгар. Духовенство греческое; богатая часть купечества греческая; начальство – турецкое. Болгары – только земледельцы, пастухи, ремесленники и мелкие торговцы. Они к туркам привычны, сыты, просты и дики до того, что местами по настоянию греческих епископов паши их насильно толпами загоняли в храмы молиться по праздникам. Болгары того времени так же равны между собою, так же просты и дики, как черногорцы, но черногорцы свободолюбивы и чрезвычайно воинственны, а болгары тогда – были трудолюбивы, робки, не воинственны и порабощены турку, как порабощен был своему дворянству народ вассальной и сословной Молдо-Валахии…
Какое разнообразие жизненных условий!
Оно видно и из этого бледного, краткого абриса. Пусть тот, кто помнит еще 40-е и 50-е годы, или тот, кто читал много о былой жизни Турции и ее христиан, – пусть он сделает усилие памяти и даст волю воображению своему.
XVIII
Полагаю, что не мне одному, а многим русским людям представляется несомненным, что внешние политические условия нашего времени могут быть в высшей степени благоприятны для того разрешения Восточного вопроса, о котором я не раз говорил. Думаю также, что многие согласятся со мной в том, что для этого окончания стоит принести немалые жертвы, тем более что мы не раз приносили эти жертвы для гораздо меньших результатов всё в том же направлении (в 29, в 53, в 77).
Доказывать здесь подробно и по существу, почему необходимо нам иметь в руках наших Проливы, – я не стану. Я предполагаю это вообще слишком ясным и уже давно понятным делом.
Я хочу закончить здесь мою и без того слишком длинную речь о «национальных движениях на Востоке» – изложением тех надежд моих на Россию, о которых я не раз мимоходом упоминал. Данилевский справедливо замечает, что при великих исторических переворотах в высшей степени важна одновременность каких-нибудь событий или вообще исторических обстоятельств.
Вот с точки зрения этой одновременности или этого совпадения – я нахожу в высшей степени важным и благоприятным следующее обстоятельство:
Восточный вопрос близится к своему окончанию в такое время, когда Россия, переживши либеральный и эгалитарный период своей внутренней политики, вступила в период упорной и решительной реакции противу собственных увлечений этими разрушительными западными идеями.
И для народов в их жизни, так же как и в личной жизни человека, важно не только какое-нибудь событие само по себе, но важно и то время, в которое это событие случается.
Если сравнивать историю России с историями многих других наций и древних, и нынешних, то прежде всего в ней замечается какая-то сравнительная бледность, невыразительность, не бурность, не рельефность всего. Худо ли это или хорошо, – не знаю (думаю, однако, что в культурном отношении это дурно, а в собственно-государственном хорошо: твердо, верно).
Такого же рода бледность, невыразительность, нерешительность, несвязность какую-то и разрозненность усилий – мы замечаем и в упомянутой современной реакции нашей…
Не фанатично, не круто, не шумно, не выразительно, не резко… Слабо как будто… Так ли «делали» реакцию в других местах и в иные времена!.. И страшно, и отрадно – вспомнить…
Но, быть может, так и нужно… Медленно, – но верно. Дай Бог!
Положим, что все это не особенно выразительно; однако, если вспомнить, собрать воедино все то, что у нас происходило и происходит в этом направлении с 81-го года, – и самое лучшее сравнить в общих чертах с тем, что, например, происходило за то же время во Франции, то есть в той передовой стране Европы, за которой все другие нации Запада как бы поневоле позднее идут, – то в результате представится картина весьма утешительная с точки зрения нашего обособления от Запада.
Примечания
1
Ее следовало бы озаглавить – «Политика национальностей». – Авт.
2
(1603–1625)
3
Оказалось, что Прокеш-Остен был правее меня. Все это было уже напечатано, когда я приобрел книгу г. Татищева «Внешняя политика Императора Николая». Из нее документально явствует, что Государь руководился не одним «рыцарством», но имел в виду весьма важные государственные интересы. На стр. 348 помещены отрывки из письма гр. Нессельроде к Орлову; в этом официальном документе говорится следующее: «Если бы Мехмеду Али удалось низвергнуть султана, то это обстоятельство имело бы для нас самые вредные последствия». «Замена соседа слабого и побежденного торжествующим и сильным могла бы состояться только нам во вред». – Авт.
4
Значит, я ошибся, не один «инстинкт», но и ясное сознание политических выгод. Такая ошибка приятна.
5
Это пророчество Тютчева относится собственно к примирению Польши с Россией; но я им воспользовался здесь в другом, более общем смысле
6
Советую по этому поводу прочесть или вспомнить очень умную повесть г. Успенского в «Русской мысли» – «Пиджак и черт». Повесть остроумна и правдива; но, сдается мне, почему-то, что г. Успенский на веру в дьявола негодует по крайней мере столько же, сколько на любовь к «пиджаку». По моему же мнению, – вера в демонические силы есть одно из самых лучших противоядий разрушительному влиянию «пиджака».
7
Конечно, эта ближайшая будущность – надежна.
Комментарии
1
Гогенцоллерны – немецкая монархическая династия; бран-денбургские курфюрсты в 1415–1701 гг., прусские короли в 1701–1918 гг., германские императоры в 1871–1918 гг. В 1415 г. Фридрих I стал родоначальником династии Гогенцоллернов в Бранденбургско-Прусском государстве. Основные представители Гогенцоллернов: бранденбургские курфюрсты Фридрих Вильгельм Великий (1640–1688), Фридрих III (1688–1713), прусские короли Фридрих II Великий (1740–1786), Фридрих Вильгельм III (1797–1840), Фридрих Вильгельм IV (1840–1861), Вильгельм I (1861–1888), германский император Вильгельм II (1888–1918). Представители швабской линии рода – Гогенцоллерны-Зигмарингены в 1866–1947 гг. занимали румынский престол.
2
Янычары – солдаты привилегированных частей в султанской Турции (до 1826), выполнявших также полицейские и карательные функции.
3
Райя – немусульманское сельское население Турции, и, прежде всего, славянское население Османской империи.
4
Genre (франц.) – род.
5
Говеть – готовиться (телесно и духовно) к таинству святого причащения.
6
Милан Обренович, занимавший проавстрийскую позицию, в 1881 г. сместил митрополита Сербского Михаила (1859–1881, 1889–1898) с кафедры и фактически изгнал из страны, так что тот с 1884 г. жил в России и вернулся на родину лишь в 1889 г., когда Милан отрекся от престола.
7
См.: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1885. Т. 1.
8
Ad honores (лат.) – почетный.
9
В Бонне состоялась (11–16 августа 1875 г.) вторая конференция старокатоликов, в которой активное участие приняли представители Православия.
10
«Русский вестник». 1888. № 10. С. 295–298.
11
Книга А. Прокеш-Остена «Воспоминания о знаменательных событиях на Востоке» («Denkwiirdigkeiten und Erinnerungen aus dem Orient…») опубликована на немецком языке в Штутгарте (1837).
12
Россия, заинтересованная в сохранении слабого соседа, не могла допустить создания на развалинах Турции молодого и сильного государства Мухаммеда Али.
13
См. стихотворение Ф. И. Тютчева «Тогда лишь в полном торжестве» (1850):
Не в Петербурге, не в Москве,А в Киеве и в Цареграде…14
In statu quo (лат.) – в прежнем состоянии.
15
Градативное – ступенчатое, постепенное.
16
Febris versatilis (лат.) – перемежающаяся лихорадка.
17
Указ султана (18 февраля 1856 г.), который подтверждал декларацию 1839 г. о правовом равенстве мусульман и немусульман.
18
Итоги русско-турецкой войны 1877–1878 гг. закреплены в Сан-Стефанском мирном договоре (3 марта 1878 г.), по которому в частности, предусматривалось создание большого Болгарского княжества, в состав которого должны были войти территории Северной и Южной Болгарии и македонские земли. Это полунезависимое государство получало бы выход к Черному и Эгейскому морям. В создании значительного по размерам славянского государства европейская дипломатия увидела нарушение ранее достигнутых договоренностей с Россией.
Летом 1878 г. в Берлине состоялся конгресс представителей европейских держав, где были окончательно утверждены результаты прошедшей войны. Согласно тексту договора подтверждалось признание Сербии, Черногории и Румынии независимыми государствами. Территория Болгарского княжества ограничивалась рамками Северной Болгарии. Южная Болгария получала статус автономной провинции. Македония и Южная Фракия продолжали безраздельно управляться Портой.
19
Русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
20
Еще в 1882 г. К. Н. Леонтьев писал: «Объяви Россия войну Турции в 1870–1871 гг. (в самое время галло-прусской войны), церковной распри не было бы. Значительная часть Болгарии (если не вся), освобожденная от турецкой власти, законно отделилась бы и от патриарха не на племенном, а на административно-политическом основании. Греки, по духу канонов, не могли бы тому препятствовать». См.: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1886. Т. 2. С. 249.
21
Епископ, находившийся в юрисдикции не Константинопольской патриархии, а Элладской церкви.
22
Pendant (франц.) – дополнение.
23
В определениях Константинопольского Собора 12–16 сентября 1872 г. говорилось: «Мы постановляем во Святом Духе следующее:
1) Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, т. е. племенные различия, народные распри, народные рвения и разногласия в Христовой Церкви, как противное евангельскому учению и священным законам блаженных отцов наших, на коих утверждена святая Церковь и которые, украшая человеческое общество, ведут к божественному благочестию.



