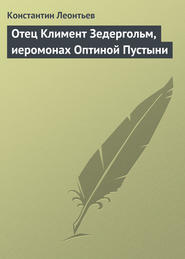 Полная версия
Полная версияОтец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни
Отец Климент улыбнулся своею милою и веселою улыбкой и отвечал мне, пристально поглядев на меня: «видите, я не могу и не стану исповедываться вам; но скажу вам вообще, что таких потрясений, о каких вы, вероятно, думаете, не было. Я шаг за шагом, мыслью дошел до необходимости стать монахом… Я хотел поступить сюда еще раньше, чем пришлось. Но случилось так, что в Петербурге я кой с кем перессорился; покойный Оптинский старец, отец Макарий, узнав об этом, сказал мне: «Нет, поезжай, еще послужи, помирись со всеми и тогда приезжай». Когда я вернулся и вошел к отцу Макарию, я увидал у него в келье видного молодцеватого мужчину с окладистой бородой в новом подряснике. Это был Богородицкий предводитель Ключарев, поступивший тоже в послушники Оптинского скита. Я был с ним знаком, но так как он прежде брился и носил обыкновенно штатское платье, то я его не узнал. В подряснике и с бородой он стал гораздо красивее. Отец Макарий немного погодя сказал: «что ж, не пора ли и тебе надеть подрясник? Вот, посмотри, Федор Захарыч Ключарев каким у нас молодцом стал!» Я отвечал, что очень рад, и так стал монахом»…
В Оптиной он прожил около пятнадцати лет, был иеродиаконом, потом иеромонахом, но никакой начальнической должности не занимал, ни духовником, ни старцем не был.
Что такое старчество – я постараюсь сейчас объяснить. Вообще из людей, долго заживашихся в миру, как бы искренни и добросовестны они не были, очень редко выходят замечательные духовники и старцы-руководители. Большинство знаменитых старцев очень рано оставляло мир и посвящало себя иноческой жизни.
Почему же Зедергольм выбрал именно Оптину? Я сказал, что Иван В. Киреевский сблизил его с этой обителью. Но было же какое-нибудь серьезное основание особенно рекомендовать новообращенному протестанту именно этот монастырь для руководства в христианской жизни? основание на то, что в Оптиной с 20–30-х годов начало процветать старчество. Что такое «старчество» люди, не посещающие монастырей и незнакомые ни с историей церкви, ни с духом истинного православия, вовсе не знают.
Рискуя привести в ужас некоторых из моих просвещенных читателей, я прямо скажу, что старец у нас есть именно то, что у католиков называется: «directeur de conscience». Не понравится подобное приравнение может с двух совершенно противоположных точек зрения. Слышать, что православный старец есть то же самое, что «directeur de conscience», может быть неприятно и очень православному человеку и человеку равнодушному в делах веры; первому – потому, что он смотрит на папство, как на заблуждение, а второму – потому, что «иезуиты де очень лукавы и слишком много стараются приобретать влияния». И, наконец, разве у всякого нет свидетельства своей собственной совести?
Но этого рода рассуждения происходят лишь оттого, повторяю, что у нас слишком мало знакомы с историей христианства, с его основами, оттого, что настоящий его смысл «не от мира сего» забыт, и образованный человек считает себя вправе брать из христианства то, что ему вздумается и отвергать то, что ему кажется отсталым и бесполезным.
Недавно, случайно перелистывая одно издание шестидесятых годов, я нашел там следующее место, в статье одного из мыслящих соотечественников наших.
Дело идет о поэте Гейне. Вот, что говорит между прочим автор (Н.Н. Страхов).
«При этом идею христианства Гейне толкует совершенно на католический лад; главное ее содержание он видит в презрении к плоти, в преувеличенном спиритуализме, в признании за зло всей природы, всех естественных влечений и радостей, в аскетическом отречении от мира» (Журнал «Заря», 1870 г. Статья «О литературной деятельности Герцена»).
Таким образом, ученый автор считает особенностью католицизма именно то, что у него есть общего с православным учением.
Не аскетическим взглядом на жизнь, на страх Божий, на смирение, на глубокую прирожденную греховность нашей природы, не отрицанием всемогущества человеческого, ни отрицанием возможности какого бы то ни было счастья на этой земле, не советами безусловно, по мере сил, покоряться учению церкви и советам ее представителей в нашей личной жизни – отличается католичество от восточного православия, а позднейшим искажением тех основным догматов, которые были признаны первоначальной церковью и введением новых, подобно догмату единоличной непогрешимости папы (вместо непогрешимости вселенских соборов), о незапятнанном первородным Адамовым грехом зачатия Божией Матери, или об исхождении св. Духа и от Сына, и другими[17]. Вообще надо заметить, что папство мало существенного убавило и отвергло из учения единой и всеобщей первоначальной церкви, но, напротив того, прибавило много лишнего. Поэтому в нем и не могло остаться многого из первоначального апостольского и святоотеческого учения.
Зедергольм, читая не совсем правильные нападки на западную церковь в наших светских, а иногда и духовных журналах, говорил мне: «в католичестве истина до того глубоко спутана с самыми опасными для души заблуждениями, что надо обращаться с ними очень осторожно: и хвалить трудно западную церковь, и опрометчиво, невпопад порицать ее опасно перед публикой. Воображая, по неведению, что порицаешь только одно папство, можно очень легко и некоторым сторонам наших верований вредить!».
Сверх этого, надо заметить еще вот что: хотя вся историческая судьба России тесным образом связана с православием и даже в современной нам великой борьбе за свободу восточных христиан, православие является знаменем, под сенью которого наше войско совершало свои блистательные подвиги; однако надо, в некоторых случаях, как можно внимательнее отличать наши национальные свойства от свойств, принадлежащих самой православной церкви. Учение церкви одно, но приложение это учения к жизни, история практических отношений церкви к народу может быть разная, в разные времена и у различных наций, исповедующих ту же веру. Различать этой чрезвычайно важно уже для одного того, чтобы национальные недостатки или исторические несчастья наши не переносить ошибочно на характер самой церкви. Хомяков в своих письмах к Пальмеру, говорит: «сомневаться в истине православия нельзя только потому, что проповедь его идет не так успешно, как проповедь католицизма. Это может зависеть от национальных недостатков тех народов, которые в настоящее время служат главными представителями восточного православия. Русские и греки виноваты в этом, а не учение церкви»[18]. Хомяков говорит это относительно внешней проповеди; то же самое можно сказать и относительно внутреннего руководства совестей. Не учение церкви православной противно духу старчества (то есть духовному руководству совести), а наши исторические условия, наши национальные недостатки тому виною, что старчество (несомненно сильно развитое у нас в удельный и московский периоды наши) заглохло в последние века не только по отношению к верующим мирянам, но и в стенах монастырей. Подчинясь в общих чертах уставам церкви, высшее и более образованное сословие наше уже давно привыкло полагаться только на собственный ум и собственную совесть даже и в важных вопросах, и к духовнику обращалось лишь как к совершителю треб, который нравственных наставлений не мог преподать. И к несчастью, в большинстве случаев, наше образованное сословие было право. В монастыри не всякий имел время, средства и охоту далеко ездить; а белое наше, и сельское, и городское, духовенство было издавна, за немногими исключениями, поставлено в такое жалкое положение, что кроме боязни, просительной корысти и человекоугодия, оно не могло ничего обнаруживать пред людьми образованных классов. Какое же тут могло быть старчество?
Определяя точнее смысл старчества, надо сказать так: разум наш недостаточен; есть минуты в жизни, когда он нам неотступно твердит: «я знаю только то, что я ничего не знаю». Нужна положительная вера; у меня эта вера есть. Я знаю, положим, в общих чертах учение церкви. Читал Жития. Там я беспрестанно вижу примеры, как цари, полководцы, ученые и, вообще, миряне прибегали за советами к людям высокой духовной жизни, к людям освободившимся, по возможности, по мере сил человеческих, от страстей и пристрастий. Отпущения грехов на исповеди мне недостаточно; меня это не успокаивает; я не доверяю вполне и постоянно, по долгу христианского смирения, свидетельству одной моей совести, ибо это свидетельство прежде всего основано на гордости личного разума; поэтому в трудных случаях моей жизни, где я беспрестанно поставлен между грехом и скорбью, я хочу обращаться с верой к человеку беспристрастному и по возможности удаленному от наших мирских волнений, хотя понимающему их прекрасно. Я верю не в то, чтобы духовник или старец этот был безгрешен (безгрешен только Бог, и святые падали), ни даже что он умом своим непогрешим (это тоже невозможно). Нет! я с теплою верой в Бога и в церковь и, конечно, с личным доверием к этому человеку за его хорошую жизнь, прихожу к нему, и чтобы он мне не ответил на откровение моих тайн, даже помыслов, я приму покорно и постараюсь исполнить. А при этом я, верующий мирянин, могу быть лично и очень умен, и чрезвычайно развит, и в житейских делах даже гораздо опытнее этого старца. Но стоит мне только вспомнить историю человечества, или взглянуть беспристрастно на окружающую жизнь, чтобы понять до чего же даже гений бывает иногда неразумен и до чего самый хороший человек иногда срывается и в отдельных случаях поступает хуже худого. И священное Писание, и история церкви к тому же совпадают вполне в этом отношении с практическою жизнью. Иуда был апостол, а разбойник разбойничал. И так различно они кончили свою жизнь! Арий был человек лично прекрасной жизни, но он сделал церкви и человечеству более вреда своею умственною. гордостью, чем многие убийцы и развратные люди.
Вот смысл отношений ученика и духовного сына к старцу.
Думать, что подобное отношение к духовику есть исключительно католическая черта и православию совершенно чуждая, значило бы тоже, что считать – что бы такое?… ну, например, что плохая обработка русских полей есть отличительная черта славянских воззрений на агрономию, а не случайный и временный результат исторических и географических условий нашей национальной жизни.
Как же может учение православной церкви не требовать, чтобы духовенство было как можно влиятельнее на нашу личную жизнь, когда оно так высоко ставит и сан священства и монашеский образ?
Наша распущенность, общая и мирянам и духовенству, наше равнодушие, наш «поздний ум, богатый с колыбели ошибками отцов» – вот в чем причина сравнительной слабости у нас духовного руководства, а не в какой-либо существенной черте церковного учения.
Монах, в сущности, все тот же православный христианин, как и не монах, только поставленный в особые благоприятные для строгой жизни условия; и мирянин верующий, в сущности, все тот же аскет, только с большею свободой. Если взять и в наше время целый ряд убежденных христиан, начиная от строжайшего афонского пустынножителя до какого-либо человека богатого или высокопоставленного в обществе, то как бы ни велика была разница во внешнем образе жизни всех этих людей, поставленных между двумя крайностями – между сырой пещерой афонского схимника и барскими палатами русского государственного деятеля, се же идеал сердечный у них один, философия жизни одна, нравственный критерий один, догматы одни, усилия направлены к одной и той же цели, к поддержанию в себе, во время земной жизни, близости к Христу и к Его учению. Быть может, иногда мирянину, занятому гражданскими и другими личными обязанностями, окруженному соблазнами роскоши и живущему во многолюдном городе, труднее принудить себя каждый день заходит только поутру в часовню (как делал, например, погибший столь трагическую смертью, генерал Мезенцев), чем монаху выстоять большую службу; уже по одному труднее, что мирянина ничто к тому не понуждает, кроме собственной веры; а монаха, живущего в общине, понуждает быть в церкви, так называемая, «среда», тогда как его одолевают лень и рассеянность. Не для Бога, так для братии он пойдет в церковь.
И так, говорю я, разница между самоограничивающим и понуждающим себя о Христе мирянином и монахом только количественная, а не качественная, не существенная. У хорошего монаха те же краски гуще, черты выразительнее, та же сущность, но более освобожденная от всех мирских украшений и тягостей. Иначе, какое же бы могло иметь значение монашество, если б оно не исходило, как высший плод, из того же христианского общества и если бы, с другой стороны, посредством своих молитв, своего примера и своего руководящего влияния, оно на этот внешний христианский мир не влияло?
В этом смысле, говоря о пользе и даже необходимости старчества для монахов, надо подразумевать и то, что оно и для мирян может быть чрезвычайно полезно.
Я даже спрашиваю себя, не полезнее ли оно иногда для мирян, чем для самих монахов? Монах, если он мало мальски добросовестен, сдерживается начальством, общиной; он беспрестанно в церкви слышит поучения, имеет всю возможность читать часто Св. Писание и святых отцев, а мирянину нашего времени когда самому подумать внимательно о Боге и своей душе?
Чтоб указать до какой степени духовенство и старчество были у нас в забвении, лучше всего выписать историю возобновления в Оптиной пустыни этого древнего христианского обычая из жизнеописания Оптинского старца иеросхимонаха Леонида (жизнеописание составлено тем самым отцом Климентом, о котором здесь идет речь)[19].
«В Оптину пустынь отец Леонид прибыл в апреле 1829 года с шестью учениками. Переход отца Леонида в Оптину пустынь весьма замечателен тем, что им введено и упрочено в этой обители, так называемое старчество. Этот, основанный на евангельском, апостольском и святоотеческом учении, образ монашеского жития в наше время пришел в такое забвение, что считаем не лишним сказать здесь о нем несколько слов.
«Старчество состоит в искреннем духовном отношении духовных детей к своему духовному отцу или старцу.
«Не всех же должно вопрошати, но единого, ему же вверено есть и других окормление и житием блистающа, убога убо суща, многа же богатяща по писанию (2-е Кор. 6, 10). Мнози бо не искусни, мнози неосмысленных повредиша, их же суд имут по смерти. Не всех бо есть наставити и инех, но им же дадеся божественное рассуждение, – по апостолу, рассуждение духов (1 Кор. 12, 10), отлучающее горшее от лучшего мечом слова. Кийждо бо свой разум и рассуждение естественно или деятельно или художественно имать, а не вси духовное.
«Духовное же отношение требует от руководимых кроме обычной исповеди пред причащением св. Таин и частого по потребности исповедания старцу и духовному отцу не только дел и поступков, но и всех страстных помышлений и движений и тайн сердечных.
«Путь старческого окормления во все века христианства признан всеми великими пустынножителями, отцами и учителями церкви самым надежным и удобнейшим из всех, какие были известны во Христовой церкви. Старчество процветало в древних египетских и палестинских киновиях, впоследствии насаждено на Афоне, а с Востока перенесено в Россию. Но в последние века, при всеобщем упадке веры и подвижничества, оно понемногу стало приходить в забвение, так что многие начали отвергать его. Уже во времена Нила Сорского старческий путь многим был ненавистен, а в конце прошедшего столетия и почти совсем стал неизвестен. К восстановлению в России этого, основанного на учении св. отцов, образа монашеского жития много содействовал знаменитый и великий старец архимандрит молдавских монастырей Паисий Величковский. Он с великим трудом собрал на Афоне и перевел с греческого языка на славянский творения аскетических писателей, в которых содержится учение о монашеском житии вообще и в особенность о духовном отношении к старцам. Вместе с тем в Нямецком и других подчиненных ему молдавских монастырях он показал и применение этого учения к делу. Одним из учеников архимандрита Паисия, схимонахом Феодором, жившим в Молдавии около 20-ти лет, этот порядок иноческой жизни передан иеросхимонаху отцу Леониду, а им и учеником его, старцем иеросхимонахом Макарием, насажден в Оптиной пустыни.
«Тогдашний Оптинский настоятель отец Моисей и брат его скитоначальник отец Антоний, положившие основание своего иночества в Брянских лесах, в духе древних великих пустынножителей, давно желали ввести старчество в Оптиной пустыни, но сами не могли выполнить этого дела, потому что были озабочены многотрудными и многосложными занятиями по устройству и управлению обители, и потому что вообще соединение в одном лице двух этих обязанностей, настоятельства и старчества, хотя в прежние времена при простоте нравов и был, но в наше время весьма неудобно и даже невозможно. Когда же в Оптиной пустыни поселился отец Леонид, тогда отец Моисей воспользовался этим и, зная его опытность в духовной жизни, поручил его руководству всех братий, жительствовавших в Оптиной пустыни и всех приходивших на жительство в монастырь.
«С того времени весь внутренний строй монастырской жизни изменился в Оптиной пустыни. Без совета и благословения старца ничего важного не делалось в обители. В его келье ежедневно, особенно в вечерние часы, стекались братия с душевными своими потребностями, каждый спешил покаяться пред старцем в чем согрешил в продолженье дня делом, словом или помышлением, просить его совета и разрешения во встретившихся недоумениях, утешения в постигшей скорби, помощи и подкрепления во внутренней борьбе со страстями и с невидимыми врагами нашего спасения. Старец всех принимал с отеческой любовью и всем преподавал слово опытного назидания и утешения. Вот как описывает келью отца Леонида очевидец иеромонах Антоний:
«Келья старца, от раннего утра до поздней ночи, наполненная приходившими к нему за духовной помощью, представляла картину, достойную кисти художника. Старец в белой одежде, в короткой мантии, был виден из-за круга учеников своих, которые стояли пред ним на коленах[20], и лица их были одушевлены разными выражениями чувств. Иной приносил покаяние в таком грехе, о котором и не помыслил бы не проходивший послушания; другой со слезами и страхом признавался в неумышленном оскорблении брата. на одном лице горел стыд, что не может одолеть помыслов, от которых желал бы идти на конец света; на другом выражалась хладнокровная улыбка неверия ко всему видимому: он пришел, наряду с другими, явиться только к старцу и уйти неисцеленным; но и он, страшась проницательного его взгляда и обличительного слова, потуплял очи и смягчал голос, как бы желая смягчить своего судию ложным смирением. Здесь видно было истинное послушание, готовность лобызать ноги старца; там немощный, отринутый всем миром, болезненный юноша не отходил от колен отца Леонида, как от доилицы ее питомец.
«Благодетельно стали отражаться богомудрые наставления на Оптинском братстве, которое понемногу начало совершенствоваться в нравственном отношении. Мудрость старца, свидетельствуемая любовью и почтением к нему настоятеля и братии, скоро сделал отца Леонида известным и вне обители. Ради духовных советов начали приходить к дверям его кельи из городов и селений разного рода люди: дворяне, купцы, мещане и простой народ обоего пола. Все были принимаемы старцем с сердобольным, отеческим расположением и любовью, и никто из приходящих не выходил из его кельи, не быв утешен им духовно. С каждым годом стечения народа в Оптиной пустыни значительно умножалось, чрез что она видимо процветала. Понимавшие хорошо духовную жизнь мужи, но подвизавшиеся в затворе или безмолвии, со всех сторон России стали присылать под руководство отца Леонида в Оптину пустынь, для обучения в монашеской жизни, людей всякого сословия, искавших для сего более надежного пристанища.»
На отца Леонида и на Оптину пустынь в сороковых годах за это кажущееся нововведение было поднято гонение. Пол зависти и невежеству это было сочтено каким-то расколом, ересью. Преосвященный Николай калужский имел слабость поддаться этим наущениям и несколько раз запрещал отцу Леониду принимать мирян, которые рвались в его двери толпою. Отец Леонид и настоятель Оптиной пустыни архимандрит Моисей, подчиняясь повелению владыки, из послушания переставали допускать народ; но люди, привыкшие к беседе старца и его наставлениям, помещики, купцы, военные, простолюдины городские и сельские, множество женщин, монахини из многих обителей, требовали его духовного слова и невыносимо страдали без него. Однажды случилось вот что. Сострадая своей духовной пастве, отец Леонид решился, наконец, вопреки запрещению архиерея, допустить к себе огорченных мирян. (Надо понимать, какое ужасно отчаяние может чувствовать человек, который утратил веру и в себя, и в свой разум, и в близких, и вообще в силу помощи человеческой, и который кроме горя и греха в себе и вокруг себя ничего не видит, если у него отнимают единственную опору его – спокойного и бесстрастного духовного утешителя… Это ужасно!). Преосвященный Николай Калужский вскоре после этого приехал в Оптину. Владыка шел в церковь по монастырскому двору, полному народа. Вдруг вышел из кельи своей отец Леонид, чтоб идти в ту же церковь. Мгновенно толпа отхлынула от архиерея и бросилась к старцу, окружила его, теснясь и требуя благословения.
Отец Леонид старался со своей стороны протесниться к владыке, чтобы поклониться ему.
Когда он приблизился, архиерей сказал ему укорительно: «А ты все еще с народом возишься».
– Пою Богу моему дондеже есмь! отвечал твердо и спокойно отец Леонид.
Этот ответ так понравился архиерею, что он с тех пор перестал тревожить отца Леонида, и старчество укрепилось в Оптине и процветает в ней до настоящего времени.
Отцу Леониду наследовал знаменитый духовник и друг его отец Макарий (из калужских дворян); потом отец Иларион и нынешний главный духовник отец Амвросий (оба они были келейниками отца Макария). Наконец сам основатель Оптинского скита архимандрит Моисей и младший брат его отец Антоний были в высшей степени замечательные люди и старцы удивительной жизни. Они оба начали свои подвиги, как сказано было выше, почти одни одинешеньки в вообразимо глухом месте Брянских лесов; их отыскали там и поручили им (в 1821 году) устроить Оптину пустынь. Они создали скит и восстановили бедную и во всех отношениях павшую обитель.
Отец Моисей, кроме своих высоких управительских способностей, кроме лично святой жизни, имел тоже духовный дар старчества, и хотя по особого рода смирению уклонялся от него, ограничиваясь хозяйством и управлением, но не отвергал тех мирян, которые любили обращаться к нему за советом и руководством.
Что касается до отца Антония, младшего брата архимандрита Моисея, то это был такой добрый, такой «любовный», кроткий человек, что покорял своим обращением самых строптивых людей. Я знал коротко одного петербургского литератора, человека по характеру гордого, закоснелого атеиста, ненавистника религии и церкви, который уважая и любя отца Антония лично, только у него одного, изо всех встречавшихся ему духовных лиц, целовал с любовью и почтением руку. И делал он это сознательно, говоря, что этот Антоний «единственный поп, которого он чтит и любит!» Отец Антоний был довольно долго настоятелем Малоярославецкого монастыря; но не имея ни малейших административных наклонностей и постоянно больной, он считал свое настоятельство мукой и мечтал лишь об одном, чтобы поскорее от игуменства избавиться и окончить жизнь на покое в Оптиной, под крылом старшего брата архимандрита, которого он чтил как отца.
III
При поступлении в монастырь у Зедергольма не было никаких определенных средств к жизни. Особую келью в скиту ему не на что было построить. Граф А.П. Толстой построил ему на свой счет красивый и просторный русский бревенчатый домик с крылечком в сельском вкусе, зеленою железною крышей и теплыми сенями. Внутренность этого жилища не поражала ничем особенным, ни чрезмерною суровостью, ни каким-нибудь исключительным, для инока неприличным изяществом. Обыкновенный старинного фасона желтый диван с деревянною спинкой; небольшая спальня за перегородкой; в углу много образов; портреты старцев и мирских друзей; множество книг и бумаг; большая чистота и примерный порядок… Кафельные голландские печи, которые зимой топились иногда так весело, услаждаясь светом и треском своим наши с ним долгие беседы…
В этом милом домике, устроенном рукой друга и покровителя, отец Климент прожил около пятнадцати лет, подвизаясь духом и трудясь письменно на пользу обители и церкви.
Очень скоро по водворении своем он стал помогать болезненному Старцу отцу Амвросию в обширной переписке его с духовными детьми и принял самое деятельное участие в духовных изданиях Оптиной пустыни. Его превосходное знание древних и новых языков, его образцовая, «истинно московская» литературная подготовка, его привычка к кабинетному труду, делали его незаменимым для подобной цели.
Вот перечень Оптинских изданий, в которых участвовал отец Климент:
1) Авва Дорофей, переведено с греческого; 2) Симеон Новый Богослов; 3) Феодор Студит, переведены с греческого в сотрудничестве с другими оптинскими монахами; 4) Иоанн Лествичник, вновь переведено и проверено с греческим; 5) «Царский путь Креста Господня» (Ставрофила).



