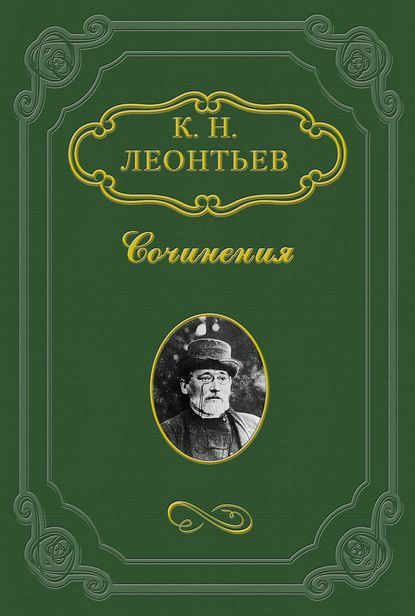 Полная версия
Полная версияКультурный идеал и племенная политика
Изумляюсь!..
V
Теперь – несколько слов о революции.
Посмотрим, как Вы понимаете это слово и как я. (До сих <пор> я думал, что мы с Вами и в этом согласны или хоть почти согласны.)
Прежде чем начать это письмо, я еще раз взглянул на Ваши строки; и, взглянувши, вспомнил поговорку: «Начал за здравие, а свел за упокой». Вы, наоборот, начали за мой упокой, а свели за мое здравие!
Последние строки Ваши следующие: «Что же все это может доказывать?! Конечно уж, не враждебность революции и консервативность начала космополитического…»
Превосходно! Я рад; мы опять почти согласны.
Взгляните на цитату – я не изменил ни одного Вашего выражения. Но исполнивши эту обязанность строго, я хочу теперь для большей ясности перефразировать Вас немного. Эта последняя мысль Ваша, сама по себе очень ясная, по моему мнению, несколько темновато выражена со стороны стилистической; но в связи со всем предыдущим она все-таки яснее, чем здесь у меня, в таком отрывочном виде. Мысль эта очень мне дорога для моих объяснений и возражений, и потому я ищу перефразировать ее поудобнее. Хочу, чтобы она, и отдельно от текста Вашего взятая, была вполне ясна.
«Космополитическое начало, конечно, не враждебно революции; оно вовсе не консервативно», – говорите Вы. Иными словами, космополитическое начало всеразрушительно.
Но ведь и я это самое хотел сказать. Стремление человечества ко всеобщей политической солидарности при всеобщем однообразии бытовом и умственном – это-то я зову (по-прудоновски) революцией; а никак не разные восстания, мятежи, цареубийства и другие насильственные беззакония народов и отдельных лиц. Самые мирные, закономерные и даже, несомненно, ко временному благу ведущие реформы могут служить космополитизму и всеуравнительной революции; и самый насильственный, кровавый и беззаконный с виду переворот может иметь значение государственное, национально-культурное, обособляющее, антиреволюционное (в моем и прудоновском смысле).
Вообразим себе ретроспективно ужасную для русского сердца и, слава Богу, теперь уже невозможную вещь. Вообразим себе на минуту, что в <18>81 году торжество нигилистов в России было бы полное. В России республика; члены дома Романовых частью погибли, частью в изгнании. Монастыри закрыты; школы «секуляризованы»; некоторые церкви приходские, так и быть, пока еще оставлены для глупых людей.
Чернышевский – президентом; Желябов, Шевич, Кропоткин – министрами; сотрудники наших либеральных газет и журналов – кто депутатами, кто товарищами министров. Правительство учреждено; оно продержалось даже 10 лет. Все реформы в высшей степени эгалитарные и космополитические. Но и недовольных очень много; недоволен и простой народ гонением на религию, хотя бы и осторожным. Если бы мы с Вами при таких порядках сумели бы поднять бунт, рискуя собственной жизнью, убили бы Чернышевского и министров, повесили бы с немного грешной радостью всех редакторов и депутатов, им преданных; открыли бы снова все монастыри и церкви и с торжеством возвратили бы на дедовский престол возлюбленный царский род наш, – конечно, это была бы тоже своего рода революция, в смысле кровавого и глубокого переворота, но, конечно, не в общем смысле служения космополитизму – или всеобщему претворению людей в «среднего и бесцветного европейца».
Прудон зовет этот эгалитарный прогресс революцией, и эта революция – это обращение людей в среднего европейца – его идеал… Я же принял его терминологию не по сочувствию этому идеалу, а по ненависти к нему. Прудон яснее всех, по-моему, указал на то, к чему именно идет человечество в XIX веке. Приятно и полезно знать имя своего врага и понимать ясно его характер и значение (см. «Византизм и славянство»).
Я позволяю себе даже думать (как Вам давно известно), что этот космополитизм губителен и для всего человечества, а не только для отдельных культур и наций (об этом последнем всякий и без нас знает).
И если бы, беседуя или споря со мной, космополит сказал бы мне: «Какое мне дело до ваших особых культур и наций. Я и единомышленники мои заботимся о всечеловечестве, а не об отдельных и оригинальных его группах, которых взаимная вражда и войны задерживают наступление эры всеобщего мира и солидарности, всеобщего благоденствия…»
Я отвечал бы на эти слова прежде всего тоже вопросом: «Вы желаете земного блага всему человечеству?»
– Да.
– Какое же может быть на земле благо человечеству, когда оно, достигши этого состояния высшего однообразия и смешения при наибольшей, неслыханной еще подвижности жизни, должно непременно гибнуть – вымирать постепенно или наложить на себя руки одним актом воли, как пророчит нам Эд. ф. Гартман.
Теперь, несмотря на все неудобства жизни, еще не лишенной разнообразия и не дошедшей в быстроте обмена до окончательного безумия, посягают на свою жизнь хотя и чаще прежнего, но все-таки немногие (либо от уныния и скуки, либо, гораздо реже, от пресыщения); тогда же, вероятно, настанут одновременно и всеобщее пресыщение дарами высшей цивилизации, и всеобщая тоска от невозможности выхода и возврата. Впрочем, думаю, что Гартман прав вообще относительно будущей скуки и гибели человечества; я не хочу утверждать, что он <…> форму гибели.
– Кто это докажет? Быть может, цивилизация изобретет такие утешения и такие ресурсы, которых мы и вообразить теперь не можем.
– Что она изобретет еще очень многое и неслыханное, это весьма вероятно. Но что наслаждаться устаревшее человечество этими изобретениями будет слабо, – это ясно уже из современных примеров; теперь все до того привыкли к железным дорогам и телеграфам, что, с одной стороны, <никто> отказаться от них не хочет, а с другой – ничуть не намерен считать себя более счастливым на свете, оттого что может скорее прежнего куда-нибудь доехать. Прежние страдания и отдельным человеком, и целым обществом легко забываются; новые же неудобства, во всем неизбежные, ощущаются глубоко и раздражают тем сильнее, чем более люди становятся нервны и впечатлительны от совокупности «цивилизующих» условий. Уже и в конце нашего XIX века заметен сильный упадок надежд, если сравнить наше время с концом XVIII столетия. В XVIII веке, оглядываясь назад, мечтали о небывалой идиллии золотой первобытности; устремляясь вперед, – ждали всех благ от царства безусловного разума. Теперь историю прошлого знают лучше и в разум будущего верят меньше. Тогда было страшнее, теперь скучнее. Тогда жизнь была гораздо разнообразнее нынешней по образам своим и много медленнее по движению и обмену, жизнь сама по себе тогда была поэтому глубже; и благодаря обильным запасам этой прежней глубины и этого прежнего богатства искусство и мысль в первой половине нашего века стали так неслыханно богаты и разнообразны. Усилившееся в конце XVIII и в начале XIX века обменное движение жизни еще не могло сразу посредством смешения превратить все цвета прежней жизни в один серый (буржуазно-прогрессивный). Это ускоренное движение придало только всему еще сохранившемуся больше психичности, так сказать, и усилило донельзя сознание европейского человечества. К половине нашего века движение это перешло за ту черту, за которой оно действительно одушевляло людей, усиливало сознание, не губя окончательно наивных начал и разновидность жизни; обменное движение это теперь все усиливается; разновидность же и бессознательность (на Западе, по крайней мере) гибнут все более и более… Все смешивается, все понижается, все, бледнея и бледнея, несется вперед в вихре, ужасающем ум. И самому неудержимо растущему самосознанию человеческому – этот вред и эта гибель мало-помалу становятся ясными. Один весьма умный и ученый знакомый мой, согласный со мной – относительно вреда подобного ускорения жизни в связи с упрощением ее образов, – выразился однажды так: «Этим путем можно дойти до того, что вся жизнь сделается похожей на жизнь в гостинице; один номер немного побольше, другой поменьше; один пониже, другой повыше; в одном обивка мебели коричневая, в другом синяя, в третьем красная; но фасон даже мебели везде одинаковый. И ни в одном из этих номеров больше двух-трех суток не позволяют обстоятельства прожить. Необходимо переходить из одного в другой. Беспрестанные перемены на фоне глубочайшего однообразия». Не правда ли, прекрасное уподобление? Будет невыразимо тяжело, когда все станет скучным и бесцветным. Жить не захотят.
Вот как я понимаю космополитизм; вот что я называю то революцией, то эгалитарным прогрессом, смотря по требованиям речи и мысли.
Однородный эвдемонический космополитизм – это цель; революционный прогресс или эгалитарная революция есть современное движение к этой цели; по мнению Вашему, эта цель – блаженство жизни земной. По-моему, – это гибель земного человечества, это смерть его. Прежде смерть – духовная, нравственная, эстетическая; а потом и физическая. И если Вы любите человечество, как Вы утверждаете, то зачем же Вы хотите ускорить его гибель. Так или иначе все живое, все органическое, все даже существующее в мире явлений, конечно, гибнет наконец; но любя что-нибудь в этом мире явлений, я не буду ускорять его гибель, а буду придумывать средства – как удалить час этой гибели; как задержать процесс разрушения!
Вот что бы я сказал космополиту.
Но зачем мне Вам-то, г-н Астафьев, говорить все это?
Ну, не досадно ли?
Было время, когда Вы отлично знали, как я обо всем этом думаю. Я не беру на себя смелость утверждать, что Вы со всем этим соглашались вполне; я говорю – только: знали.
Почему же в этой, по-Вашему, «блестящей» брошюре я вдруг стал неузнаваем?
Зачем назвали Вы мою картину современной Европы «блестящей»? Я знаю, я догадываюсь, что Вами руководило то особого рода, доброе моральное чувство, которое располагает деликатного и благородного человека сказать другому не лесть, а приятную правду, и в особенности тогда, когда приходится тут же порицать его. Я признателен Вам за это, и хотя я, как Вам известно, избегаю писать о чистой этике, о «любви» и т. д. (ибо эта сторона дела трудами других у нас обеспечена); но смею надеяться, что я и сам способен иногда к добрым движениям, и в других умею их ценить. Особенно склонен я ценить эти добрые и честные движения в нашей литературе, без нужды бранчливой, лицеприятной и предательской, в идеях доселе еще робкой, в приемах грубой и даже злой. Вы в литературе не только честны, Вы в ней добры и благородны; Вы любите отдать справедливость, там, где возможно, даже и тем писателям, с которыми Вы во всем почти не согласны… ищете случая сказать и о них доброе слово. Вы в нашу пристрастную, не тонкую, несмелую и нечестную критику вносите нравственный элемент. Честь и слава Вам за это.
Но мне на этот раз Ваша похвала не доставила удовольствия! Не говорю, что у меня нет авторского самолюбия; «homo sum» и т. д.{25} Его, может быть, у меня и много; но могу сказать смело, что любовь моя к родине гораздо сильнее его.
Ах! Если бы кто-нибудь сказал об этой моей брошюре так:
– Основная мысль Леонтьева очень верна, но она очень дурно выражена; брошюра его очень дурно написана, и даже картина современной Европы не совсем верна в том-то и том-то. Но вопрос, затронутый им, для России в настоящее время до того важен, что я хочу взять на себя труд представить читателям его полезную и важную мысль в более доступном виде; я хочу, так сказать, «вылущить» ее для пользы общей из его бестолковой и сбивчивой стилистики. Леонтьев дальновидный и добросовестный патриот, но писатель он прескверный и темный. Я его исправлю; я спасительные мысли его очищу, освобожу от его плохой формы.
Но – увы – никто не называет меня плохим писателем, даже и ненавидящие идеи мои сознаются, что пишу я недурно; но в толк меня берут сразу до сих пор еще очень немногие, да и то большей частью тайком, в частных ко мне письмах, например.
Боюсь впасть в искушение, боюсь через меру возгордиться этим!
Понимаете?
* * *Итак, ни строго охранительную политику Государя Николая Павловича, ни либеральную политику прошлого царствования никто не зовет национальной.
Но дух текущих <18>80-х годов национальным зовут все, и приверженцы национализма, и враги его.
И чувствуется, что это верно.
Почему же оно верно? Почему это чувствуется всеми?
Нельзя ли вникнуть в это, нельзя ли прямыми указаниями на факты оправдать еще более это верное чувство?
Оправдать его этими фактами легко; этих фактов очень много.
Уже в <18>82 году в моих «Письмах о восточных делах» я указывал на чрезвычайную важность Манифеста 29 апреля <18>81 года.
Вот что я говорил тогда.
Если сопоставить два государственные акта, одинаково для России важные, – акт 19 февраля <18>61 года и акт 29 апреля <18>81 года, – то увидим, что они дополняют друг друга.
В эмансипационном акте <18>61 года есть две стороны; одна либеральная – освобождение крестьян от крепостной зависимости; другая – вовсе не либеральная – прикрепление этих крестьян к земле. Последнюю меру надо приветствовать, как нечто вполне самобытное и национальное, имеющее вдобавок по всем признакам и будущность. С первой мерой достаточно только мириться, как с неизбежною данью веку, как с необходимой, хотя и скользкой, ступенью политической зрелости[7]. Эмансипация крепостных – это тот род либерального европеизма, о котором я говорил: «Надо знать, где Европа неизбежна и где нет…» Она была именно тут – эта неизбежная «Европа», ибо достаточно только вспомнить о том, как облегчился бы труд нигилистов наших, если бы они начали действовать на крестьян еще не свободных.
Весьма возможно, что без всех остальных реформ: без всеобщей воинской повинности, без слишком демократического строя в земстве, без суда присяжных, без чрезмерного размножения земских школ и т. д. и т. д., – можно было бы обойтись, ничуть не рискуя подвергнуть Россию опасностям и ужасам кровавых волнений. Но без освобождения крестьян обойтись в половине XIX века было невозможно… Это, конечно, было весьма рискованное, но вместе с тем и спасительное привитие искусственной болезни для предотвращения несравненно более опасного естественного недуга какой-нибудь пугачевщины, – которая вдобавок, с высшей государственной точки зрения, страшна не столько анархическим ужасом своим, сколько теми легальными последствиями, которые могли из нее истечь, например, дарованием демократической конституции.
Несомненно, что при разрешении этого важного вопроса правительство руководилось не одним только человеколюбием (нравы помещиков и в <18>40-х годах были уже вовсе не круты), но и государственной мудростью.
Это был европеизм очень простой и либеральный и, к несчастью, неизбежный.
И не в нем поэтому и главная заслуга акта 19 февраля, – а во второй мере – наделении неотчуждаемой землею, в мере, которую никак уже либеральной назвать нельзя, а надо, скорее, назвать принудительной или государственно-социалистической. И теперь, если взять в акте <18>61 года только эту сторону и поставить ее рядом с той решимостью сохранять неприкосновенным самодержавие, выраженной в Манифесте <18>81 года, то будет ясно, что они дополняют друг друга в смысле и стиле национальном.
Не либерально – самодержавие.
Не либерально – и прикрепление крестьян к земле.
Не европейского (современного) духа первое.
Не в европейском (современном) стиле и второе.
В этих двух основах кроются залоги, быть может, весьма своеобразного государственно-экономического строя. Принудительно-общинного; сословно-социалистического; основанного на ограничении права вообще отчуждать земли. И дворянская, и крестьянская земля должны стать не столько льготой, сколько ношей государственной.
В том же первом «Письме о восточных делах» я в другом месте говорил так. <… >{26}
Итак, первый шаг нового царствования – Манифест 29 апреля есть уже сам по себе первый шаг сознательного национализма во внутренних наших делах{27}.
Русское православное самодержавие может стать могучим и сознательным орудием для осуществления того культурного идеала, к которому отчасти бессознательно стремится Россия; если только в обществе нашем надолго продержится преобладающее в нем теперь настроение.
Отвращение от конституционных порядков, от борьбы организованных по-западному партий; от всего того, что можно назвать хронической анархией, возведенной в легальный идеал, – это спасительное отвращение все более и более укореняется в нашем общественном сознании.
И укореняется оно в такое время, когда даже и Япония, недавно еще столь самобытная и таинственная, ничего не может придумать лучшего, как сразу попасть на общий либерально-европейский путь. А в государствах западных уже сама почва стала такова, что самодержавие, мистически оправданное и органически усвоенное, на ней произрасти не может. Надо обратить внимание и на то, что на Западе к концу этого века вид серьезной монархии пока имеет только одна Германия. Но и в этой Германии парламентаризм уже глубоко въелся в кровь и плоть общества; въелся так, что и сам железный канцлер ни разу не решился посягнуть на него.
Монархизм в Германии держится не органическими потребностями общественного строя, как у нас, а лишь недавними преданиями военной славы и политического преобладания, одинаково для немцев непривычных.
К тому же монархизм в Германии безосновен; у него нет религиозного положения, общего для всех германцев от Тироля и Баварии до берегов Балтийского моря.
Одна политическая ошибка, одна военная неудача – и германское императорство, в принципе, уже ограниченное и безосновное, имеющее, значит, одно только практическое значение, станет немедленно властью непосильной и настолько же бессильной в делах внутренних, насколько бессильна власть королей итальянских или испанских.
Всякому ясно, что у нас не то; у нас идея православного самодержавия кладется теперь сознательно в основу русского государственного права, и (что особенно важно) потребность положить его в основу русского государственного права усиливается у нас в такое время, когда в передовой западной мысли все глубже и глубже проявляется разочарование в тех общелиберальных идеалах, которым служила так искренно и страстно вся Европа в течение последних ста лет.
С точки зрения самобытности (т. е. культурного национализма) это совпадение сознательного утверждения у нас монархического принципа с разочарованием в демократии и либерализме на Западе потому важно, что почва западная, говорю я, сама к монархизму религиозному стала уже непригодной; и сколько ни трудись мыслью избранные умы современной Европы на этом антиравенственном пути, жизнь сама уже не может отвечать их требованиям. Европейские государства должны будут пережить последние попытки высшего и последнего уравнения – уравнения экономического. Что за этими попытками воспоследует, понять еще нельзя; но их предвидеть нужно.
Я не хочу всем этим сказать, что в России экономическое состояние превосходно, это было бы смешно; разумеется – нет. Я напоминаю только, что наше экономическое состояние несходно с западным. Наши хозяйственные недуги могут быть очень сильны; но они иного разряда. Есть болезни, которые сопровождаются жестокими болями; но они не только не смертельны, но нередко каким-то непонятным образом предохраняют людей от заболеваний другого рода – несравненно более опасных. Таковы, например, многие чисто нервные страдания; при них люди не только живут очень долго, но еще и становятся менее здоровых восприимчивы к некоторым заразам и т. п. Недавний отказ русского правительства принять участие в международной конференции по рабочему вопросу подтверждает мою мысль.
Этот отказ есть также весьма важный образец мудрого решения не идти впредь во всем по западным путям. Это тоже живой и яркий пример национального сознания. Это национализм культурный, обособляющий нас от общезападного стиля, избавляющий Россию от гибельной общеевропейской солидарности.
Несомненно, что этот особый национальный оттенок в жизни хозяйственной есть плод того наделения крестьян землей со значительной долей неотчуждаемости, которое составляет высшую и главную (быть может, даже и единственную) заслугу «реформенной» эпохи нашей.
Третьим образцом культурного национализма нашей политики <18>80-х годов необходимо признать стремления правительства нашего воссоздать в новых формах сословный строй России.
Гр<аф> Дм<итрий> Андр<еевич> Толстой, бывший в <18>70-х годах обер-прокурором, довольно пошлым и даже весьма вредным для Церкви, как министр внутренних дел, явился истинно государственным мужем.
Не будучи ничуть славянофилом в теории, на практике он оказался истинным славянофилом – в смысле не племенном, конечно, а культурно-государственном; в смысле все того же обособления нас от заразы, о которой я говорил. Он дал первый толчок к восстановлению русского дворянства в то время, когда даже в аристократической Англии древние привилегии лордов держатся на волоске и утрачивают с каждым годом практическое свое значение; а в других государствах Европы – все уже давно глубоко уравнено юридически. Вступление на путь сословных реформ было вызвано в России не теоретическими и подражательными предрассудками и наклонностями, как вызваны были многие либеральные реформы <18>60-х годов, а самыми настоятельными, самыми грубыми, так сказать, требованиями и особенностями местной жизни.
Русский крестьянин оказался после 25-летнего опыта неспособным к «легальной» свободе; почувствовалась крайняя нужда – закрепостить его снова, но уже нелично отдельным членам высшего сословия, а целому государству – через посредство новых властей, из среды того же старого дворянства русского, которое, что там ни говори, есть реальная вековая сила нашего общества, сила, созданная самой историей нашей, не во гнев будь сказано ревнителям невозвратимой допетровской старины!
Учреждение земских начальников, конечно, реформа не чисто сословная, а только полусословная, полубюрократическая. Но – что же делать. Национальная особенность нашего дворянства, его, так сказать, историческая оригинальность в том и состоит, что оно издавна было не столько родовой аристократией, сколько наследственным чиновничеством. Что же тут худого?
Герцог Морни, защищая Россию от нападок французских либералов во время польского мятежа, выразился о русском дворянстве довольно удачно: «Дворянство русское есть дворянство демократическое; оно доступно всякому путем заслуг и государственной службы».
Пусть так и будет: «Русское дворянство есть наследственное чиновничество», в среде которого, однако, находится много людей «действительно знатных старинных родов»{28}.
Смешно подумать, что некоторые славянофилы, не дерзая выйти из круга заповеданного учения, ропщут на эти реформы, доказывая, что у нас нет такой аристократии, как на Западе, и потому привилегированные сословия не нужны. А нужно непременно только «две избы»: «Изба воеводская» и «изба земская». «Избы же дворянской» строить нельзя; потому что у нас не было такой родовой аристократии, как в Европе.
Мало ли что! Тем лучше, что мы и в этом хоть немного самостоятельны и независимы.
К сословной реформе гр <афа> Толстого можно как нельзя лучше приложить следующие два правила.
Во-первых, то, что «народ вообще переносит охотнее привилегии высших сословий, когда эти привилегии соединены с действительной властью, чем привилегии без власти».
А во-вторых, то, что вообще «не жизнь надо кроить по теории, а теорию выводить из жизни».
Первая мысль принадлежит Токвилю; вторая – немецкому социологу Рилю в его книге «Страна и люди» («Land und Leute»). Разумеется, что всякая теория была бы не нужна, если бы она к жизни вовсе не прилагалась. Теории («сознание») рано или поздно становятся необходимыми и для практики дел живых; ибо приходит время, когда одни эмпирические действия становятся недостаточны; но – надо тут два процесса: из жизни извлечь теорию и в жизнь же ее обратить.
Конечно, можно сказать почти наверное, что гр. Толстой и его помощники руководились больше ближайшими практическими нуждами, чем какой бы то ни было общей и глубокой социальной теорией; но эмпиризм их должен быть оправдан будущей теорией, по крайней мере, в следующем условном смысле:



