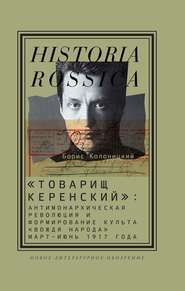
Полная версия:
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март – июнь 1917 года)
Создание культа «борцов за свободу» соответствовало и общественным запросам, что оказало воздействие на развитие массовой культуры. Показательно, например, появление новых кинематографических лент «Бабушка русской революции (Мученица за свободу)» (фильм о Е. К. Брешко-Брешковской), «Борцы за свободу», «Солнце свободы (Слава борцам за свободу)», «Смерть лейтенанта Шмидта» и др.[277] Память о «борцах за свободу» была востребована в то время зрителем, читателем, потребителем, и это создавало фон для реализации проектов политики памяти.
Нередко необходимость похорон участников революции приводила к появлению новых символов и ритуалов, при этом использовалась революционная традиция. Вследствие захоронений и перезахоронений противников «старого режима», в результате других символических действий менялась культурно-политическая топография населенных пунктов, что влияло и на ритуалы революционных торжеств, и на сценарии политических акций. Городские политические пространства перекодировались, появлялись новые места политической сакрализации. Процесс формирования местных культов «борцов за свободу» использовался разными политическими силами – революционное прошлое было важным ресурсом в борьбе за власть. Некоторые местные акции такого рода приобретали общенациональное значение. Революционные власти Севастополя послали специальную экспедицию, которой удалось найти останки лейтенанта П. П. Шмидта и других участников восстания 1905 года. В торжественной обстановке перезахоронение «борцов за свободу» было совершено в Севастополе. Важную роль в этой церемонии играл командующий Черноморским флотом адмирал А. В. Колчак, который первым шел за гробом «борца за свободу»; похороны превратились во впечатляющую оборонческую демонстрацию. Вряд ли действия Шмидта в 1905 году соответствовали представлениям адмирала об офицерской чести, но он наверняка осознавал политическую необходимость организации торжественного перезахоронения революционеров. После Февраля Колчаку некоторое время удавалось сохранять дисциплину на флоте, чему способствовали и его авторитет признанного флотоводца, и его умение сотрудничать с местными комитетами, и способность адмирала прагматично использовать риторику, символику, ритуалы революции для достижения своих целей. Казалось, что относительно «здоровый» Черноморский флот под его руководством может стать центром патриотической мобилизации. Этому должна была способствовать и политика памяти: адмирал и его сотрудники напоминали стране о выдающейся роли Черноморского флота, и особенно Севастополя, в истории страны. Оборона города в дни Крымской войны и восстания эпохи Первой российской революции обосновывали право командования и комитетов флота выступать в роли авторитетного общенационального центра. Некоторые же поклонники адмирала Колчака шли еще дальше и представляли его как продолжателя дела лейтенанта Шмидта[278]. Современные биографы командующего Черноморским флотом, как правило, не упоминают о его участии в создании культа «борцов за свободу», да и сам Колчак вряд ли был рад участвовать в прославлении героев революционного движения, однако и он, и его сторонники понимали практическую необходимость таких действий и поддерживали их своим авторитетом.
Культ павших «борцов за свободу» прагматически использовали и другие сторонники продолжения войны. Так, 25 марта, при открытии Седьмого съезда конституционно-демократической партии, депутаты почтили память борцов, «положивших свою голову за народную свободу и открывших нам путь к развитию нашей деятельности…». Видный же представитель партии князь П. Д. Долгоруков включил в число «борцов за свободу» и российских военнослужащих: «Я предлагаю вам объединить священную память борцов за свободу извне, от внешнего врага, со священной памятью борцов за свободу России от внутреннего врага и почтить эту священную память объединенным молчаливым и торжественным вставанием». Депутаты, разумеется, откликнулись на этот призыв[279]. Если социалисты, прославляя своих «борцов за свободу», подчеркивали их участие в борьбе за социальное освобождение («борцы за свободу трудового народа»), то либералы стремились соединить риторику освободительного движения и язык патриотической пропаганды военного времени. Наличие различных, порой конкурирующих проектов создания культа «борцов за свободу» говорило и о распространенности этого культа, и о потенциале его политического использования. Сам же факт того, что представители буквально всех политических сил – от сторонников Ленина до поклонников Колчака – участвовали в создании данного культа, свидетельствовал о временном консенсусе относительно проекта памяти, сакрализующего павших революционеров.
Действия Керенского в создании культа «борцов за свободу», как видим, не представляли какого-то исключения, однако и его биография, и его политическая позиция в 1917 году, и его авторитет, и контролируемые им ресурсы придавали его акциям особое значение и особый смысл. К тому же по сравнению с Колчаком и некоторыми другими участниками политического процесса «революционный министр» прославлял «борцов за свободу» с бóльшим энтузиазмом и большей искренностью. Со времен своей юности он был носителем политической культуры радикальной интеллигенции – культ «борцов за свободу» был необычайно важен для него самого, для его друзей и родных, и, например, в его собственной квартире до революции хранились некие памятные вещи, напоминающие о восстании лейтенанта Шмидта[280]. Риторика и ритуалы сакрализации «борцов за свободу» были Керенскому хорошо известны и эмоционально значимы для него.
В той версии истории, которую революционный министр предлагал новой России, нашлось место и для некоторых царей. Так, 5 марта он торжественно передал в Первый департамент Сената акты отречения от трона Николая Второго и великого князя Михаила Александровича. При этом Керенский приветствовал «учреждение, созданное гением Великого Петра для охраны права и законности». Вряд ли такое заявление понравилось всем противникам монархии, однако показательно, что Тан, ветеран революционного движения, счел нужным обратиться именно к данным словам, утверждая: «Поучительно отметить эту словесную дань культурного человека гению Великого Петра, этого свирепого и могучего революционера на троне. Не в пример другим, Керенский явно сознает различие между Петром Великим и ничтожным Николаем Романовым»[281].
Отношение министра к Петру Великому проявилось и в другой ситуации. В июле, в условиях, когда некоторые военные корабли, названные в честь монархов, меняли свои имена, Центральный комитет Балтийского флота поднял вопрос о присвоении учебному судну «Петр Великий» нового имени – «Республика». Керенский же счел нужным сохранить «историческое наименование». Очевидно, что и многие моряки считали возможным оставить «революционера на троне» в пантеоне великих предшественников новой России: всего в составе флота было три корабля, названных в честь Петра I, и все они сохранили свои названия во время революции[282].
И все же именно культ героев революционного движения играл особую роль в той версии прошлого, которую Керенский предлагал стране. При этом между влиянием самого политика и его участием в разработке и реализации революционной политики памяти существовала связь: создавая священный культ «борцов за свободу», он укреплял собственный авторитет[283].
В той версии истории России, которую предлагал Керенский, особое место уделялось декабристам. Показательно, что даже в напряженной атмосфере революции он находил время для обсуждения проекта монумента, посвященного первому поколению «борцов за свободу». Идею возведения памятника политик обсуждал с великим князем Николаем Михайловичем, масоном и знатоком эпохи Александра I, – этот представитель дома Романовых изъявил готовность пожертвовать на указанную цель значительную сумму денег[284]. Примерно через месяц Керенский направил в главную газету партии социалистов-революционеров письмо, которое и было 8 апреля опубликовано. Министр счел нужным высказать свое мнение относительно места для монумента: «При разрешении вопроса о выборе места для памятника жертвам революции надо вспомнить слова Николая Тургенева в его книге “Россия и русские”: “Через сто лет эшафот (декабристов) послужит пьедесталом для статуи мучеников”. Мне кажется, что русское общество этот завет должно выполнить»[285].
Керенский, по-видимому, искренне чтил память о декабристах еще до того, как стал министром. Вместе с тем память об офицерах, бросивших вызов самодержавию, была весьма важна для политического использования в 1917 году: напоминание солдатам об этой когорте «борцов за свободу» могло способствовать смягчению напряженных отношений между рядовыми военнослужащими и офицерами, а эта проблема оказалась чрезвычайно актуальна уже в первые дни Февральской революции[286]. Так, 14 марта, во время встречи с писателями Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, Керенский просил Мережковского, работавшего тогда над романом «Декабристы», написать брошюру, которая напомнила бы солдатам о подвиге первых офицеров-революционеров и тем самым смягчила бы трения в войсках. Брошюра Мережковского «Первенцы свободы» вскоре увидела свет. (Фактическим ее автором была Гиппиус: в ранней редакции своего «дневника» она пишет о своей работе над «декабристами» «для Керенского».) При этом первый вариант текста, опубликованный в журнале «Нива», был посвящен «продолжателю дела декабристов» А. Ф. Керенскому[287]. Тем самым революционная деятельность министра представлялась как успешное завершение борьбы, начатой «первенцами свободы», бережным хранителем памяти о которых он выступал.
О первой когорте «борцов за свободу» революционный министр считал необходимым вспоминать и в своих речах, адресованных солдатам. Так, выступая 9 марта перед гарнизоном Петропавловской крепости, Керенский напомнил слушателям о декабристах и призвал солдат и офицеров к единству[288]. О декабристах, солдатах и офицерах говорил он и в середине апреля, выступая в Ревеле перед военнослужащими[289].
«Декабристская» тема стала звучать в выступлениях Керенского особенно часто после того, как он возглавил Военное министерство. Так, 7 мая он объезжал полки Петроградского гарнизона, всюду произносил речи и призывал к «железной дисциплине» на разумных основах и при взаимном доверии солдат и офицеров. В некоторых же гвардейских полках министр указывал на их исторические заслуги и «особенно обратил внимание на те гвардейские полки, из среды которых вышли декабристы». Можно предположить, что этой теме придавалось особое значение: газета военного ведомства специально подчеркивала ее[290].
На следующий день, 8 мая, министр коснулся этой темы и на Всероссийском съезде офицерских депутатов, проходившем в Петрограде. Он призвал делегатов стать сознательными продолжателями дела декабристов и практически использовать память о них для укрепления революционных вооруженных сил: «Я полон уверенности, что традицию русской армии, которая идет со времен декабристов, эту традицию корпус офицеров подымет на должную высоту». Его слушатели с энтузиазмом восприняли эту речь[291].
Вскоре, выступая 17 мая в Севастополе, Керенский напомнил об особых «боевых и революционных традициях» Черноморского флота: «Светлая память лейтенанта Шмидта ближе вам, чем кому-либо, и я уверен, товарищи, что вы до конца выполните ваш долг перед страной». В другой записи той же речи указывается, что оратор отмечал особую революционность своей аудитории: «Не мне на Черном море, где витает память Шмидта, не мне говорить вам о борьбе за революцию». Во время этого визита министр посетил могилу лейтенанта Шмидта и возложил на нее Георгиевский крест – тем самым участие в революции приравнивалось к воинскому подвигу. Одной из целей поездки Керенского в Севастополь было стремление предотвратить развитие возникших к тому времени конфликтов между Колчаком и выборными организациями флота, между командованием и рядовыми моряками. И в данном случае обращение к памяти революционера-офицера должно было способствовать решению актуальных политических задач. Керенский стремился укрепить авторитет Колчака, ссылаясь на заслуги флотоводца в утверждении нового строя: «Вы исполнили долг гражданина революции, господин адмирал, от имени Временного правительства приношу вам глубокую благодарность». Морякам же министр напоминал об их исторической ответственности, о верности памяти «борцов за свободу», о необходимости продолжения их дела: «Нельзя безрассудно растратить великое наследство, добытое кровью и работою многих поколений русской интеллигенции, начиная с декабристов. Случайно мы сделались первыми обладателями великой свободы, и мы обязаны беречь и передать ее нашим потомкам»[292].
Культ «борцов за свободу», создававшийся разными политическими силами в 1917 году, невозможно было представить и без прославления здравствующих ветеранов. Члены различных групп возвеличивали идейно близких им старых революционеров, становившихся «живыми памятниками» движения и легитимирующих своей поддержкой действующих лидеров[293]. Особое значение имело прославление Е. К. Брешко-Брешковской, которая вступила в революционное движение в 1870-е годы и более тридцати лет провела в заключении и ссылке. Партия социалистов-революционеров, членом которой она была, создала настоящий культ «бабушки русской революции»: выпускались ее портреты и биографии, в ее адрес направлялось множество резолюций, а публичные ее выступления привлекали повышенное внимание. При этом Брешковская не прославлялась как вождь партии, однако авторитет героини и мученицы, строившей свою жизнь под влиянием житий святых, авторитет ветерана революционного движения, всячески укреплявшийся эсерами, служил и ресурсом для укрепления влияния партии, и инструментом борьбы между различными партийными фракциями. Брешковская была одной из наиболее популярных фигур Февраля. Появился, как уже отмечалось, кинофильм, посвященный ее жизни, а различные группы военнослужащих и учащихся заявляли о себе как о почтительных «внуках» дорогой «бабушки». Пропаганда эсеров призывала своих сторонников быть продолжателями дела старой революционерки[294].
Керенский не уставал демонстрировать свое внимание ветеранам революционного движения – в том случае, если их взгляды соответствовали его политическому курсу. Авторитет этих людей был важным ресурсом, укреплявшим его собственное влияние. Выступая на съезде социалистов-революционеров, он с подчеркнутым пиететом отозвался о партийных «учителях», «руководителях», «великих борцах». Себя же в этой речи Керенский скромно отнес к «ученикам и рядовым работникам», к эсеровской «молодежи», которая в период реакции «ощупью, в потемках на свой страх» несла «огонек партийной веры, партийной жизни». Завершая выступление, Керенский даже заявил с энтузиазмом делегатам, что, получив многое из общения с «лучшими борцами», он всегда стремится «хотя одну минуту снова почувствовать себя только простым рядовым, ничтожным, мелким вашим товарищем»[295]. Этот прием он использовал и ранее, выступая на Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов. Там он заявил: «Ко мне на помощь пришли старые учителя, которых мы знали с детства»[296].
В первые недели революции Керенский неоднократно появлялся на публичных церемониях в обществе В. Н. Фигнер. Она участвовала в некоторых инициированных им акциях – например, возглавила фонд помощи бывшим политическим заключенным, который был создан по инициативе министра юстиции. В прессе отмечалось, что на нужды бывших политических заключенных и ссыльных только за одну неделю, с 17 по 24 марта, поступило 340 тысяч рублей, они направлялись на имя Фигнер и О. Л. Керенской. Вместе со средствами, которые поступали ранее супруге министра, общая сумма пожертвований в этот фонд составила 2 миллиона 135 тысяч рублей[297]. Акция такого масштаба, долженствовавшая помочь «борцам за свободу», которых освободила революция, свидетельствовала об авторитете Керенского, а участие Фигнер придавало начинанию еще больший размах. Возможность же помогать бывшим заключенным и ссыльным, многие из которых в это время пополняли ряды политической элиты революционной страны, была и важным политическим ресурсом для министра и его окружения[298].
Особое значение для Керенского имела дружба с Брешко-Брешковской, ставшая основой их политического сотрудничества. Они познакомились в 1912 году, во время его поездки в Сибирь, когда он участвовал в расследовании Ленских событий. Одним из первых распоряжений Керенского на посту министра юстиции был приказ о немедленном освобождении Брешко-Брешковской, причем он потребовал от местных властей торжественно доставить ее в столицу. 29 марта, после триумфальной поездки по стране, она прибыла наконец в Петроград. Керенский участвовал в торжественной встрече «бабушки», в тот день он находился рядом с ней; политические противники министра говорили даже, что он играет при «бабушке» роль ее «пажа». Ей же льстило внимание популярного героя Февраля. По предложению Керенского старая революционерка жила в его официальных резиденциях – сначала в здании Министерства юстиции, а затем в Зимнем дворце. Во время деловых завтраков, на которых присутствовали политики и дипломаты, приглашенные Керенским, она играла роль хозяйки. Позднее Брешко-Брешковская вспоминала: «Поехали к нему, в помещение министра юстиции, и там он меня приютил. Я все спрашивала, как бы мне найти помещение, а он возражал: “А разве Вам здесь неудобно?”, и так мы остались добрыми искренними друзьями на все время, – я скажу, навсегда»[299]. Может быть, старая революционерка не всегда чувствовала себя комфортно в бывших царских покоях, однако она вновь уступила просьбам Керенского: «Просилась я снова на свободу и снова не решилась уехать, не смогла отказать желанию Александра Федоровича видеть меня по соседству с собой. Там и жила на третьем этаже», – рассказывала она в другом варианте своих воспоминаний[300].
О своих особых связях с Керенским Брешковская говорила уже в 1917 году. Показательно ее выступление в апреле в Ревеле, куда она поехала вместе с министром юстиции: «Временное правительство сильно тем, что в его среде стоит Керенский, социалист, преданный друг народа… У вас есть верный друг, и друг этот – Керенский… Мы с ним родные, и родные не кровным родством, а по духу»[301].
Дружба «бабушки русской революции» и ее «внука» имела немалое политическое значение для них обоих. Брешко-Брешковская была живой легендой социалистов-революционеров, она десятки лет прославлялась партийной пропагандой, ее биография излагалась эсеровскими публицистами как житие подвижницы, посвятившей себя служению народу. Ее огромный моральный и политический авторитет прославленного «борца за свободу» укреплял позиции Керенского, освящал его действия. Но и для Брешко-Брешковской этот союз с Керенским и психологически, и политически был очень важен: молодой единомышленник, вождь победоносной революции был для нее доказательством ее собственной правоты, оправданием той борьбы с режимом, которую она вела всю жизнь. Керенский олицетворял новое поколение революционеров, которое успешно продолжало дело, так давно начатое ею. В то же время молодой министр, герой Февраля был для старой народницы своеобразным проводником в сложном и не всегда понятном мире современной политики.
Отношения между Керенским и Брешко-Брешковской были неформальными, теплыми, – такими они сохранились и впоследствии, в эмиграции. В своих воспоминаниях она именовала его самым выдающимся членом партии социалистов-революционеров[302]. (Вряд ли другие лидеры эсеров согласились бы с такой оценкой.) В ином варианте ее мемуаров содержится еще более восторженная характеристика Керенского: «Он всегда жил и, вероятно, всегда будет жить в лучших светлых представлениях о будущем человечества вообще и будущем русского народа в частности. Это свойство его души, этот великий талант самоотверженной любви и беспредельной готовности служить своему народу, вероятно, и послужили основанием того взаимного понимания, какое установилось между ним и мною. Я высоко ценю этого человека, я любуюсь его натурою как лучшим произведением нашего отечества»[303].
Брешковская и в 1917 году публично высоко оценивала деятельность Керенского. Посетив Таврическую губернию, она в начале июня так отзывалась в газете правых эсеров о настроениях жителей Крыма (ей казалось, что все, перед кем она выступала, с кем говорила, разделяли ее отношение к революционному министру, которого она описывала как известного «борца за свободу»):
Не заметно также недоверия к новому составу Временного правительства, хотя знакомство с его личным составом довольно слабое. Покрывается этот недостаток уверенностью в том, что пока в числе министров стоит Александр Федорович Керенский – ничего худого допущено быть не может. За пять лет, что имя Керенского стояло ничем не затуманенное на арене политической жизни России, население – даже в глухих углах безбрежной страны – привыкло чтить это имя и видеть в нем гарантию правды, законности, справедливости. Привыкли видеть в нем рыцаря, всегда решительного, всегда готового занять самое опасное положение ради бескорыстного служения своей родине. Своему народу[304].
Известная «мученица» и «героиня» революционного движения своим авторитетом подтверждала репутацию молодого «борца за свободу». И впоследствии Брешко-Брешковская и другие сторонники Керенского пытались защитить главу Временного правительства от нападок «слева» и «справа», обращаясь к биографии героя, жертвующего здоровьем и даже жизнью во имя идеалов революции. В такой ситуации Брешко-Брешковская писала в начале сентября о Керенском, рисуя образ политика, самозабвенно выполняющего личный патриотический долг: «…целых десять лет своей молодой жизни он отдает России, не щадя ни сил своих, ни здоровья, ни самой жизни своей»[305]. На протяжении 1917 года всякий раз, когда авторитет Керенского подвергался опасности, министр и его сторонники стремились укрепить его, вновь обращаясь к биографии «борца за свободу» и подтверждая эту репутацию с помощью авторитетных суждений ветеранов революционного движения.
* * *В спорах вокруг жизнеописаний Керенского отражались разнообразные конфликты того времени, и неудивительно, что эти споры интересны во многих отношениях. Отдельные эпизоды жизни Керенского – происхождение, семейные связи с бюрократическими кругами, некоторые скандалы, связанные с его деятельностью в Государственной думе, – опускались, замалчивались. Другие же, напротив, упоминались в различных жизнеописаниях, в биографических характеристиках, в резолюциях и газетных сообщениях, наконец, в автобиографических оценках, в речах Керенского и даже его приказах. Преследования со стороны «старого режима», нелегальная деятельность, юридическая защита «политических» в суде, смелые и «пророческие» речи в Государственной думе, а главное, активность в дни Февраля – прежде всего, ввод восставших солдат в здание Таврического дворца – эти эпизоды биографии Керенского были особенно важны для утверждения его революционной репутации. Отсылки к биографии должны были обосновать статус «испытанного» и «неутомимого» «борца за свободу», что, в свою очередь, являлось необходимым условием для утверждения образа революционного вождя. Немалое внимание уделялось и дару интуиции, которым, по мнению некоторых биографов, обладал Керенский. Способность быть «пророком» революции также обосновывала статус «вождя», харизматического лидера.
На протяжении десятилетий, предшествовавших революции, российские революционеры разработали жанр прославления своих «мучеников», «героев», «учителей». Эти приемы политической агиографии были использованы Керенским, его сторонниками и оппонентами: культ «борцов за свободу» становился официальным политическим культом новой России, а инициативы по его утверждению укрепляли авторитет политиков. В то же время политическое сотрудничество и дружба с авторитетными ветеранами освободительного движения позволяли Керенскому использовать их сакрализацию, осуществляемую посредством революционной пропаганды, как свой собственный ресурс.
Активно и инициативно участвуя в создании культа «борцов за свободу», Керенский одновременно становился частью этого культа, укрепляя свою репутацию «борца за свободу» как претендента на роль подлинного вождя народа. Героизируемая биография пламенного революционера, создававшаяся усилиями его сторонников, вписывалась в сакрализуемую историю революционного движения, которая становилась стержнем политики памяти новой России.
Полемика вокруг биографии Керенского, претендовавшего на роль «вождя революции», была связана с утверждением политической субкультуры подполья как основы политической культуры новой России. Эти дискуссии, в частности, содействовали утверждению текстов и образов, символов и ритуалов, оформлявших культ «вождя революции». При этом одни признавали Керенского «истинным вождем», а другие – нет. Однако в отношении должного набора качеств идеального «вождя революции» те и другие сходились – в данном случае позиции политических врагов порой были очень близки. Культ павших и здравствующих «борцов за свободу» создавал необходимую общую дискурсивную рамку для формирования культа «вождя».



