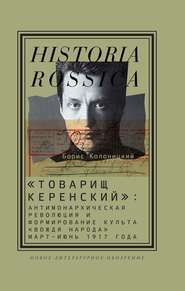
Полная версия:
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март – июнь 1917 года)
Культурно-политическое творчество первых месяцев революции, творчество, в котором активную роль играл и сам Керенский, оказало немалое влияние на советскую политическую культуру. Последняя также включала и культ «борцов за свободу», и канон описания жизни «вождя», и соединение военно-патриотической и революционной традиций. Тексты, символы, церемонии и ритуалы, созданные в это время на основе революционной традиции для решения актуальных политических задач, оказались применимы и в последующие годы.
Глава II. «Революционный министр»
Во Временном правительстве, созданном 2 марта, Керенский занял пост министра юстиции. Казалось, единственный министр-социалист вынужден будет играть второстепенную роль. Между тем вскоре именно он стал восприниматься как «сильный человек в правительстве», как ведущий политик России. Лидер партии социалистов-революционеров В. М. Чернов 3 мая заявил: «Мы видели, что А. Ф. Керенский, вступивший на свой личный риск и страх в состав правительства, получил одно время от газет титул “самого сильного человека в России”, – а в составе Временного правительства он был один. Удельный вес министра зависит не от чисто личных качеств, а гораздо больше от того, кто стоит за его спиной»[306].
Мы не знаем, насколько искренним был вождь эсеров: это заявление Чернов обращал к социалистам, опасавшимся участия своих партийных товарищей в правительстве, где количественно преобладали представители «буржуазии». Показательно, однако, что суждение Чернова не вызвало публичных возражений: очевидно, не только он считал Керенского «самым сильным человеком в России».
Что же наделяло молодого министра таким влиянием? Есть много способов ответить на этот вопрос, и Чернов предложил свое объяснение, вполне обоснованное, но все же недостаточное. В соответствии с целями настоящего исследования в этой главе будут рассмотрены те характеристики, которые давались Керенскому в марте – апреле 1917 года, а также те приемы, которые он использовал для укрепления своего авторитета. Это позволит понять, как в течение двух месяцев складывалась репутация «сильного человека» Временного правительства, репутация, которая будет востребована и при создании коалиционного правительства.
1. Великий примиритель
Л. Д. Троцкий уже в 1917 году иронично именовал Керенского «великим примирителем, посредником, третейским судьей», замечая: «И когда история открыла вакансию на третейского судью, в ее распоряжении не оказалось ближе подходящего человека, чем Керенский»[307]. В этих словах сквозит не только презрение к неудачнику, поверженному противнику, но и неприятие проводимой им политики примирения, «соглашательства».
Однако многие ценили как раз способность Керенского добиваться важных соглашений, достигать компромиссов. 6 марта учредительное собрание Союза инженеров, состоявшееся в Петрограде, обратилось к министру с приветствием, подписанным известным ученым и общественным деятелем Д. С. Зерновым. В обращении указывалось: собрание «признает Ваши заслуги перед родиной в деле достижения объединения Временного комитета и Совета рабочих депутатов по важнейшим государственным вопросам. Оно уверено, что Вы как член Временного правительства и впредь будете достигать тех же успехов, укрепляя авторитет Временного правительства, необходимый для победы над внешним врагом и обеспечения завоеванной свободы»[308].
Разные люди по-разному оценивали роль Керенского в дни Февраля. Одни выделяли его речи в Государственной думе, другие – тот факт, что именно он призвал восставших солдат войти в Таврический дворец, третьи указывали на аресты виднейших представителей «старого режима». В обращении Союза инженеров, отражавшем, по-видимому, мнение и других представителей столичной интеллигенции, отмечалась функция Керенского как объединителя сил, осуществивших переворот: участие политика было критически важно для достижения сотрудничества и координации действий Временного комитета Государственной думы и Петроградского Совета рабочих депутатов[309].
Схожая оценка действий Керенского содержится и в других источниках. «Петроградская газета», назвавшая министра «добрым гением русской революции», давала ему такую характеристику: «Он первый из депутатов приветствовал революционные войска, он же санкционировал арест вдохновителя старого режима И. Г. Щегловитова, заперши его в министерский павильон при Таврическом дворце. А. Ф. Керенскому принадлежит также великая заслуга по установлению связи между Временным правительством и Советом рабочих депутатов»[310].
Как мы видели, авторы цитируемого выше обращения Союза инженеров также выражали уверенность, что Керенский и далее будет укреплять авторитет Временного правительства, и это было признанием влияния молодого политика. Влияния, основанного и на авторитете, который он приобрел, активно участвуя в перевороте, и на том уважении, которым министр юстиции, исполнявший также должность товарища (заместителя) председателя Исполкома Петроградского Совета, пользовался у депутатов Совета.
О том же писал в 1917 году и неизвестный биограф министра, именовавший его «связывающим элементом демократии и правительства»: «Роль Керенского как связывающего элемента настолько велика, что можно смело сказать, что без его участия невозможно было бы выполнить ту бесконечно трудную задачу по устроению свободной России, которая предстояла Временному правительству. При всех трениях между Советом и правительством, а трений этих было немало, Керенскому удалось ликвидировать их в самом начале»[311].
И в дальнейшем роль объединителя, устанавливающего, укрепляющего и восстанавливающего соглашения между руководителями Советов и либеральными политиками, между «демократией» и «буржуазией», была политически необычайно важна, Керенский участвовал во всех переговорах о реорганизациях Временного правительства, и его политическая роль, казалось, только возрастала. Начиная с мая все правительственные кабинеты были коалиционными – включавшими социалистов и «буржуазных» министров. Однако еще до того, как коалиция была создана, министр юстиции уже воплощал если и не коалицию «живых сил страны» (он не был официально делегирован в правительство какой-либо политической партией), то персональную унию двух властных структур, созданных в ходе революции.
«Двоевластие» – термин эпохи, который использовался в 1917 году политиками, придерживавшимися разных взглядов, а потом стал и аналитическим понятием, широко применявшимся исследователями, хотя среди них никогда не было согласия относительно хронологических рамок двоевластия[312]. Иногда при описании двоевластия характеризовались лишь отношения между Временным правительством и Петроградским Советом. Порой же этот термин применялся для описания сложнейшей системы отношений между органами власти, признававшими исключительную и безусловную легитимность Временного правительства, и теми структурами, которые подобную легитимность ставили под вопрос и сами претендовали на роль органов власти.
Важнейшим элементом системы двоевластия стали комитеты в вооруженных силах, возникшие после Февраля, которые ограничивали власть командного состава. Полномочия войсковых комитетов и принципы их организации весьма различались в разных соединениях и частях. Исходной точкой для «демократизации» армии и флота стал Приказ № 1, принятый Петроградским Советом еще до создания Временного правительства, 1 марта. Приказом был запущен процесс создания войсковых комитетов, и скоро стало ясно, что противостоять «демократизации» невозможно – можно лишь пытаться ею управлять. Поэтому правительство, командование и Советы, признавая существование комитетов, вели дискуссию о пределах их компетенции.
В таких условиях вопрос о власти в России становился вопросом о двоевластии, и прежде всего о характере власти в вооруженных силах. Отношение к двоевластию разделяло основные политические силы страны. Данная проблема переплеталась и с другим острейшим политическим вопросом – об отношении к войне.
Левые социалисты – большевики, межрайонцы, меньшевики-интернационалисты, левые эсеры – требовали скорейшего прекращения войны, они критиковали Временное правительство за отсутствие серьезных шагов по завершению мирового конфликта. Наиболее радикальную позицию занял Ленин, вернувшийся из эмиграции в начале апреля. Он жестко увязывал проблему войны с проблемой власти, заявляя, что без передачи власти Советам прекращение войны невозможно. Первоначально Ленин не находил поддержки даже в собственной партии, однако он смог дать обоснование и оформление тем смутным радикальным настроениям, которые были присущи партийным активистам низшего и среднего звена. Настроения эти весьма усилились во время Апрельского кризиса, и в результате Апрельская партийная конференция большевиков поддержала Ленина, хотя, как мы увидим далее, вряд ли всех большевиков той поры можно было бы назвать верными «ленинцами».
Если Ленин стремился к ликвидации двоевластия и к установлению полной власти Советов, что фактически означало бы передачу власти социалистам, то либеральные и консервативные силы желали предоставления всей полноты власти Временному правительству. После Февраля политические партии «правее» конституционных демократов фактически перестали существовать, консервативные политические группы были на время дезорганизованы, поэтому на партию кадетов ориентировались многие предприниматели и бюрократы, офицеры и генералы, журналисты и издатели. Лидер конституционных демократов П. Н. Милюков занял пост министра иностранных дел, что придавало особую весомость внешнеполитической линии партии. Конституционные демократы требовали доведения войны «до победы», которая, по их мнению, предполагала присоединение к России ряда территорий Австро-Венгрии, Германской и Оттоманской империй.
Важную политическую роль после Февраля стали играть умеренные социалисты, прежде всего меньшевики и социалисты-революционеры. Каждая из этих партий состояла из различных группировок, часть из них друг с другом враждовали. Так, если правые меньшевики и эсеры по вопросу о войне порой были очень близки к кадетам, то левые эсеры и меньшевики-интернационалисты нередко становились союзниками большевиков. В руководстве партий умеренных социалистов доминировали представители центра, которые пытались обеспечить партийное единство (по сравнению с социалистами Западной Европы российские «центристы» выглядели весьма левыми). До революции некоторые влиятельные эсеры и меньшевики были принципиальными противниками войны, поддерживали решения международной Циммервальдской конференции. Однако свержение монархии скорректировало их взгляды: теперь стоял вопрос не о защите ненавистной им самодержавной монархии, а об обороне «самой демократической страны», поэтому некоторые социалисты, отвергавшие ранее необходимость защиты России, стали «революционными оборонцами». Вместе с тем идея обороны оформлялась ими с помощью тех блоков антиимпериалистической и антибуржуазной риторики, которые входили в язык циммервальдизма. Завершить «империалистическую войну» умеренные социалисты предлагали путем заключения «демократического», справедливого мира – без аннексий и контрибуций – всеми воюющими сторонами. Программа такого мира содержалась в манифесте, принятом Петроградским Советом 14 марта. Но вплоть до заключения этого мира, считали революционные оборонцы, Россия вынуждена будет продолжать участвовать в войне – идею сепаратного мира они отрицали.
Вопрос о целях войны разделяли между собой различные политические силы страны: для Милюкова и его сторонников война не могла закончиться «вничью» – Россия должна была получить те территории враждебных государств, на которые претендовала. Лидеры же революционных оборонцев и, разумеется, противники войны отвергали программу Милюкова как «империалистическую».
Вопрос о войне был связан с вопросом об отношении к Временному правительству. Хотя лидеры Петроградского Совета участвовали в переговорах о создании правительства и разработке его программы, это не означало, что Совет полностью поддерживал правительство. Сотрудничество умеренных социалистов с Временным правительством в марте и апреле было обусловлено фактическими действиями министров по реализации согласованной с Советом программы. Эта условная поддержка, поддержка «постольку поскольку», реально ограничивала власть правительства. Для координации действий двух властных структур была создана контактная комиссия, но и это не устраняло возможности возникновения все новых и новых конфликтов: лидеры Совета стремились контролировать Временное правительство, но не желали брать на себя ответственность за его действия. И некоторые влиятельные социалисты воспринимали Керенского как политического «контролера», вошедшего в правительство для надзора за «буржуазными» коллегами. Резолюция Петроградской конференции социалистов-революционеров, принятая 2 марта, гласила: «Считая необходимым контроль за деятельностью Временного правительства со стороны трудящихся масс, конференция приветствует вступление А. Ф. Керенского во Временное правительство в звании министра юстиции, как защитника интересов народа и его свободы, и выражает свое полное сочувствие линии его поведения в дни революции, [линии,] вызванной правильным пониманием условий момента»[313].
Министр юстиции воспринимался иногда даже как представитель Петроградского Совета в правительстве. Некоторое время утверждалось, будто он включен в правительство по требованию Совета, что не соответствовало действительности (но именно так описывал ситуацию, например, американский военно-морской атташе[314]). Тем не менее поддержка со стороны Советов и комитетов, усиливающих со временем свое влияние, укрепляла положение Керенского в правительстве – это обстоятельство и имели в виду те журналисты, которые называли министра юстиции «самым сильным человеком в России».
Сложная ситуация, когда Керенский находился в двух властных структурах, одна из которых фактически претендовала на роль контролера другой, представляла для него множество трудностей, но и создавала немало возможностей. С одной стороны, он легко мог оказаться в положении человека, сидящего «между двумя стульями», при этом «стулья» находились в постоянном движении: и без того сложная расстановка сил в стране быстро менялась. С другой стороны, занимаемая Керенским позиция умелого и ответственного объединителя Совета и правительства, «демократии» и «буржуазии» могла стать чрезвычайно важной и потенциально выигрышной. И Керенский проявил себя как опытный импровизирующий тактик: не ограничиваясь лишь элитными переговорами, он начал обращаться через голову политических лидеров к тем группам населения и организациям, которые составляли базу поддержки этих политиков. Он творчески выражал, умело оформлял и усиливал существовавший в то время запрос на объединение и использовал подобные общественные ожидания как важный ресурс для давления на политических лидеров.
Керенский подчеркивал свое особое положение во власти. Он сам именовал себя «заложником демократии». Приветствуя в середине марта делегацию Черноморского флота, посетившую Временное правительство, он заявил:
Прошу вас не верить слухам, распространяемым врагами народа и свободы, стремящимися подорвать связь между Временным правительством и народом. Ручаюсь головой и я, ваш заложник среди членов Временного правительства, в том, что вам и народу бояться нечего. Если бы возможна была хоть малейшая мысль, что Временное правительство не в состоянии исполнить принятые на себя обязательства хоть в малейшей степени, я сам вышел бы к вам[315].
Некоторая неясность роли «заложника демократии» не мешала распространению запомнившегося наименования политика. Когда Керенский посетил в мае Гельсингфорс, руководитель местного Совета приветствовал его следующим образом: «…министр, товарищ гражданин, просто наш товарищ и друг нашего народа Керенский. <…> Мы все были уверены и знали, что вы наш заложник, заложник социалистов…»[316] Министр определял себя как «заложника» для обеспечения единства «народа» и правительства. Такое определение указывало на уникальный, по сути привилегированный статус во власти, в мире российской политики, оно подчеркивало особую роль Керенского по сравнению с другими министрами.
В своем кругу Александр Федорович довольно резко критиковал лидеров Совета, считая Приказ № 1, манифест 14 марта, другие их решения чрезмерно радикальными; критически он отзывался и о стремлении умеренных социалистов постоянно контролировать Временное правительство[317]. Однако замечания такого рода оставались уделом его конфиденциальных бесед с политическими друзьями, хотя порой и становились известны другим участникам политического процесса. Во всяком случае, его отношения с некоторыми лидерами Исполкома Совета были подпорчены после того, как он вошел в правительство, игнорируя их мнение, а также из-за того, что министр не считал нужным регулярно показываться на заседаниях Совета. Сам Керенский даже вспоминал о том, как пытался, хотя и тщетно, создать искусственно некий противовес Совету, сознательно провоцируя усиление правого политического вектора. Он якобы призывал Родзянко оказывать на Временное правительство постоянное давление от имени Временного комитета Государственной думы, дабы кабинет мог сохранять равновесие[318]. Этому мемуарному свидетельству, пожалуй, можно доверять: для «балансирующего» политика такая комбинация была бы еще более выигрышна.
Однако от публичной критики Совета Керенский благоразумно воздерживался, меньшевики и эсеры также не атаковали авторитетного политика, который считался товарищем председателя Исполкома Совета. Умеренные социалисты стремились использовать Керенского как инструмент для корректировки курса правительства. Видный социалист-революционер Н. С. Русанов в начале апреля говорил на Петроградской партийной конференции, что Временное правительство – это орудие «для укрепления… демократических завоеваний и для продолжения революции», которое имеет «преимущественно буржуазный характер»; однако действия Керенского заставляют правительство двигаться навстречу ожиданиям социалистов: «…лишь один человек, пользующийся в нем очень большим удельным весом в силу своей связи с социализмом и демократией, отклоняет его равнодействующую значительно влево», и оно «принуждено развертывать и отчасти уже осуществлять программу демократических реформ, совокупность которых ставит ныне Россию впереди западноевропейских демократий, где война страшно сузила права человека и гражданина»[319].
Отчасти надежды умеренных социалистов на Керенского оправдались. Воздерживаясь от открытой критики лидеров Совета, министр юстиции публично атаковал своего коллегу по кабинету, Милюкова, осуждая его внешнюю политику. Споры двух министров выплеснулись на страницы газет. Керенский также сам беседовал с послами союзных держав, хотя это и не входило в сферу его ведомственной компетенции.
Ведя одновременно несколько сложных интриг, Керенский умело использовал для давления на своих партнеров по переговорам силу общественного мнения. Он гораздо лучше, чем какой-либо другой министр, работал с представителями прессы, много внимания уделял своим публичным выступлениям. Наконец, он разрабатывал собственный образ: и его политическая позиция, и роль объединителя, на которую он претендовал, проявлялись в его репрезентациях.
Министр юстиции, как уже отмечалось, занимал положение на границе «буржуазных» и социалистических партий. В Думе Керенский был лидером фракции Трудовой группы, а после Февраля заявил о своей принадлежности к партии социалистов-революционеров. Трудовики все же продолжали считать Керенского своим представителем и выражали в разных ситуациях поддержку министру и проводимой им политике. Однако политическое влияние трудовиков было не очень велико – существенной поддержки они оказать не могли.
Социалисты-революционеры стали после свержения монархии самой многочисленной политической партией. Правда, приток «мартовских» эсеров неоднозначно сказался на эффективности партийной работы. Впоследствии эсеры одержали убедительные успехи на выборах в местные органы власти, а затем – уже после падения Временного правительства – и на выборах в Учредительное собрание. Казалось бы, сотрудничество самого популярного лидера революции и руководства самой массовой политической партии взаимовыгодно. На деле, однако, безоговорочно Керенского поддерживали только «правые» эсеры, которые не были вполне довольны действиями партийного центра. «Правые» располагали немалыми финансовыми ресурсами, 29 апреля они начали издавать в Петрограде газету «Воля народа», которая особенно активно поддерживала Керенского и, по всей видимости, финансировалась благодаря помощи влиятельного министра. Однако массовой поддержкой «воленародовцы» также не обладали.
Керенский иногда – когда это было тактически выгодно – с гордостью упоминал о своей принадлежности к социалистам-революционерам. В таких ситуациях он говорил о «героической» истории партии, о мудрых партийных «учителях» и признанных, авторитетных «вождях». Однако на деле Керенский не был патриотом партии эсеров: его политическая позиция находилась как раз посередине между двумя лагерями – «демократии» (т. е. социалистов, обладавших влиянием в Советах и войсковых комитетах) и «буржуазии». Политическая линия Керенского располагалась на оси, образованной взаимодействием этих важнейших векторов. Он олицетворял данное соглашение, он был и главным действующим лицом, и символом широкой «коалиции всех живых сил страны», объединяющей умеренных социалистов и либералов.
Керенский, своеобразный политический солист, был слабо связан с массовой работой эсеров и партийным аппаратом. По его собственному признанию, он не интересовался партийными программами[320]. К теоретизирующим политикам-социалистам, претендующим на «научное» понимание общественных процессов, делающим историю «по книгам», он относился с иронией, а то и с пренебрежением. Даже в мемуарах он свысока писал о «книжниках», пытавшихся втиснуть необычную и непредсказуемую ситуацию революции в узкие рамки своих партийных догм (в неопубликованных текстах, как мы увидим далее, он давал таким «книжникам» и более жесткие характеристики)[321].
Керенский не имел устойчивых и принципиальных взглядов по многим вопросам – социальным, аграрным, промышленного регулирования, – что сказалось на последующих этапах революции, когда настал час принятия важных, быстрых и болезненных решений. Тогда это стало явным недостатком. Однако на начальном этапе революции своеобразная теоретическая нечеткость имела и известные тактические преимущества – значительно расширяла возможности политического комбинирования и лавирования, объединения различных сил.
Впоследствии отсутствие аппарата организационного воздействия на массы, слабые контакты с политическими партиями, недостаток надежных и проверенных политических соратников, которых можно было бы выдвигать на ответственные посты, – все это роковым образом скажется на судьбе Керенского. Но сейчас, на начальном этапе революции, слабая партийная ангажированность была и своеобразным политическим козырем: «В единении сила», – гласил один из наиболее популярных лозунгов Февраля[322]. «Партийность» же, наоборот, считалась многими неофитами политической жизни синонимом «фракционности» и раскольничества, воспринималась как угроза единству революционных сил и часто осуждалась. Политизирующиеся массы первоначально с раздражением относились к межпартийным спорам и дискуссиям, не видя в них никакого смысла. «Пасхальному», эйфорическому настроению первых месяцев революции соответствовал идеал всеобщего братства и общенационального единства. Его и олицетворял «народный министр» Керенский.
Суханов имел некоторые основания назвать Керенского «демократом недемократическим» – своеобразные демократические убеждения не подкреплялись у министра ни опытом участия в массовых демократических организациях, ни знанием западноевропейской демократической модели (последнюю в некоторых речах 1917 года он аттестовал не без пренебрежения). «Я довольно беспартийный человек», – говорил Керенский сам о себе в марте на заседании Исполкома Петроградского Совета. «Для меня теперь нет партии. Все трудящиеся, все честные граждане – в моей партии, и я – в их партии», – заявил он, выступая в Киеве[323]. Неудивительно, что в «своей» партии социалистов-революционеров политик воспринимался многими ветеранами-эсерами как новичок, а то и как чужак. Даже Милюков впоследствии писал о «чужом для эсеров» Керенском[324].
Любопытно, что Керенский, рассуждавший о «своей» партии, объединяющей всех патриотов, фактически цитировал известное выступление германского кайзера Вильгельма II в 1914 году. «Министр-демократ» имитировал стиль императора враждебной державы, который в начале войны заявил: «Для меня больше нет партий – есть только немцы». В другой, еще более важной речи Керенский несколько сузил спектр представляемых им сил. Выступая 22 мая на заседании Петроградского Совета, министр заявил: «Для меня нет сейчас отдельных партий в демократии, так как я министр. Для меня существует лишь воля большинства демократии». В другой записи слова Керенского звучат еще более определенно и резко: «Партий для меня сейчас не существует, потому что я русский министр, существует только народ и один священный закон – подчинение воле большинства народа»[325]. Позиция «надпартийного» политика нашла отражение и в некоторых карикатурах того времени: в июле Керенский изображался в виде рассудительного и доброжелательного ментора, который пытается утихомирить дерущихся школьников, представляющих различные партии[326].



