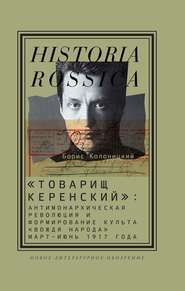
Полная версия:
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя народа» (март – июнь 1917 года)
Даже политический союзник Керенского, меньшевик И. Г. Церетели, называл его впоследствии «беспартийным индивидуалистом» и утверждал, что министр был близок не к «социалистической среде», а к «демократической интеллигенции», державшейся на грани между двумя «демократиями» – социалистической, «советской», и «чисто буржуазной». Церетели также отмечал, что Керенский стремился играть роль «общенациональной фигуры», идеалом же его была внепартийная и надпартийная власть. По словам видного меньшевика, Керенский ценил номинальную связь с Советом, учитывая огромное влияние этой организации, но сознательно не желал связывать себя с Исполнительным комитетом Совета, считая, что, оставаясь на грани между «советскими» и «буржуазными» партиями, предстанет в глазах страны выразителем общенационального характера революции. Американский посол, описывавший расстановку сил во Временном правительстве, даже отмечал, что Керенский не является представителем какой-либо партии[327].
Дружественные Керенскому публицисты также иногда рассматривали его не как партийного вождя, а как надпартийного лидера. О. Леонидов писал о дореволюционных выступлениях политика: «…ни в одном… слове, ни в одном из брошенных Керенским лозунгов никогда не чувствовалось партийной узости, кружковского шаблона или тривиальности. Устами Керенского говорила сама правда, не знающая ни партии, ни фракции, из его речей кричала исступленным, истерическим криком задавленная народная совесть, искавшая выхода из тупиков и застенков»[328].
Впоследствии даже союзники политика не без критики оценивали его роль объединителя, хотя и признавали необходимость подобных действий. В сентябре 1917 года Церетели, характеризуя Керенского как «воплощение идеи коалиции», не без сожаления отмечал «непомерное усиление личного момента в управлении государством». Влиятельный лидер умеренных социалистов и убежденный сторонник коалиции мог подразумевать, что к этому времени роль Керенского была необычайно велика: наблюдалось отсутствие весомых организованных политических сил, которые могли бы институционально обеспечивать компромисс между «буржуазией» и «демократией», а это объективно способствовало востребованности авторитетного политика. Отталкиваясь от такой оценки, правый меньшевик А. Потресов констатировал, что этот личный момент, «воплощенный в Керенском, удовлетворял какой-то потребности русской революции, представлял – худо, хорошо ли – какое-то временное решение ее запутанных противоречий, был тем злом, которое должно было предупредить еще худшее зло. <…> Раздваивающаяся Россия хваталась за Керенского, за этот хрупкий индивидуальный мостик, который был перекинут между двумя сторонами…»[329]
Иными словами, но о том же писал позднее в своих воспоминаниях и В. М. Чернов:
Но чем дальше развивались события, тем больше в ее [революции. – Б. К.] рядах происходила переоценка его [Керенского. – Б. К.] личности. В конце концов роль его стала сводиться к балансированию между правым, национал-либеральным, и левым, социалистическим, крылом правительства. Нейтрализуя то первое – вторым, то второе – первым, Керенский, казалось, видел свою миссию в этой «надпартийной» роли, резервируя себе роль суперарбитра и делая себя «незаменимым» в качестве центральной оси власти. Казалось, что его больше всего удовлетворяет именно такое состояние правительства и что он старается даже усугубить его, последовательно удаляя из состава кабинета, одну за другою, все крупные и красочные партийные фигуры и заменяя их все более второстепенными, несамостоятельными и безличными. Тем создавалась опасность «личного режима», подверженного случайности и даже капризам персонального умонастроения[330].
Чернов выделяет личные качества Керенского, влиявшие на характер создаваемых коалиций; тому же уделяли внимание и многие другие мемуаристы, придерживавшиеся разных политических взглядов. Не оспаривая подобных суждений, во многом справедливых, следует признать, что политик, олицетворявший «личный режим», и сам был заложником ситуации. Его оппоненты «справа» со временем стали говорить о «политике балансирования» Керенского, неизменно колебавшегося, не решавшегося сделать «нужный выбор» и использовать силу для подавления большевиков и их союзников; при этом некоторые требовали нанесения удара и по центрам меньшевиков и эсеров, особенно же ненавистным для них был как раз Чернов. Но и умеренные социалисты требовали от Керенского сделать другой «нужный выбор», т. е. нужный именно для них, – они опасались усиления влияния со стороны правых.
Любой же «определенный» выбор означал бы для Керенского политическое самоубийство: вне широкой коалиции, объединяющей влиятельные партии «демократии» и «буржуазии», у него не было шансов остаться в большой политике, ибо сам он не опирался на массовую политическую партию, за ним не стояла политическая организация, никакого партийного аппарата он не контролировал. Ни одна из сторон не считала министра вполне «своим» – при любой комбинации, исключающей сотрудничество умеренных социалистов и либералов, он был бы оттеснен на обочину общественной жизни. Вновь следует указать: Керенский не был вождем политической партии, он был уникальным «соглашателем» – незаменимым вдохновителем, организатором и хранителем компромисса, воплощавшегося в соглашениях и коалициях.
Надо признать, что компромисс между даже только частью «буржуазии» и частью «демократии» удерживал страну от сползания в гражданскую войну. К октябрю же 1917 года ресурс такого соглашения уже был исчерпан и Керенский стал обречен. Философ Ф. А. Степун, вдумчивый мемуарист и исследователь революции, сторонник и сотрудник Керенского в 1917 году, довольно критично относившийся к главе последнего Временного правительства, вспоминал: «На старых позициях оставался в сущности один только Керенский. Чувствуя, что дорогая его сердцу единая, свободолюбивая, всенародная революция с каждым днем все безнадежнее распадается на две партийные, крайне фланговые контрреволюции, он продолжал настаивать на том, что единственным выходом из трагического положения все еще остается сплочение всех живых сил страны в сильном, коалиционно-надпартийном правительстве…»[331]
Однако весной 1917 года общественный запрос на «примирителя», способного воссоздавать и поддерживать подобный компромисс, ощущался – и Керенский обладал уникальными качествами и необходимыми ресурсами, позволявшими ему решать эту непростую задачу.
Л. Д. Троцкий объяснял «феномен Керенского» не личностью политика, а его «исторической функцией»: 13 мая в Петроградском Совете он назвал Керенского «математической точкой русского бонапартизма» (далее мы увидим, что характеристики министра как бонапартиста и даже «Бонапарта» получили немалое распространение)[332]. Формулировки Троцкого многим запомнились. Буквально те же выражения использовал и сам Керенский, отрицавший, разумеется, обвинения в бонапартизме. Описывая свою позицию в дни Московского государственного совещания, состоявшегося в августе, он впоследствии заявлял: «Временное правительство было единственным центром, объединяющим эти две России. В этом центре я был математической точкой единства»[333].
И «слева», и «справа» Керенского упрекали в том, что он пытается «сидеть на двух стульях», Троцкий именовал его «воплощенным метанием». П. Н. Милюков впоследствии писал о запуганном двусторонними опасностями дилетанте. Характеризуя выступление Керенского на Государственном совещании, он писал: «Не государственный человек чувствовался за туманными угрозами и надутыми декларациями собственного могущества, а запуганный двусторонними опасностями, с трудом удерживающий равновесие на той математической линии, на которой эти опасности сходились»[334]. Интересно, что и Милюков, и Троцкий использовали «математические» метафоры, а за их общим презрением к политику как к «любителю», дилетанту, прорвавшемуся к вершинам государственной власти и оттеснившему опытных политиков, проскальзывают ревность и зависть к первому, «недостойному» избраннику Российской революции.
Однако, как вновь следует подчеркнуть, весной 1917 года роль примирителя и объединителя была востребованной, что проявилось и в тех пропагандистских штампах, которые использовали сторонники Керенского. Они именовали его даже «собирателем народа», «неутомимым собирателем русской земли»[335].
Ленин впоследствии утверждал, что Временное правительство «хотело согласовать интересы помещиков и крестьян, рабочих и хозяев, труда и капитала»[336]. Если не брать в расчет уничижительную оценку «соглашательства», то можно признать подобное суждение справедливым. В первую очередь оно верно при оценке роли Керенского, который, если развивать ленинскую терминологию, выступал в роли соглашателя между «соглашателями» и «буржуазией».
Замечание же Троцкого, назвавшего Керенского «математической точкой русского бонапартизма», нельзя считать вполне точным. Министр не просто пассивно занимал выгодную позицию – «удержание равновесия» требовало немалых способностей и постоянных усилий, новых политических инициатив и акций пропагандистского обеспечения. Выполнению роли объединителя способствовали и нахождение Керенского в конкурирующих структурах власти, и его место в партийно-политическом спектре, и тактическая гибкость, и принципиальная установка на создание и воссоздание подобного компромисса. «Народный министр» обладал необходимыми политическими качествами, которые позволяли ему вновь и вновь возобновлять политический компромисс в очень сложных ситуациях. Он владел техникой политики, умел интриговать, торговаться и шантажировать, использовал свой общественный авторитет, принуждая несговорчивых и честолюбивых партийных лидеров к соглашению. А кроме того, он умел использовать силу общественного мнения для давления на партнеров по переговорам.
Влияние молодого министра во властных институтах было прежде всего следствием его огромной популярности в стране, «на улице»: «С самого начала Керенский был центральной фигурой революционной драмы и единственный среди своих коллег пользовался явной поддержкой со стороны масс», – вспоминал британский посол[337]. Показательно, что дипломат отметил особое положение министра юстиции еще в первом Временном правительстве, связав это с влиянием политика на общественное мнение. К ретроспективным оценкам современников следует относиться осторожно, но публичные выступления министра юстиции действительно привлекали огромное внимание и он был настоящим любимцем прессы. Это укрепляло его позиции в правительстве, в переговорах с Советом и помогало ему выполнять политически важную роль объединителя.
Но и «соглашательство», и «балансирование» Керенского определялись не только тактическими соображениями. Подобная позиция была для него принципиальной, она соответствовала и его идеалам, и его настроениям, и его характеру. Он пытался воскресить общенациональное единство даже тогда, когда для этого уже не было никаких условий, – накануне падения Временного правительства, когда разочарование идеей коалиции становилось чуть ли не всеобщим. Весной же 1917 года многие факторы делали роль объединителя и востребованной, и популярной.
Керенский воспринимался как особый политик: в той части политического спектра, которую он занимал, не было лидеров, равных ему по масштабу. Никакой другой деятель не пользовался таким влиянием у «улицы» – влиянием, придававшим ему вес в элитных соглашениях. Этот статус незаменимого политика был очень важен при создании того образа уникального вождя-спасителя, который сложился в июне.
Авторитет же, необходимый для выполнения востребованной роли «примирителя», создавался и благодаря тому, что Керенский быстро заслужил репутацию делового и эффективного министра, «министра-демократа», революционного министра.
2. Вездесущий «министр народной правды»
В 1917 году была издана серия почтовых карточек, на которых изображались видные деятели Февраля – все министры Временного правительства, председатель Государственной думы М. В. Родзянко, председатель Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Н. С. Чхеидзе[338].
Художник Кущенко, создавший эту серию, в верхней части каждой карточки поместил портрет соответствующего политика, а в нижней ее части – иллюстрацию, символизирующую род его занятий, сферу деятельности. Обычно иллюстрация представляла собой композицию с изображением людей, представителей узнаваемых профессиональных или культурных групп. Художник помещал портрет на фоне пейзажа, обозначающего род занятий данного политика. Для Родзянко это многолюдная и разнородная толпа перед зданием Таврического дворца, украшенного огромным красным флагом; для Чхеидзе – рабочий и солдат, которые пожимают друг другу руки на фоне узнаваемых зданий казармы и фабрики. Под портретом обер-прокурора Святейшего Синода, В. Н. Львова, – богомольцы перед храмом; под изображением государственного контролера И. В. Годнева – представители разных общественных классов и сословий, внимательно изучающие приходные и расходные статьи государственного бюджета.
Род же занятий нового министра юстиции и генерал-прокурора символизировало горящее здание современной тюрьмы, строения которой напоминают знаменитые петроградские «Кресты». Для художника деятельность А. Ф. Керенского должна была, по-видимому, заключаться в революционном уничтожении мест заключения. Нет никаких оснований считать, что сам Керенский предполагал предать огню все тюрьмы. Однако художник не был одинок, когда именно так видел миссию нового министра юстиции.
Автор этих строк в 1991 году имел возможность говорить с А. М. Майской, которая с волнением вспоминала первые дни революции. Родители ее были убежденными членами Бунда, свою мать моя собеседница называла «верующей социалисткой». Свержение монархии члены этой семьи приняли восторженно, но, когда они узнали, что в новой России еще не уничтожены тюрьмы, «верующая социалистка» воскликнула: «Это не моя революция!»
Подобное свидетельство современницы событий подтверждается и другими источниками. Многие жители России полагали, что великая революция вызовет не только политические, экономические и социальные преобразования, – они ждали глубокого и немедленного нравственного переворота. Они искренне считали, что благодетельное воздействие великой революции приведет к полному искоренению любых проявлений преступности, а это сделает ненужными места заключения. Появлению же таких завышенных ожиданий могли способствовать полные энтузиазма выступления видных лидеров Февраля: «Мы должны создать царство справедливости и правды», – заявлял сам Керенский[339].
Уничтожение тюрем и гауптвахт происходило в ходе революционного штурма власти во многих городах: в первые дни революции повстанцы стремились не только освободить узников царизма, не делая при этом исключения для уголовных преступников и агентов враждебных держав, – они стремились полностью разрушить «темницы», сломать все оковы, сжечь свои «Бастилии». В царстве «свободы вечной» тюрьмам места не было. Горящие места заключения в Петрограде (Литовский замок, полицейские участки), Шлиссельбурге, Ревеле, других городах стали яркими визуальными символами революции, их фотографировали как местные достопримечательности, изображали на почтовых карточках. Порой же полная ликвидация тюрем мыслилась и как необходимое предварительное условие наступления «нового мира»[340].
Подобные утопичные, эйфорические, «пасхальные» настроения свидетельствуют о тех несбыточных надеждах, которые многими восторженными современниками возлагались на молодого министра юстиции. И странным образом даже через несколько месяцев наивные энтузиасты революции нередко продолжали оставаться его горячими поклонниками. Это было связано и с тем, как действовал Керенский, и с тем, как представлял он свою министерскую деятельность, и с тем, как его деятельность воспринималась.
В настоящем разделе будут рассмотрены те образы министра юстиции, которые создавали сам Керенский, его политические друзья и его оппоненты, люди разных убеждений и разных сословий, обращавшиеся к министру.
Кандидатура Керенского, как уже отмечалось, фигурировала в различных списках возможного состава правительства, ходивших в либеральных и радикальных кругах еще в канун революции. Но, по свидетельству видного кадета И. В. Гессена, на окончательное решение о привлечении Керенского во Временное правительство повлияло и то обстоятельство, что он уже играл видную роль в Петроградском Совете. Его имя появляется в наброске состава правительства от 1 марта, хотя наряду с ним в это время обсуждалась также другая кандидатура на тот же пост министра юстиции – кадет В. А. Маклаков (он был одним из комиссаров Временного комитета Государственной думы в этом ведомстве)[341]. Значительный авторитет Керенского, необычайно возросший в дни Февраля, был важен как средство для придания большей легитимности полномочиям Временного правительства.
Подобное использование репутации популярного политика было продемонстрировано уже днем 2 марта, когда лидер конституционных демократов П. Н. Милюков в Екатерининском зале Таврического дворца представлял собравшейся там разнородной и радикально настроенной публике состав министров только что созданного Временного правительства[342]. Его слушатели выражали недовольство тем, что оратор перечислял лишь представителей «цензовой» общественности. И как раз в этот момент лидер кадетов назвал имя Керенского – очевидно, предполагая, что упоминание имени радикала, известного вызывающими выступлениями в Думе и решительными действиями в предыдущие дни, будет встречено возбужденной аудиторией с одобрением и изменит ее отношение к формируемой власти:
Но, господа, я счастлив сказать вам, что и общественность нецензовая тоже имеет своего представителя в нашем министерстве. Я только что получил согласие моего товарища А. Ф. Керенского занять пост в первом русском общественном кабинете.
Заявление это было встречено бурными рукоплесканиями. Отношения между двумя политиками были непростыми (а впоследствии еще более осложнились), однако в затруднительной ситуации Милюков счел нужным назвать Керенского своим «товарищем» – это способствовало завоеванию симпатий разгоряченной толпы. Показательно также, что Милюков, опытный оратор, стал развивать свой успех у слушателей, красноречиво описывая основные направления будущей деятельности нового министра юстиции:
Мы бесконечно рады были отдать в верные руки этого общественного деятеля то министерство, в котором он отдаст справедливое возмездие прислужникам старого режима, всем этим Штюрмерам и Сухомлиновым. (Рукоплескания.) Трусливые герои дней, прошедших навеки, по воле судьбы окажутся во власти не щегловитовской юстиции, а министерства юстиции А. Ф. Керенского.
Праведный суд революционной юстиции должен свершиться, официальное судебное решение станет подтверждением того приговора, который общественное мнение уже заранее вынесло «слугам старого режима», и Керенский в силу уже сложившейся его репутации будет гарантом того, что «возмездия» им не избежать. Именно это и желали услышать собравшиеся: слова Милюкова, по свидетельству репортера, были встречены бурными, продолжительными рукоплесканиями и громкими криками одобрения. На такую реакцию, надо полагать, опытный оратор и рассчитывал[343]. И в иных случаях политики разного уровня стремились решать стоявшие перед ними задачи, ссылаясь на авторитет популярного политика. Подобные многочисленные ссылки влиятельных и известных современников еще более укрепляли авторитет Керенского.
Милюков также продолжал утверждать, что вхождение Керенского в состав Временного правительства имело огромное политическое значение. 27 марта, выступая на Седьмом съезде конституционно-демократической партии, он заявил: «Я помню тот решительный момент, когда я поздравил себя с окончательной победой. Это был тот момент, когда по телефону на нашу просьбу стать министром юстиции А. Ф. Керенский ответил согласием». Сложно судить об искренности оратора, однако показательно, что слушатели Милюкова и в этой партийной аудитории вполне разделяли его оценку: раздались рукоплескания, крики «Браво!»[344].
Если Милюков в своем выступлении 2 марта добивался одобрения со стороны общественного мнения, ссылаясь на авторитет политика, который в соответствии со своей репутацией был готов решительно преследовать слуг «царизма», то и сам Керенский тоже стремился получить необходимую для него общественную поддержку, выдвигая перечень популярных действий. В тот же самый день он использовал этот прием несколько раз. В Екатерининском зале, обращаясь к «солдатам и гражданам», часть которых, возможно, уже слышала выступление Милюкова, Керенский, встреченный аплодисментами, объявил, что согласился стать министром юстиции. Раздались бурные аплодисменты и крики «ура». Затем Керенский перечислил несколько акций правительства, которые заведомо должны были получить одобрение аудитории, но, в отличие от Милюкова, начал он с необходимости спешного освобождения «борцов за свободу»: «Наши товарищи – депутаты 2-й и 4-й Дум, беззаконно сосланные в тундры Сибири, будут немедленно освобождены и с особым почетом привезены сюда». И только после этого он указал на судьбу, ожидающую «слуг царизма»: «Товарищи! В моем распоряжении находятся все бывшие председатели Совета министров и все министры старого режима. Они ответят за все преступления перед народом согласно закону». Из толпы раздались возгласы: «Беспощадно!» Керенский заявил: «Товарищи! Свободная Россия не будет прибегать к тем позорным средствам борьбы, которыми пользовалась старая власть. Без суда никто подвергнут наказанию не будет»[345].
В этой речи Керенский обозначил важнейшие направления своей деятельности: скорое освобождение «узников царизма», решительное судебное преследование «слуг царизма», установление истинного правосудия в России.
Данное выступление было пробой, репетицией более важной речи, произнесенной в тот же день, 2 марта. Как уже отмечалось, Керенский, возглавив Министерство юстиции, стремился сохранить за собой и политически важную должность товарища председателя Исполкома Петроградского Совета. Не получив в этом поддержки руководителей Исполкома, он через голову лидеров социалистов обратился непосредственно к пленуму Совета, к простым депутатам. И в этой речи он также немалое внимание уделил своей будущей деятельности в качестве министра. Но на этот раз решил начать с беспроигрышной для такой аудитории темы: возмездие «слугам царизма». При этом Керенский напомнил, что именно он инициировал их первые аресты и осуществлял контроль над арестантами: «Товарищи, в моих руках находились представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук». Раздались бурные аплодисменты и возгласы: «Правильно!» После этого Керенский затронул другую популярную тему – связанную с судьбой «борцов за свободу»: «Немедленно по вступлении на пост министра я приказал освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить из Сибири сюда, к нам, наших товарищей-депутатов, членов социал-демократической фракции 4-й Думы и депутатов 2-й Думы». Вновь последовали бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Министр продолжал: «Освобождаются все политические заключенные, не исключая и террористов». Решение Керенского войти в состав правительства было одобрено пленумом Совета, и он сохранил за собой должность товарища председателя Исполкома. Простые депутаты приветствовали его уже как министра юстиции[346]. Керенский не только эффектно решил стоявшую перед ним политическую задачу, но и укрепил свой авторитет среди депутатов, хотя его отношений с лидерами Совета такой демарш не улучшил. Об этой важной речи сообщали в 1917 году биографы Керенского, она подробно цитировалась[347].
Некоторые консерваторы и либералы, выдвигая Керенского на роль министра юстиции, считали, что сам этот пост не будет иметь большого политического значения. Такое предположение оказалось совершенно неверным. Керенский не считался с официальными границами своей служебной компетенции; он, например, вторгался в сферу деятельности комиссара Думы, ведавшего Министерством императорского двора[348]. Именно Керенский принял Зимний дворец в распоряжение и под охрану Временного правительства, о чем был составлен протокол (в городе говорили, что министр объявил дворец «национальной собственностью»)[349]. Это имело немалое символическое значение. Иногда энергичный министр юстиции совершал важные политические действия по собственной инициативе, ставя своих коллег перед свершившимся фактом, но порой заинтересованные лица и организации, включая и членов правительства, сами стремились привлечь авторитетного политика к быстрому решению стоящих перед ними неотложных проблем.
К тому же сам пост министра юстиции оказался необычайно важной политической позицией, и Керенский использовал все те возможности, которые она предоставляла. Именно через это министерство проходили многие популярные решения Временного правительства. Так, Керенский подтвердил распоряжение комиссаров Государственной думы в Министерстве юстиции об освобождении заключенных членов Думы из числа социал-демократов и, как мы уже видели, торжественно объявил об этом. Общественное же мнение приписало столь важное и популярное решение персонально Керенскому. Министр юстиции также направил всем прокурорам телеграмму с предписанием немедленно освободить всех политических заключенных и передать им поздравления от имени революционного правительства. Выше уже упоминалась направленная в Сибирь особая телеграмма с требованием немедленно освободить из ссылки «бабушку русской революции» Брешко-Брешковскую и торжественно отправить ее в Петроград[350].



