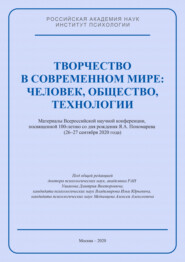скачать книгу бесплатно
1. Васильев И.А. Влияние концепции Я.А. Пономарева на развитие психологии мышления / в сб.: Психология творчества: школа Я.А. Пономарева (под ред. Д.В. Ушакова). М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006.
2. Васильев И.А. От методологической независимости к взаимозависимости // Методология и история психологии. Школа О.К. Тихомирова. Т. 4. Вып.4. Окт. – Дек. 2009.
3. Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию. М., 1983.
4. Пономарев Я.А. Психика и интуиция. М., 1967.
5. Пономарев Я.А. Психология творчества. М., 1976.
Представления о творческом мышлении в теориях Я.А. Пономарева и О.К. Тихомирова: сравнительный анализ. Васюкова Е.Е.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
E-mail: katevass@yandex.ru
Теоретический анализ отечественных школ О.К. Тихомирова, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева (Матюшкина, 2008) показал общность их корней (гештальтпсихология) и проблематики. Рассмотрим методологические основы и основные положения теорий Я.А. Пономарева и О.К. Тихомирова, каждая из которых обладает своей уникальностью. Акцентируем различия концепций. Пытаясь понять наиболее творческое звено мышления – нахождение принципа решения, возникновение инсайта, Я.А. Пономарев изучает условия возникновения догадки, тогда как О.К. Тихомиров пытается проникнуть в тайну мышления и экстериоризирует сам процесс мышления. Я.А. Пономарев использует такой методический прием как подсказка. О.К. Тихомиров применяет пионерские методы исследования: регистрация глазодвигательной активности шахматистов и осязательной активности слепых шахматистов. У Я.А. Пономарева – задачи на догадку («Четыре точки»), О.К. Тихомиров использует шахматы как модельный объект, саму игру в шахматы во время исследования, а также искусственно составленные задачи – этюды. Оба ученых обогащают понятийный аппарат психологии. Одно из основных понятий Я.А. Пономарева – побочный продукт действия (то, что не предусмотрено в сознательной цели действия); О.К. Тихомиров вводит понятие операционального смысла (ОС), прежде всего невербализованного операционального смысла (НОС), как отношения между условиями и целью (условия анализируются с точки зрения путей достижения цели). ОС – индивидуальная форма психического отражения, возникающая на основе исследовательских актов и благодаря им меняющаяся на всем протяжении поиска практического действия (хода в шахматной партии, позиции). Понятие ОС определяется и через то, чем ОС не является. Он не является перцептивным образом, установкой, значением, побочным продуктом действия. Так в отличие от последнего ОС соотносится с целью и характеризуется динамикой. Индикатор ОС – исследовательские операции. Выделяются уровни и виды ОС.
Оба ученых интересуются проблемой бессознательного и отношениями осознанного и неосознанного. В подходе Я.А. Пономарева проблема взаимодействия осознанного и неосознанного в решении творческой задачи конкретизируется как взаимосвязь интуитивного и логического компонентов. У Тихомирова речь о взаимодействии невербализованного и вербализованного, вербализованных и невербализованных операциональных смыслов (ВОС и НОС).
Т.Г. Богданова показала, что отношения вербализованной и невербализованной активности зависят от значимости мотива (Тихомиров, 1984). При более значимой мотивации больше предшествований невербального поиска и совпадений. При менее значимой мотивации 25 % отношений между вербальным и невербальным поиском – запаздывание невербального поиска. Е.Е. Васюкова выявила общность характеристик и принципов развития ВОС и НОС. ВОС, как и НОС, характеризуются объемом, структурой, глубиной, но обладают дополнительной характеристикой – степенью осознанности.
Мотивация у Я.А. Пономарева используется как объяснительный принцип, в школе О.К. Тихомирова – как самостоятельный предмет исследования (изучаются поисковые потребности, мотивы разной значимости, устойчивые и ситуативные потребности, уровни развития познавательной потребности, мотивационный конфликт). Структурно-уровневый подход Пономарева созвучен идее Е.Е. Васюковой о функциональном уровневом развитии познавательной потребности, которая, став личностной чертой, определяет структуру мышления и поведения субъектов в ситуации прерывания процесса решения задачи, возврат к которому происходит на основе познавательной мотивации. В обеих школах познавательная мотивация (поисковая детерминанта у Пономарева, поисковая потребность у Тихомирова) рассматривается как необходимое первоначальное звено, инициирующее творческое мышление.
Проблема опосредствования решалась по-разному: интерес к новым средствам в школе О.К. Тихомирова, создателя психологии компьютеризации, и к интериоризации средств (внутренний план действия как важная составляющая творчества) в школе Я.А. Пономарева.
Список литературы
1. Васюкова Е.Е. Уровни развития познавательной потребности и их проявление в мыслительной деятельности. Автореф. дис. … канд. психол. наук. М. 1986.
2. Матюшкина А.А. Творческое мышление как предмет исследования в отечественной психологии: научные школы О.К. Тихомирова, А.М. Матюшкина, Я.А. Пономарева // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2008. № 2. С. 102–113.
3. Пономарев Я.А. Психология творчества. М., 1976.
4. Тихомиров О.К. Психология мышления: Учебное пособие. М., 1984.
5. Тихомиров О.К. Структура мыслительной деятельности человека (опыт теоретического и экспериментального исследования). М., 1969.
Киберпсихологические перспективы изучения групповых форм творческой деятельности. Войскунский А.Е.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
E-mail: vae-msu@mail.ru
Обоснованный Я.А. Пономаревым, хотя до сих пор недостаточно исследованный механизм группового творчества – это использование участниками группы побочного продукта. Практические нужды организации группового решения творческих задач побудили многих специалистов применять и модифицировать разнообразные протоколы варьирования контентного наполнения и ролевой структуры участников групповой активности (такие, как мозговой штурм, синектика, ТРИЗ и др., избегая при этом всевозможных вариантов groupthink), а также анализировать социально-психологические, организационные и возрастные особенности реализации совместной мыслительной деятельности и управления творческими процессами. Академическая психология также не прошла мимо проблематики группового решения задач. Так, в ведущих отечественных школах по исследованию творческого мышления уделялось немало внимания изучению особенностей совместной и групповой мыслительной деятельности: в школе О.К. Тихомирова соответствующая работа выполнялась Ю.Д. Бабаевой, А.К. Белоусовой, С.М. Джакуповым, А.А. Матюшкиной и др., в школе А.В. Брушлинского – В.А. Поликарповым, Л.В. Путляевой, Р.Т. Сверчковой и др., в школе Я.А. Пономарева – Ч.М. Гаджиевым, Л.М. Поповым, A.В. Растяниковым, И.Н. Семеновым, С.Ю. Степановым, Д.В. Ушаковым и др., в школе В.В. Давыдова – В.Т. Кудрявцевым, В.В. Рубцовым, Г.А. Цукерман и др.
Одно из современных направлений в зарубежной когнитивной науке – это изучение т. н. группового (или сетевого, как на этом настаивает, например, Д. Тапскотт) интеллекта. Значительная часть таких исследований ограничивается изучением механизмов, обеспечивающих коллективное поведение муравьиных роев, пчелиных семейств, рыбьих стай или косяков перелетных птиц, а также имитационным моделированием процессов целесообразного группового поведения простейших роботов либо их цифровых заменителей – вроде разработанного Дж. Конвеем клеточного автомата с игрой «Жизнь». Вместе с тем появились и собственно психологические исследования процессов решения задач в составе малых групп. Так, в исследованиях А. Вулли и др., а также Н. Меслеч и др. при решении как творческих, так и практических задач феномен коллективного интеллекта оказался лишь во вторую очередь зависящим от индивидуальных интеллектуальных способностей членов малой группы (от двух до пяти участников), а в первую – от их социальной сенситивности, а также от отсутствия в группе явно выраженного доминирующего лидера. Доминирование измерялось как преобладание вербальных высказываний какого-то члена группы (и, соответственно, малое участие других членов группы) в ходе работы над заданиями. Сенситивность же связывается, к примеру, с представленностью в группе женщин (справедливо считается, что женщины способствуют росту и поддержанию в группе социальной чувствительности).
Указанные авторы провели обширные исследования, ставя перед собой задачу выявить условия эффективной работы коллективного интеллекта. При этом оставлялись без внимания конкретные психологические механизмы эффективного решения задач в малых группах. В качестве одного из вероятных механизмов нами может быть предположительно названо вышеупомянутое применение побочного продукта, причем можно предположить, что в хорошо сбалансированных больших группах роль данного механизма окажется даже более существенной, нежели в малых группах или диадах. Помимо большего количества одновременно действующих участников, стоит обратить внимание и на пассивных участников. Так, в современных исследованиях подчеркивается ценность внутригрупповых процессов не только для самих включенных в групповой процесс решателей, но и для дистантных наблюдателей, первоначально не принимающих формального участия в процессах обсуждения попыток решения; таковых можно с некоторыми оговорками назвать lurkers, т. е. молчаливых (м.б., стыдливых или просто малоопытных) свидетелей.
Самые большие группы решателей разнообразных задач, в т. ч. творческих, в настоящее время собираются в киберпространстве. Именно в опосредствованной Интернетом групповой и массовой деятельности можно ожидать рождения и реализации новых идей. Этому способствуют множество программных решений, обеспечивающих распределенное (в нашей терминологии: см.: Войскунский, 2017) взаимодействие, прежде всего, это wiki-технологии. Ряд примеров эффективных творческих разработок приведен в книгах К. Ширки, Г. Рейнгольда, в наших статьях (Брызгалин и др., 2019; Войскунский, Игнатьев, 2013). Нами в рамках киберпсихологии выполнены как обзорные, так и эмпирические исследования творческой активности в малых и больших группах, объединенных Интернетом (Богачева, Войскунский, 2017; Voiskounsky et al., 2017). Не имея возможности представить детальную библиографию, ограничиваемся указанием некоторых собственных публикаций по теме.
Имеются основания предположительно полагать, что киберпространство – обширный и благодарный полигон для реализации творческого механизма, связанного с применением побочных продуктов.
Список литературы
1. Богачева Н.В., Войскунский А.Е. Компьютерные игры и креативность: позитивные аспекты и негативные тенденции // Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 4. С. 29–40.
doi:10.17759/jmfp.2017060403.
2. Брызгалин Е.А., Войскунский А.Е., Козловский С.А. Психологический анализ практического опыта разработки онлайн-энциклопедии Википедия // Сибирский психологический журнал. 2019. № 73. С. 17–39.
DOI: 10.17223/17267080/73/2.
3. Войскунский А.Е. Распределенность содействия в информационном обществе // Государство и граждане в электронной среде. Вып. 1. СПб.: Университет ИТМО, 2017. С. 308–314.
4. Войскунский А.Е., Игнатьев М.Б. Перспективы развития сетевого интеллекта // Рождение коллективного разума: О новых законах сетевого социума и сетевой экономики и об их влиянии на поведение человека / Под ред. Б.Б. Славина. М.: ЛЕНАНД, 2013. С. 263–283.
5. Voiskounsky A.E., Yermolova T.D., Yagolkovskiy S.R., Khromova V.M. Creativity in online gaming: individual and dyadic performance in Minecraft // Psychology in Russia: State of the Art, 2017. Vol. 10. № 4. P. 144–161.
Основные итоги научного творчества Я.А. Пономарева[2 - Работа выполнена по Государственному заданию № 0159-2020-0006.]. Галкина Т.В., Журавлев А.Л.
ФГБУН Институт психологии РАН (г. Москва)
E-mail: galkina@list.ru; alzhuravlev2018@yandex.ru
Яков Александрович Пономарев, 100-летие со дня рождения которого мы отмечаем в 2020 г., занимает особое место в отечественной психологической науке. Созданная Я.А. Пономаревым философско-психологическая теория – одно из крупных достижений отечественной гуманитарной мысли ХХ столетия. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, Пономарев является безусловным лидером в области психологии творчества. Но при этом он внес неоценимый вклад в развитие различных сфер психологической науки, ее истории, методологии. Его работы имеют не только общепсихологическое, но и общенаучное значение. Разработанная им философско-психологическая система научных представлений привлекает к себе все большее внимание, как представителей психологической науки, так и специалистов из смежных областей социо-гуманитарного знания.
Философско-психологическая система научных представлений Пономарева складывалась постепенно на протяжении всего непростого жизненного пути ученого (Галкина и др., 2020). Анализ научного наследия Пономарева позволяет выделить важнейшие итоги его экспериментальных и теоретических исследований, которые одновременно можно рассматривать и как основные положения созданной им философско-психологической теории. Кратко выделим эти положения: открытие феномена неоднородности результата действия человека (наличие прямого – осознаваемого и побочного – неосознаваемого продуктов деятельности) (Пономарев, 1960, 2010), выявление психологического механизма интуиции и введение категории взаимодействия (Пономарев, 2010); учение о психологическом механизме творчества (и поведения) и его центральном звене (способности действовать «в уме» – СДУ) (Пономарев, 1967, 1976а, 1976б); открытие универсального закона ЭУС (Пономарев, 1976а); учение о фазах творчества и структурных уровнях его организации (Пономарев, 1983); введение категории рефлексии (Психолого-педагогические…, 1988); выявление особенностей психологического механизма совместного творчества (Пономарев, Гаджиев, 1983); теория этапов развития научного знания (Пономарев, 1983) и разработка идеи экспериментальной методологии, как атрибута действенно-преобразующего типа знания (Пономарев, 2006, 2010).
Изучение научного творчества Пономарева позволяет констатировать, что он был выдающимся психологом – создателем общепсихологических концепций мышления (Пономарев, 1960, 1967, 1976б), интуиции (Пономарев, 2010), творчества (Пономарев, 1976а); специалистом в области философии и методологии психологии – автором оригинальной онтологии психического и гносеологии психологического познания, теории о типах (этапах) научного знания, заложившим, в частности, основы нового направления в психологической науке – психологии управления знаниями (Пономарев, 1983, 2006, 2010; Галкина, Журавлев, 2016; Нестик Журавлев, 2012; Журавлев, Ушаков, 2015); теоретиком-педагогом, предложившим оригинальную концепцию умственного развития, в основе которого лежит формирование внутреннего плана действий (ВПД) или иначе – способности действовать «в уме» (СДУ) (Пономарев, 1967, 1976а, 1976б; Галкина, 2010; и др.), продемонстрировавшим значение исследования творческой деятельности человека для развития педагогической теории и практики управления педагогическим процессом (Пономарев, 1976а, 1976б), а также разработавшим с коллегами психолого-педагогические технологии развития изобретательского творчества, психотехники принятия решений (Пономарев, Гаджиев, 1983). Тем самым заложив основы новых отраслей психологического знания – психологии рефлексии и социальной психологии креативности, связанных с различными областями общественной практики (Галкина, Журавлев, 2016; Психолого-педагогические…, 1988; Психология творчества…, 2006).
В заключение отметим, что, к сожалению, до сих пор многие научные идеи Пономарева остаются не до конца понятыми и недостаточно использованными, хотя многие из них имеют выраженное теоретическое и практическое значение. Многогранная научно-творческая деятельность Пономарева по-прежнему требует глубокого анализа и профессионального осмысления целого ряда положений его философско-психологической теории.
Список литературы
1. Галкина Т.В. Развитие концепции Я.А. Пономарева о центральном звене психологического механизма поведения // Психология интеллекта и творчества: Традиции и инновации. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. С. 22–34.
2. Галкина Т.В., Журавлев А.Л. Развитие научного творчества Я.А. Пономарева // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 1. С. 16–25.
3. Галкина Т.В., Журавлев А.Л., Маховская О.И., Ушаков Д.В. Жизненный путь и научное творчество Я.А. Пономарева // Выдающиеся ученые Института психологии РАН: биографические очерки. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2020. С. 342–374.
4. Журавлев А.Л., Ушаков Д.В. Я.А. Пономарев и психология творчества: от классики к современности // Психологический журнал. 2015. Т. 36. № 6. С. 5–11.
5. Нестик Т.А., Журавлев А.Л. Основные теоретические подходы в психологии управления знаниями // Психология управления в современной России: процессы труда и организации: Материалы международной научно-практической конференции. Тверь: Изд-во ТвГУ, 2012. С. 4–8.
6. Пономарев Я.А. Знания, мышление и умственное развитие. М.: Педагогика, 1967.
7. Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию. М.: Наука, 1983.
8. Пономарев Я.А. Перспективы развития психологии творчества // Психология творчества: школа Я.А. Пономарева. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. С. 145–276.
9. Пономарев Я.А. Психика и интуиция. Неопубликованные материалы, стихи, рисунки и фотографии. М.: ООО «ТИД «Арис»», 2010.
10. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960.
11. Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука, 1976а.
12. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М.: Педагогика, 1976б.
13. Пономарев Я.А., Гаджиев Ч.М. Психологический механизм группового (коллективного) решения творческих задач // Исследование проблем психологии творчества. М.: Наука, 1983. С. 279–295.
14. Психология творчества: школа Я.А. Пономарева. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006.
15. Психолого-педагогические аспекты развития творчества и рефлексии. М.: ИФ АН СССР, 1988.
Идеи Я.А. Пономарева и диалого-культурологический подход в психологии творчества. Копылов С.О.
Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины (г. Киев, Украина)
Рост числа культуроориентированных подходов и теорий в психологии последних десятилетий, их интенсивное развитие говорят об актуальности оформления соответствующей целостной парадигмы. Это особенно насущно для исследований творчества, которое при любых его трактовках представляется неотделимым от идеи культуры. Однако такой интеграции (как и на уровне психологического знания в целом) мешает прежде всего различие всеобщих оснований при отсутствии действенной и взаимоприемлемой логической модели синтеза или «содержательной конструктивной коммуникации» (Мазилов, 2006, 38) именно на уровне целостных систем знания, а не только их компонентов. Последнее, очевидно, предполагает содержательное взаимодействие логических ядер или «логических начал» (Л.С. Выготский) подходов, которые, противореча друг другу, объективно все больше обнаруживают свою взаимодополнительность.
Представляется важным наметить конкретные формы и содержание такой дополнительности на примере двух эвристических подходов к изучению творческой активности – концепции творческого мышления А.Я. Пономарева и диалого-культурологического подхода, развиваемого на основе философии диалога ХХ ст. и, в частности, традиции М.М. Бахтина и В.С. Библера (АРХЭ, 2011; Библер, 1997; Копылов, 2016; Школа диалога культур, 1993). Развивая второе из этих направлений и ставя в центр исследования творчества категорию произведения культуры (в понимании Бахтина, развитом и переосмысленном В.С. Библером (Библер, 1997)), мы обнаружили возможность и насущность сопряжения с рядом ключевых идей А.Я. Пономарева.
В частности, принимая его трактовку человеческого творчества как деятельности, ведущей к развитию (Пономарев, 1976), мы понимаем под последним формирование и преобразование (обогащение содержания и усложнение форм) со-бытия (диалогического взаимодействия) индивида с другими людьми, предметным миром и с собой. Психика при этом предстает одновременно аппаратом преобразующей активности и одним из ее предметов, а личность (как субъект бытия в культуре) – произведением и его автором (ср. идею «производящего произведения» М.Мамардашвили). Это одно из основних измерений диалогичности внутренней жизни.
При этом роль мышления – созидательно-организующего начала человеческой психики, «необходимой предпосылки всякой другой психической деятельности» (Пономарев, 1976, 176) – заключается в формировании и трансформации сознания, которое, в свою очередь, является «средой» мысленного диалога и в то же время формой ее «снятия» (Библер, СиМ). В контексте же установки индивидуальной психики на создание и понимание произведений культуры (и, в частности, собственного бытия как произведения) мышление является агентом: 1) порождения, изменения и осуществления замысла, 2) интерпретации текста произведения. Сознание при этом предстает собственно творимым (постоянно воссоздаваемым, изменяемым) и понимаемым текстом и в то же время системой «функциональных органов» (относительно автономных агентов) творческой мысли.
Далее, идея произведения представляется существенно близкой к понятиям «субъектной» («первичной)» и «вторичной» модели) у Пономарева (Пономарев, 1976). Г.О. Балл, содержательно развивая эти категории, создал концепцию культуры как сферы порождения и использования моделей – 1) идеальных (психических), материальных или материализованных; 2) вторичных (отображающих) и/или первичных (порождающих, «проектных») (Балл, 2006, 2017). На наш взгляд, в этих терминах произведение (и культура в целом как «произведение произведений») может быть понято как диалогически-противоречивое взаимополагание идеального и материального, первичного и вторичного моделирования.
Наконец, при диалого-культурологическом подходе «ведущей осью» мысленного диалога (в его взаимопереходе с внешним общением) является исследованное Пономаревым на материале научного творчества взаимодействие дискурсивно-логического и интуитивного. Раскрытие конкретной логики их взаимоперехода, содействия на разных этапах и в разных формах творческого процесса – ключ к пониманию «мышления как творчества» (В.С. Библер). Важно спроецировать это отношение на взаимодействие внешней и внутренней речи – «перевод» внутренне-речевых смыслов в значения грамматически-расчлененного внешнего высказывания (на естественном языке или с использованием вторичных знаковых систем) и «обратное» погружение текста в процесе его понимания в стихию внутренней речи. При этом «овнешнение» мысли в речи к себе как другому (реципиенту высказывания-произведения) предстает решающим условием творческого мышления.
Список литературы
1. АРХЭ: Труды культуро-логического семинара. Вып. 6. – М.: РГГУ, 2011. – 317 с.
2. Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы. К.: «Основа», 2006. 408 с.
3. Балл Г.О. Рацiогуманiстична оiентацiя в методологii людинознавства. К.: Видавництво ПП «СКД», 2017. 204 с.
4. Библер В.С. На гранях логики культуры. М.: Рус. феном. общ., 1975. 440 с.
5. Библер В.С. Сознание и мышление. [Электронный ресурс]. URL: bibler.ru/shdkom_be_shdk.html.
6. Копылов С.О. Аутентичность профессиональной деятельности и логика культуры // Психология развития человека как субъекта труда. Развитие творческого наследия Е.А. Климова. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 12–15 октября 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: www.psy.msu.ru›science›conference›klimov›2016›book.
7. Мазилов В.А. Методологические проблемы психологии в начале XXI века. Психологический журнал. 2006. Т. 27. № 1. С. 37–53.
8. Пономарев А.Я. Психология творчества. М.: Изд-во «Наука», 1976. 304 с.
9. Пономарев А.Я. Психология творчества и педагогика. М.: Педагогика, 1976. 280 с.
10. Школа диалога культур. Идеи. Опыт. Проблемы. Под ред. В. Библера. Кемерово, АЛЕФ, 1993. 416 с.
Я.А. Пономарев и исследования творческого мышления при решении разных типов задач[3 - Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 19-29-07156.]. Мазилов В.А.
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль)
E-mail: v.mazilov@yspu.org
В истории российской психологии Я.А. Пономарев занимает совершенно особое место. «Он не только создал структурно-уровневую теорию и был в течение многих лет лидером психологии творчества в нашей стране, но также внес вклад в исследование философско-методологических проблем» (Ушаков, 2006, с. 19).
По авторитетному суждению Д.В. Ушакова, с которым можно полностью согласиться, «по собственной идее пятикурсника Якова Пономарева была выполнена в 1951 году его дипломная работа, которая ознаменовала начало целого этапа отечественной психологии мышления и стала отправной точкой для размышлений А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. Одна из причин столь глубокого влияния этой юношеской работы заключается в том, что Я.А. Пономарев разработал экспериментальный объект, который стал впоследствии классикой нашей психологии…» (Ушаков, 2006, с. 26).
Необходимо отметить, что Я.А. Пономарева с самого начала его творческого пути отличала высочайшая методологическая культура исследования. Это всегда выгодно отличало исследования самого автора и его школы. Психология творческого мышления знает множество примеров, когда проведя эксперимент с одной задачей совершенно определенного типа, тот или иной исследователь делает выводы относительно мышления или творчества в целом.
У Я.А. Пономарева был жесткий отбор задач, всегда оправданный теоретически, что дало замечательные результаты, которые общеизвестны. Я.А. Пономарев писал: «Для успеха экспериментального исследования большое значение имеет выбор экспериментальных задач. В большинстве случаев подбор задач был случайный. Не учитывается, что далеко не каждая задача, заимствованная из какой-либо области знания, скажем, математики, физики и т. п. является вполне пригодной для изучения психологического механизма решения задачи» (Пономарев, 2006, с. 165). И далее: «Точности психологического исследования чаще всего препятствует то обстоятельство, что ответ испытуемого на предложенную ему задачу опосредствуется обширным содержанием его прошлого опыта, учесть который в достаточной степени оказывается невозможно» (Пономарев, 2006, с. 165). Я.А. Пономарев указывает, что характер задачи, используемой в экспериментах, должен давать возможность нивелировать прошлый опыт.
Однако есть класс задач, моделирующих творческий процесс, когда от прошлого опыта испытуемых абстрагироваться нельзя. Для этих случаев были разработаны процедуры предварительной диагностики опыта (Мазилов, 1978, 1979). Существует класс задач, в которых сложность не столько в том, что решающий должен открыть принцип решения, сколько в том, что для этого необходимо преодолеть заблуждение, связанное с неадекватностью прошлого опыта условиям задачи. В этом случае задача становится двухфазной: на первом этапе преодолевается заблуждение, на втором происходит догадка о решении. Может быть выстроена типология трудностей задач в зависимости от степени неадекватности опыта (Мазилов, 2010). Обратим внимание на то, что побочный продукт часто приводит к необходимости корректировки структур опыта.
Оказалось возможным представить процесс ограничений в решении мыслительных задач творческого характера этого типа в виде модели, в которой каждый элемент проблемной ситуации представляется субъектом как обладающий определенной структурой свойств, в которых выделяются допустимый, запретный и индифферентный диапазоны. Процесс локации ограничений начинается с с формирования критериев локации ограничений, с которыми сопоставляются элементы ситуации. Процесс ограничений является двунаправленным: с одной стороны происходит отыскание нужных элементов (этот процесс ведется по свойствам допустимого диапазона), с другой – происходит исключение не подходящего (по свойствам запретного диапазона). Обнаружение элемента, соответствующего критериям локации ограничений, приводит к своеобразному «замыканию»: процесс локации ограничений временно приостанавливается и начинается детальный анализ этого элемента.
Список литературы
1. Мазилов В.А. О природе «латентных» свойств проблемной ситуации // Психологические проблемы рационализации деятельности. Ярославль: ЯрГУ, 1978.С. 74–79.
2. Мазилов В.А. Решение творческих мыслительных задач: соотношение знания и мышления // Психологические исследования интеллекта и творчества: Материалы научной конференции, посвященной памяти Я.А. Пономарева и В.Н. Дружинина, ИПРАН, 7–8 октября 2010 г. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010. С. 30–32.
3. Мазилов В.А. Структуры субъективного опыта и решение задач // Психологические проблемы рационализации деятельности. Ярославль, ЯрГУ, 1979. С. 15–27.
4. Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию. М.: Наука, 1983. 206 с.
5. Пономарев Я.А. Перспективы развития психологии творчества // Психология творчества: школа Я.А.Пономарева / Ред. Д.В. Ушаков. М.: Институт психологии РАН, 2006. С. 145–276.
6. Пономарев Я.А. Психология творчества. М., Наука, 1976. 304 с.
7. Ушаков Д.В. Языки психологии творчества: Яков Александрович Пономарев и его научная школа // Психология творчества: школа Я.А.Пономарева / Ред. – составитель Д.В. Ушаков. М.: Институт психологии РАН, 2006. С. 19–144.
Я.А. Пономарев и методология психологии[4 - Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 19–29–07156.]. Мазилов В.А., Слепко Ю.Н.
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль)
E-mail: v.mazilov@yspu.org; slepko@inbox.ru
Я.А. Пономарев – выдающийся отечественный психолог, работы которого имеют непреходящее значение. Вся психология творческого мышления в советской психологии началась с ранних работ Я.А. Пономарева (Ушаков, 2006), поэтому неудивительно, что его исследования творчества известны в значительно большей степени, чем другие его работы. Однако научное творчество самого ученого удивительно целостно. «Случай Я.А. Пономарева» нечастый в истории психологии, когда исследователь в течение всего творческого пути развивал и углублял подход, переосмысливал результаты, что позволяло открывать новые горизонты.
Я.А. Пономарев с самого начала своего пути проявлял качества глубокого методолога, что позволило не ограничиваться толкованием методологических принципов, к чему методология советской психологии сводилась во многих случаях, а обратиться к разработке фундаментальных вопросов, при этом проявляя свою удивительную оригинальность мыслителя. Подчеркнем, он, вероятно, единственный в отечественной психологии понимал всю сложность стоящих задач: «Современные методологические проблемы психологии настолько сложны и многообразны, что охватить их с достаточной полнотой и последовательностью в индивидуальном исследовании невозможно. Необходим ряд ограничений, определяющих отбор, объем и содержание взятых для анализа проблем» (Пономарев, 1983, с. 3).
В силу ограниченности объема публикации обратимся только к двум моментам методологической концепции Я.А. Пономарева. Хорошо известно, что в современной российской психологии актуальна проблема интеграции психологического знания. Многие психологи признают ценность интеграции, однако ограничиваются декларациями, тогда как главная сложность решения проблемы – раскрытие возможных механизмов интеграции. Один из них можно увидеть в работах Я.А. Пономарева, посвященных характеристике типов психологического знания (Пономарев, 1983). Он выделил три типа научного знания: созерцательно-объяснительный, эмпирический и действенно-преобразующий. Классификация может быть полезна при обсуждении проблемы интеграции. А.Л. Журавлев и Д.В. Ушаков поясняют: «при всем многообразии проявлений, которыми характеризуется поведение человека, для объяснения любого феномена, полученного в эмпирическом исследовании, применяется модель, имеющая локальный характер. Для объяснения феноменов, полученных в других экспериментах, требуются другие модели. Так образуется эмпирическая многоаспектность – множество локальных моделей, не связанных между собой и предназначенных для объяснения отдельных закономерностей, добытых в экспериментах и иных эмпирических исследованиях» (Журавлев, Ушаков, 2012, c. 169). Интеграция локальных моделей составляет задачу «действенно-преобразующего знания, которое должно упорядочить локальные модели на основе «объективных критериев», в качестве которых, по Пономареву, выступают структурные уровни организации явлений – трансформированные… этапы развития» (Журавлев, Ушаков, 2012, c. 169).