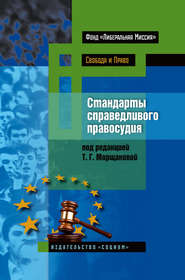скачать книгу бесплатно
Нарушения права на доступ к суду по российским делам в ЕСПЧ носят единичный характер. Вместе с тем некоторые из дел данной категории отражают особенности законодательства или сложившейся практики российских судов, а значит, отражают проблемы потенциально системного характера.
Так, в деле «Sergey Smirnov v. Russia» (постановление от 22 декабря 2009 года) Европейский суд признал нарушение п. 1 статьи 6 Конвенции в контексте права заявителя на доступ к суду. Оно выразилось в том, что суды общей юрисдикции (первой и второй инстанций) отказали в принятии к рассмотрению исковых заявлений, поданных С.Ю. Смирновым в связи с отсутствием у него регистрации по месту жительства. Данное дело демонстрирует вакуум правовой защиты для лиц при отсутствии у них регистрации по месту жительства в России. Заявитель по данному делу пытался совершить ординарные действия (взять на прокат имущество, зарегистрировать на себя номер мобильного телефона), в чем ему было отказано из-за отсутствия регистрации. Поданные в судебном порядке жалобы на такой отказ также не были приняты в связи с отсутствием регистрации по месту жительства.
Европейский суд по данному делу отметил, что «право на возбуждение судебного разбирательства по гражданскому делу составляет лишь часть права на суд, однако именно эта часть делает возможным использование дополнительных гарантий, которые заложены в п. 1 статьи 6 (см. постановление по делу «Teltronic-CATV company v. Poland» от 10 января 2006 г.)»[32 - Перевод данного постановления выполнен Аппаратом Уполномоченного РФ при ЕСПЧ.]. Суд отметил, что «требование указать место жительства истца само по себе не нарушает п. 1 статьи 6. Оно преследует законную цель надлежащего осуществления правосудия, поскольку позволяет судам поддерживать связь с истцом и вручать ему повестки или судебные решения. Однако в данном деле заявитель, который не имел определенного места жительства, не мог выполнить требования суда, но он предложил альтернативу – назвал адрес для корреспонденции».
Отметив, что правила подсудности не препятствовали судам принять иск, так как он предъявлялся по месту нахождения ответчика, Суд указал, что «национальные суды не только наказали заявителя за несоблюдение формального требования, но также наложили на него существенные ограничения, не допуская рассмотрения… его исковых требований…Тем самым была нарушена сама суть права на доступ к суду… Подобное строгое применение процессуальной нормы без рассмотрения особых обстоятельств не может считаться совместимым с положениями п. 1 статьи 6».
Если указание места жительства истца в исковом заявлении необходимо главным образом для целей коммуникации суда с истцом, то возможны и определенные шаги по установлению альтернативных механизмов такой коммуникации, как это сделано, например, в АПК РФ, статья 125 которого в редакции, вступившей в силу с 1 ноября 2010 года, требует указания в исковом заявлении адреса электронной почты истца. Это создает альтернативу традиционному способу направления судебных извещений и в судах общей юрисдикции – в случаях, аналогичных рассмотренному в деле Сергея Смирнова. Данное дело демонстрирует формальный подход судов к применению процессуальных норм, когда правоприменительная практика ориентируется не на их изначальную цель (в данном деле – коммуникацию суда с истцом), а лишь на следование букве закона.
В деле «Itzlaev v. Russia» (постановление от 9 октября 2008 года) предметом рассмотрения Суда стали сроки обращения в суд по трудовым спорам и их совместимость с Конвенцией. Суд указал, что установление таких сроков само по себе не является несовместимым с Конвенцией, но определяющим следует считать то, каким образом данные сроки были применены в отношении заявителя. Поскольку в данном деле суды рассмотрели ходатайство заявителя о восстановлении пропущенных сроков и его доводы о наличии уважительных причин такого пропуска, дали им оценку, не согласившись с доводами заявителя, Суд пришел к выводу, что в отношении заявителя не имели места чрезмерные ограничения, касающиеся доступа к суду; следовательно, отсутствовало и нарушение п. 1 статьи 6 Конвенции[33 - Обстоятельства дела приводятся по: Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 162–164.].
Разграничение компетенции между судами общей и арбитражной юрисдикции
Еще одна серьезная проблема российской правовой системы, связанная с недостаточно четкими критериями разграничения компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, была выявлена Европейским судом в деле «Bezymyannaya v. Russia» (постановление от 22 декабря 2009 года). В данном деле Суд установил нарушение права на доступ в суд. Изначально иск гражданки Безымянной о признании недействительным договора дарения нежилых помещений ее мужем третьим лицам был предъявлен в районный суд общей юрисдикции, который, сочтя, что дело неподведомственно судам общей юрисдикции, передал его, согласно подведомственности, в арбитражный суд. Арбитражный суд также прекратил производство в связи с не-подведомственностью дела арбитражным судам. Европейский суд признал, что в данном деле заявительница оказалась в ситуации «судебного вакуума», когда по независящим от нее причинам суды отказывались рассматривать ее дело под предлогом того, что это не входило в их компетенцию. Соответственно, ЕСПЧ признал нарушение права заявительницы на доступ к суду.
Проблема разграничения компетенции между двумя ветвями судебной системы, рассматривающими дела гражданско-правового характера, порождает негативные последствия для участников соответствующих правоотношений (неопределенность, потеря времени, иногда пропуск сроков для обращения в суд). Кроме того, поскольку формально российское законодательство не допускает возможности передачи дела по подведомственности из одной ветви судебной системы в другую и исключает споры о подведомственности, последствия таких ошибок судов приводят к тому, что сторонам фактически отказывают в судебной защите. Законодатель должен обеспечить баланс таких конституционных ценностей, как право на законный суд (по смыслу статьи 47, часть 1, Конституции РФ) и право на судебную защиту, которого лицо лишается, если невозможно определить более точные критерии подведомственности и у судов нет единого мнения о ней. В литературе предлагается, чтобы при отказе в принятии заявления или при прекращении производства по делу в силу его неподведомственности данному суду последний указывал компетентный для данного дела суд[34 - См.: Елисеев Н.Г. Разрешение коллизий подведомственности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 8 (СПС «Консультант-Плюс»).].
Возможный вариант решения проблемы предлагается в практике арбитражных судов, в некоторых случаях рассматривающих неподведомственные им дела, если ранее заявителю было отказано в принятии заявления судами общей юрисдикции по мотиву неподведомственности. Мотивом принятия таких дел к рассмотрению в арбитражных судах становится необходимость обеспечения прав заявителя на судебную защиту[35 - См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 24 февраля 2004 года № 11675/03.]. Однако понятно, что эти меры точечного характера не могут решить проблему полностью. Необходимо законодательно закрепить процедуры и рамочные условия для применения более гибких правил определения подведомственности в «пограничных», неочевидных случаях с тем, чтобы право заявителей на судебную защиту не нарушалось.
2. Состязательный характер процесса и процессуальное равенство сторон
Состязательность – элемент справедливого правосудия
Как следует из практики Суда, справедливость судебного разбирательства рассматривается им не только и не столько как конечный результат, на достижение которого направлена статья 6 Конвенции, но и как общая характеристика надлежащего процесса, в качестве одного из сущностных элементов которого ЕСПЧ рассматривает состязательную процедуру и равенство сторон.
Так, в деле «Galich v. Russia» (постановление от 13 мая 2008 года) Суд указал, в частности, что «требования справедливого судебного разбирательства применительно к гражданским делам менее строги, нежели в ситуации с уголовными делами. Тем не менее гражданское разбирательство должно быть справедливым, справедливость подразумевает наличие состязательной процедуры, которая, в свою очередь, требует, чтобы суд не основывал свое решение на доказательствах, которые не стали доступными одной из сторон».
При этом из позиций ЕСПЧ следует, что установление требований к реальной состязательности при рассмотрении той или иной категории дел, а также соотношения активности суда и сторон в сфере доказывания относится к сфере усмотрения национального законодателя. Кроме того, в национальных процессуальных системах часто устанавливаются процедуры несостязательного характера (различные упрощенные производства, процедуры вынесения заочных решений, аналоги российского приказного производства и т. д.), которые сами по себе не являются несовместимыми с Конвенцией. Суд оценивает совместимость указанных процедур с критерием справедливости, закрепленным Конвенцией. Справедливость же определяется через соблюдение принципа процессуального равенства сторон, в том числе в сфере представления доказательств, и права представить свои объяснения в ответ на доводы другой стороны.
В частности, при рассмотрении дела «Khuzhin v. Russia» Суд указал, что принцип состязательности является одним из аспектов концепции справедливого судебного разбирательства в ее преломлении применительно к фактическим обстоятельствам дела. В отношении как уголовных дел, так и гражданских данный принцип предусматривает, что каждой стороне должна быть предоставлена разумная возможность знать и комментировать возражения либо доказательства, предоставляемые другой стороной, а также представить свое дело на условиях, которые не ставят одну сторону в существенно более невыгодное положение в сравнении с ее оппонентом (постановление от 23 октября 2008 года)[36 - Текст постановления приводится по: Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 228.].
Таким образом, справедливость судебного разбирательства прочно ассоциируется в практике ЕСПЧ с правом стороны представить свои объяснения (the right to be heard) – процессуальной гарантии, известной еще римскому праву (audiatur et altera pars) и рассматривающейся в современной процессуальной науке, по замечанию Е.А. Виноградовой со ссылкой на Флорентийский проект, «как своеобразный знаменатель, дающий два принципиально важных результата: (а) установление минимального стандарта процессуальной справедливости, (б) отделение такого минимального стандарта от других технических несущественных правил или даже ненадлежащих элементов процессуального формализма»[37 - Виноградова Е.А. Фундаментальные положения гражданского процессуального права.].
Равноправие сторон
Суд рассматривает процессуальное равноправие сторон (equality of arms) как один из элементов справедливого судебного разбирательства (fair trial), предполагающий – по смыслу п. 1 статьи 6 Конвенции – обеспечение «справедливого баланса прав сторон» (постановления по делам «Yvon v. France» от 24 апреля 2003 года, «Nider?st-Huber v. Switzerland» от 18 февраля 1997 года и др.).
Как показывает анализ практики Суда по российским делам, нарушение статьи 6 Конвенции в связи с необеспечением процессуального равноправия сторон главным образом констатируется Европейским судом применительно к рассмотрению уголовных дел, в отношении которых, как указывает М. де Сальвиа, Судом был разработан истинный corpus juris[38 - См.: Сальвиа М., де. Указ. соч. С. 376.]. Данные гарантии при рассмотрении гражданских дел российскими судами в основном соблюдаются. В отдельных делах, однако, отмечены нарушения по отдельным аспектам равенства или состязательности и в их числе также ненадлежащее уведомление сторон о судебном заседании. Последняя категория дел получила негативную оценку Суда в связи с такими последствиями отмеченного нарушения, как непредоставление сторонам возможности дать объяснения по делу и отступление от требования публичности судебного разбирательства.
Ненадлежащее уведомление сторон о судебном заседании
Право лица на своевременное уведомление о начавшемся в отношении него судебном процессе является одной из фундаментальных гарантий при осуществлении правосудия. Как отмечается в одном из авторитетных трудов последних лет в области сравнительного гражданского процесса, «право на справедливое судебное разбирательство, или на надлежащее отправление правосудия [due process], в странах общего права или в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, или согласно конституционному праву Германии (в частности, право представить свои объяснения [right to be heard] в соответствии со ст. 103 немецкого Основного Закона), или же согласно 14-й Поправке к Конституции США, – требует, чтобы каждая из сторон получала своевременное уведомление о любом судебном разбирательстве, затрагивающем ее интересы, и разумную возможность направить свои возражения. Следовательно, ответчики должны быть извещены о предъявленных в отношении них требованиях. Все стороны должны получить уведомление о любом судебном слушании, которое должно быть проведено, о любом документе, который должен быть представлен в слушании, о любом свидетеле, подлежащем вызову, о любых изменениях требований и возражений любой из сторон и о любом другом документе, который может быть использован в судебном разбирательстве»[39 - Chase O., Hershkoff H., Silberman L., Taniguchi Y., Varano V., Zuckerman A. Civil Litigation in Comparative Context. Thomson West, 2007. P. 165.].
Нарушение данного принципа установлено Судом в ряде российских дел. В основном они связаны с необеспечением явки в судебное заседание второй инстанции подсудимых в уголовных процессах, но нарушение статьи 6 в связи с несоблюдением права на надлежащее уведомление констатировалось Судом и по ряду гражданских дел (например, «Yakovlev v. Russia», «Groshev v. Russia», «Subbotkin v. Russia», «Sivukhin v. Russia» и др.). Так, в деле Яковлева повестка о кассационном рассмотрении дела была направлена заявителю в день заседания суда кассационной инстанции, а получена через 4 дня после заседания. В постановлении по данному делу от 6 июля 2005 года Суд напомнил, что в соответствии с п. 1 статьи 6 право на «публичное слушание» с необходимостью предполагает право на «устное слушание», но право на проведение публичного слушания не является абсолютным. Кроме того, российское процессуальное законодательство предусматривает проведение устного слушания в суде кассационной инстанции, однако присутствие сторон не является обязательным и неявка стороны без уважительных причин, в силу отсутствия надлежащего уведомления, не препятствует проведению судебного заседания. Суд отметил, что данные положения сами по себе не являются несовместимым с п. 1 статьи 6 Конвенции. Однако право на публичное слушание лишилось бы своей сути, если бы сторона по делу не была извещена о слушании таким образом, чтобы иметь возможность присутствовать на заседании в случае, если бы у нее было такое желание. Поэтому в данном деле Суд, с учетом того что заявитель получил повестку о слушании только через 4 дня после самого слушания, а суд кассационной инстанции не исследовал вопрос о надлежащем уведомлении заявителя, установил нарушение права заявителя на публичное заседание, гарантированное п. 1 статьи 6 Конвенции.
К аналогичным выводам Суд пришел и в других делах данной категории. Эти дела немногочисленны, но довольно показательны, так как обнажают одну из серьезнейших проблем современного гражданского судопроизводства в России – проблему надлежащего извещения сторон и свидетельствуют о том, что требуется пересмотреть традиционную и во многом устаревшую процедуру вручения процессуальных документов в российском гражданском процессе.
Попытки решения проблемы надлежащих извещений с помощью новых электронных технологий предпринимаются в арбитражном процессе. Так, статья 121 АПК РФ в редакции, действующей с 1 ноября 2010 года, предусматривает, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу (который доставляется традиционным способом, т. е. почтовой связью, по месту жительства [месту нахождения] таких лиц) в дальнейшем самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела и принимаемых по делу судебных актах, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия; эта информация размещается на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет не позднее 15 дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Порядок уведомления о слушании
Европейским судом был проанализирован и особый характер процедуры уведомления стороны о судебном заседании, используемый в Конституционном Суде РФ (решение от 6 ноября 2003 года «По вопросу приемлемости жалобы “Nikolay Dmitrievich Rochka v. Russia”»). В данном деле заявитель жаловался, среди прочего, на неуведомление о слушании дела с его участием в заседании Конституционного Суда РФ. ЕСПЧ отметил, что в деле, в котором рассматривалась жалоба заявителя, в качестве заявителей выступали 2057 нотариусов, 562 индивидуальных предпринимателя, 61 адвокат, 7 фермеров, 15 региональных и межрегиональных общественных организаций инвалидов, а также Всероссийский фонд социально-правовой защиты и реабилитации инвалидов и два суда, обратившихся с запросами о проверке конституционности оспариваемых норм. Конституционным Судом РФ все обращения были объединены в одно производство[40 - Речь шла о Постановлении Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1999 года № 18-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 1, 2, 4 и 6 Федерального закона от 4 января 1999 года «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на 1999 год» и статьи 1 Федерального закона от 30 марта 1999 года «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и в фонды обязательного медицинского страхования на 1998 год» в связи с жалобами граждан, общественных организаций инвалидов и запросами судов».].
Анализируя аргументы заявителя, Европейский суд указал, что заявителю не препятствовали представить свои доводы в устном или письменном виде. Заявитель мог узнать о заседании по его делу из объявлений, которые Конституционный Суд вывешивает на здании, в котором находится, а также публикаций в СМИ. Европейский суд отметил, что не убежден в необходимости личного участия заявителя для формирования мнения Конституционного Суда.
Принимая во внимание характер судебного разбирательства, число лиц, которые имели общий интерес, жалобы которых были объединены в одно производство и рассмотрены на одном судебном заседании, их представительство на заседании, отсутствие необходимости личного присутствия заявителя и уведомление общественности о судебном заседании, Европейский суд не установил, что неуведомление заявителя лично о судебном заседании Конституционным Судом Российской Федерации, лишившее заявителя возможности лично присутствовать на слушании его дела, нарушило права, гарантируемые п. 1 статьи 6 Конвенции[41 - Перевод указанного решения ЕСПЧ на русский язык приводится по СПС «Консультант-Плюс».].
Таким образом, данное решение ЕСПЧ подтвердило соответствие международным (европейским) стандартам процедуры уведомления заявителей о заседании Конституционного Суда путем размещения «публичного объявления» – в здании КС и в СМИ. В настоящее время такая информация также размещается на официальном сайте Конституционного Суда.
С учетом данного решения ЕСПЧ можно предположить, что процедуры уведомления сторон о судебном заседании, устанавливаемые действующей с 1 ноября 2010 года редакцией АПК РФ, в целом могут рассматриваться как соответствующие современным европейским подходам. Однако в приведенном примере Европейским судом анализировалось соблюдение права на надлежащее извещение для стороны, инициирующей производство. Очевидно, что к реализации аналогичного права ответчика – как стороны, которая лишь узнает о начавшемся в отношении нее судебном процессе, но не инициирует его, – должны предъявляться более строгие требования. Признание соответствия новой процедуры уведомления, закрепленной АПК РФ, Европейской конвенции будет зависеть от реального соблюдения требования «личного вручения» первого судебного акта по делу – именно на этом основании ответчик и иные лица, участвующие в деле, за исключением истца, узнают о начавшемся процессе, который может затронуть их правовое положение.
Равноправие сторон в судебном разбирательстве
Из немногих дел, рассмотренных ЕСПЧ в контексте обеспечения процессуального равноправия сторон, внимания заслуживает дело «Galich v. Russia» (постановление от 13 мая 2008 года) об уменьшении размера неустойки судом кассационной инстанции по его собственной инициативе. Хотя само по себе полномочие суда сократить размер неустойки не было названо Европейским судом несовместимым с Конвенцией, ЕСПЧ признал нарушение п. 1 статьи 6 в связи с непредоставлением сторонам возможности быть услышанными по данному вопросу.
Участие прокурора в гражданском деле как нарушение равноправия сторон
Соблюдение процессуального равноправия сторон оценивалось Судом в деле «Menchinskaya v. Russia» (постановление от 15 января 2009 года). Решением национального суда были удовлетворены требования заявительницы об индексации пособия по безработице, на это решение была подана кассационная жалоба ответчиком – центром занятости, а также принесен кассационный протест прокурором (по правилам статьи 282 ГПК РСФСР), поддержавшим доводы кассационной жалобы. В предшествующей практике Суда сам факт присутствия прокурора или аналогичного ему должностного лица в судебном заседании расценивался – вне зависимости от того, было ли его поведение активным или пассивным, – как нарушение п. 1 статьи 6 Конвенции (постановление по делу «Martinie v. France» от 12 апреля 2006 года). В других делах Судом исследовался также вопрос о том, было ли стороне предоставлено право ознакомиться с доводами прокурора и представить свои возражения на них (постановление по делу «Lobo Machado v. Portugal» от 20 февраля 1996 года). Однако Суд отметил, что российское дело представляло собой особый случай, поскольку прокурор не присутствовал в заседании суда кассационной инстанции – его протест был направлен заявительнице, она могла представить свои возражения относительно его аргументов. Вместе с тем, поскольку прокурор, рекомендуя удовлетворить или отклонить кассационную жалобу, становится союзником или оппонентом той или иной стороны, его участие создает у другой стороны чувство неравенства, поэтому задачей ЕСПЧ становится определение того, был ли соблюден «баланс прав» сторон.
Анализируя обоснованность участия прокурора в данном деле, Суд, со ссылкой на мнение Комиссии Совета Европы «За демократию через право» (Венецианская комиссия), указал следующее. Сторонами в гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик, обладающие равными правами, включая право на оказание юридической помощи. Поддержка прокурором позиции одной из сторон, безусловно, может быть оправданной при некоторых обстоятельствах, например для защиты прав уязвимых групп населения – несовершеннолетних, недееспособных граждан и т. д., которые предположительно не в состоянии защищать свои интересы самостоятельно, или же если каким-либо противоправным поведением затронуты многочисленные группы людей, или же если в защите нуждаются интересы государства. Однако противником заявительницы по данному делу являлся государственный орган (центр занятости), который подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение им норм права. Прокурор в своем протесте привел те же доводы, что и центр занятости. Правительство не привело убедительного обоснования вмешательства прокурора (в виде защиты публичного интереса или иной общественно значимой цели). Суд посчитал, что, хотя у прокурора были законные основания вступить в процесс, в данном деле не было обстоятельств, оправдывающих его вмешательство. Следовательно, сам факт воспроизведения прокурором в его протесте аргументов центра занятости касательно применения норм права судом первой инстанции был направлен не на что иное, как на оказание давления на суд. При этом Европейский суд сослался на Резолюцию ПАСЕ 1604 (2003) о роли прокуратуры в демократическом обществе, основанном на верховенстве права, предусматривающую, что никакая из функций прокуратуры не может порождать конфликт интересов или использоваться как средство удерживания граждан от защиты ими своих прав. В итоге Суд установил нарушение принципа равенства сторон и права на справедливое судебное разбирательство[42 - Обстоятельства дела в изложении Европейского суда переведены М.А. Филатовой.].
К подобным же выводам Суд пришел в постановлении по делу «Korolev v. Russia» (№ 2) от 1 апреля 2010 года. ЕСПЧ указал, что «тот факт, что аналогичная точка зрения защищается в суде несколькими сторонами, не обязательно ставит оппонента в “существенно неблагоприятное положение” при представлении своего дела. В данном деле должно быть установлено, соблюден ли “беспристрастный баланс”, который должен действовать между сторонами, с учетом участия прокурора в производстве» (п. 29). При этом ЕСПЧ не исключил «возможности того, что поддержка одной из сторон процесса прокурором может быть оправдана в определенных обстоятельствах, например, для защиты людей, которые признаны не способными самостоятельно защищать свои интересы, или когда рассматриваемым правонарушением затрагиваются интересы большого количества лиц, или когда в защите нуждается определенное имущество или интересы государства» (п. 32). Однако Суд не усмотрел никаких конкретных причин, которые оправдывали бы участие прокурора в суде кассационной инстанции по данному гражданскому делу. Суд установил, что простой повтор прокурором доводов ответчика по вопросам права, если только они не преследовали цель оказать влияние на суд, представляется бессмысленным, а следовательно, не был соблюден принцип равенства процессуальных возможностей сторон, требующий беспристрастного баланса между сторонами (п. 36)[43 - Перевод постановления по делу «Korolev v. Russia» на русский язык осуществлен Аппаратом Уполномоченного РФ при ЕСПЧ.].
В то же время в постановлении по делу «Batsanina v. Russia» от 26 мая 2009 года Суд пришел к выводу, что участие прокурора не нарушило принципа равенства в данном процессе. Хотя заявительница утверждала, что в ее деле отсутствовала причина, оправдывающая право прокурора на предъявление иска, ЕСПЧ счел, что прокурор действовал в публичных интересах, заявительница и ее муж имели адвоката и представили суду 1-й инстанции письменные и устные замечания; решение прокурора о предъявлении иска было основано на российском законодательстве и не выходило за рамки его дискреционных полномочий о возбуждении дела с учетом конкретных обстоятельств; соответственно, не было оснований полагать, что возбуждением гражданского дела прокурор стремился оказать или оказал ненадлежащее влияние на суд или препятствовал заявительнице в осуществлении эффективной защиты своих интересов. Таким образом, по мнению Европейского суда, принцип равенства процессуальных возможностей сторон судопроизводства, требующий справедливого равновесия между сторонами, в данном деле не был нарушен (п. 27)[44 - Перевод на русский язык: СПС «Консультант-Плюс».].
Позиции Суда по указанным делам, безусловно, значимы для российского гражданского судопроизводства. Они заставляют обратить внимание на традиционно высокую активность органов прокуратуры по инициированию гражданских дел, вступлению в уже начавшийся процесс, обжалованию судебных постановлений, а также переосмыслить и изменить тенденцию расширения полномочий прокурора в российском гражданском процессе.
3. Гласность судебного разбирательства
Гласность судопроизводства: содержание и основные компоненты
Позиции Суда, касающиеся содержания требования гласности (публичности) судебного разбирательства, носят достаточно общий характер. Подчеркивая значимость данной гарантии и ее важность для защиты от негласного правосудия, для обеспечения доверия к судам и прозрачности правосудия, Суд достаточно скупо говорит конкретно об открытости судебного заседания для общественности, включая оглашение судебных решений[45 - «Прецедентными» решениями Европейского суда по данному вопросу считаются постановления по делам «Pretto and Others v. Italy» от 2 декабря 1983 года, «Engel and others v. the Netherlands» от 8 июня 1976 года, «Axen v. Germany» от 8 декабря 1983 года и др.]. При этом уделяется внимание тем обстоятельствам, которые прямо названы в п. 1 Конвенции как оправдывающие возможность проведения закрытых судебных заседаний (когда этого требуют соображения морали, общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также интересы несовершеннолетних, или когда это требуется для защиты частной жизни сторон, или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо – при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия).
Между тем проблема публичности судопроизводства не исчерпывается только обеспечением доступа в судебное заседание. Она конкретизирована, в частности, в документе, который сегодня признан наиболее удачной попыткой гармонизации фундаментальных процессуальных принципов и гарантий, свойственных всем правовым системам, а именно в принятых в 2004 году Американским институтом права (American Law Institute) и Институтом унификации частного права (UNIDROIT) Принципах трансграничного гражданского процесса (Principles of Transnational Civil Procedure)[46 - Текст данного документа на английском и французском языках опубликован на официальном сайте УНИДРУА: www.unidroit.org. Перевод Принципов трансграничного гражданского процесса на русский язык опубликован в 2011 году в издательстве «Инфотропик Медиа».].
Так, Принцип 20 указанного документа – «Публичность судопроизводства» – устанавливает, в частности, следующее:
«20.1. По общему правилу, устные слушания, включая слушания, в которых представляются доказательства и оглашается судебное решение, являются открытыми. На основе консультаций со сторонами суд может распорядиться о проведении всех или части слушаний в закрытом судебном заседании в интересах правосудия, общественной безопасности или охраны частной жизни.
20.2. Судебные дела и протоколы судебных заседаний являются открытыми или должны быть иным образом доступны лицам, имеющим законный интерес или обратившимся с обоснованным запросом об этом в соответствии с законом суда.
20.3. Если судопроизводство является открытым, судья может распорядиться о проведении части его в закрытом судебном заседании в интересах правосудия, общественной безопасности или охраны частной жизни.
20.4. Судебные решения, включая мотивировочную часть, и, по общему правилу, иные судебные постановления должны быть доступными для общественности»[47 - Цит. по: Принципы трансграничного гражданского процесса (Principles of Transnational Civil Procedure). М.: Инфотропик Медиа, 2011.].
Как видно из данного документа, понятие публичности в нем распространено не только на собственно заседания суда, в которых слушаются дела, но и на доступ к материалам судебных дел, протоколам судебным заседаний – как минимум для лиц, законным образом заинтересованных в ознакомлении с ними, а также на открытость судебных актов для широкого круга лиц. Последнее требование наиболее полно реализуется при опубликовании судебных актов в Интернете.
Как указывает С.Ф. Афанасьев, в теории выделяются несколько форм материализации начала публичности в отношении гражданских правовых споров, подпадающих под судебную юрисдикцию:
а) открытость гражданского процесса (наличие в зале судебного заседания лиц, участвующих в деле, а также способствующих осуществлению правосудия, и прочих интересующихся; их надлежащее извещение; устное ведение разбирательства; доступность документов);
б) публичное оглашение и дальнейшее опубликование итоговых правоприменительных постановлений суда (как по конкретному делу, так и различных тематических, статистических обобщений);
в) прозрачность действий судебной системы для общества (размещение информации о наличии в производстве тех или иных гражданских дел, о дне их предполагаемого слушания, предоставление архивных материалов и др.);
г) доступность сведений о юридических конфликтах для СМИ[48 - См.: Афанасьев С.Ф. Указ. соч. С. 208.].
Большинство данных стандартов устанавливаются сегодня и в российском процессуальном законодательстве, либо же их реализация обеспечивается в судебной практике (в частности, путем предоставления средствам массовой информации данных о делах, находящихся в производстве того или иного суда).
Так, статьи 10 ГПК РФ, 11 АПК РФ закрепляют общий принцип гласности судебного разбирательства, устанавливая открытый порядок разбирательства дел в судах, с исключениями, сделанными для дел, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) ребенка, по другим делам – если это предусмотрено федеральным законом, а также при удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны или иные обстоятельства.
В этом контексте представляется естественным, что практика Суда по российским делам весьма немногочисленна. Единственное постановление, в котором Суд констатировал нарушение п. 1 статьи 6 в связи с ограничением доступа в зал судебного заседания, было вынесено по делу «Zagorodnikov v. Russia» от 7 июня 2007 года, которое касалось рассмотрения Арбитражным судом г. Москвы дела о заключении мирового соглашения между банком «Российский кредит» и его кредиторами. Тогда доступ в зал заседания суда был необоснованно ограничен в связи с потенциально большим числом кредиторов (граждан – вкладчиков банка), участвовавших в деле. Данный случай можно отнести скорее к эксцессу суда, нежели к сложившейся практике.
Доступ к материалам судебных дел
Не нашел пока своего безусловного воплощения в российском праве такой стандарт публичности судебного разбирательства, как доступ к материалам судебных дел, протоколам судебных заседаний для лиц, не участвующих в деле, но имеющих оправданный интерес к ознакомлению с такими материалами. В то же время очевидно, что такой доступ и не может быть неограниченным, так как несет в себе риск определенных негативных последствий и нарушения прав лиц, участвующих в деле, вследствие чрезмерной открытости информации о материалах, рассмотренных с их участием.
В целом практику Европейского суда, касающуюся соблюдения требования публичности в судебном разбирательстве, трудно назвать обширной. Речь идет лишь о нескольких постановлениях и решениях, но в них поставлены проблемы, которые можно назвать типичными для российской правовой системы.
Так, в деле «Ryakib Biryukov v. Russia» (постановление от 17 января 2008 года) Суд констатировал, что гражданское процессуальное законодательство России «упоминает только участников процесса и их представителей как лиц, имеющих право знакомиться с мотивированным решением, изготовленным после публичного оглашения резолютивной части. Обязательное вручение копии решения ограничивается вручением сторонам и другим участникам процесса. Соответствующие же правила передачи судебных решений в канцелярию суда ограничивают общественный доступ к текстам решений. Такой доступ обычно предоставлялся только сторонам и другим участникам процесса»[49 - Цит. по: Афанасьев С.Ф. Указ. соч. С. 223.]. Соответственно, ЕСПЧ пришел к выводу, что контроль за правосудием со стороны общественности не был достигнут в настоящем деле, и установил нарушение п. 1 статьи 6 Конвенции в части обеспечения гласности судебного заседания.
Между тем практика оглашения в судебном заседании лишь резолютивной части выносимого акта, с дальнейшим получением решения в полном объеме лицами, участвующими в деле, типична для российских судов общей юрисдикции. Если в арбитражных судах уже введена система опубликования в открытом доступе в Интернете всех выносимых по существу дела актов, то в судах общей юрисдикции процесс перевода всего массива судебных постановлений в открытое информационное пространство пока далек от завершения. Вместе с тем постепенное движение в этом направлении дает основания полагать, что достижение полной открытости всех актов, выносимых по существу в системе судов общей юрисдикции, является вопросом времени, а также технических и финансовых возможностей судебной системы. Как показывает опыт арбитражных судов, данная цель может быть достигнута во вполне обозримые сроки.
С точки зрения указанного постановления Европейского суда необходимо изменить всю процедуру опубликования судебных постановлений, чтобы обеспечить доступ к основной информации, установленной решениями, как для участников процесса (что вытекает непосредственно из совокупности предоставленных им процессуальных прав), так и для широкой общественности – что само по себе и обеспечивает один из компонентов публичности судебного разбирательства.
Хронологически именно после принятия данного постановления ЕСПЧ был принят Федеральный закон от 22 декабря 2008 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», вступивший в силу с июля 2010 года и предусматривающий создание информационных ресурсов (официальных сайтов) всех судов общей юрисдикции – для информирования общественности об организации и результатах деятельности судов, а также для получения заинтересованными лицами по их запросам иной информации. Предусмотренное законом создание такого информационного пространства еще не завершено.
Протокол судебного разбирательства: его качество и доступность
Средством обеспечения открытого характера судебного разбирательства, существенно влияющим и на качество правосудия, является надлежащее ведение и доступность протокола судебного разбирательства.
В различных правовых системах используются разные способы фиксации хода судебного разбирательства. Поэтому, скажем, термин records в странах англосаксонского права, в особенности в США, где на протяжении нескольких веков обеспечивается дословная запись – стенографирование – всего судебного заседания, неэквивалентен значению термина протокол в российском гражданском процессе, где протокол ведется секретарем судебного заседании в рукописной форме и не имеет целью дословную фиксацию судебного разбирательства. Во многих странах используется аудио- и/или видеозапись, переводимая в текстовую форму на бумажных носителях полностью или в части – либо по указанию суда (за счет бюджета), либо по заказу участника процесса (за соответствующую плату)[50 - О различных способах фиксации хода судебного заседания см. комментарий к Принципу 20 в: Принципы трансграничного гражданского процесса.]. С введением в России в 2010 году обязательного порядка аудиозаписи в арбитражном процессе протокол судебного заседания используется вместе с аудиозаписью, на что прямо указывается в статье 155 АПК РФ («В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи и составляется протокол в письменной форме»), но в гражданском процессе он по-прежнему остается единственным способом фиксации. При этом использование протокола, согласно части 2 той же статьи 155, является дополнительной гарантией отражения основных данных о судебном заседании, таких как время и место его проведения, информация о рассматриваемом деле, протокольные определения, принимаемые судом, устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле.
Проблема полноты протоколирования и открытости протоколов судебных заседаний может быть снята путем повсеместного, т. е. также в судах общей юрисдикции, введения аудиозаписи (что будет в значительной мере способствовать повышению объективности отражения хода судебного заседания, а значит, и повышению качества выносимых судебных актов). С внедрением обязательного использования технических средств для записи судебных заседаний степень обеспечения их открытости была бы значительно повышена.
С публичностью судебного разбирательства связано и требование своевременного уведомления заявителей о времени и месте судебного заседания. Анализ российских дел данной категории в практике Европейского суда был дан выше в контексте права представить свои объяснения (в разделе «Состязательный характер процесса и равенство процессуальных возможностей сторон»). Здесь же следует повторить, что обеспечение в РФ надлежащего извещения участников процесса требует принятия срочных организационных и процедурных мер, чтобы общепризнанный, устанавливаемый Конвенцией и основополагающими принципами европейского права стандарт был достигнут и в этом элементе принципа открытого правосудия.
§ 3. Отмена вступивших в законную силу судебных решений
1. Производство по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора и эволюция его оценки европейским судом по правам человека
ЕСПЧ констатирует значительное количество нарушений Конвенции со стороны России в связи с национальной процедурой отмены вступивших в законную силу судебных решений, что позволяет охарактеризовать данную проблему как имеющую системный характер. Однако далеко не всегда российская юридическая общественность, в том числе правоприменители, однозначно и конструктивно воспринимают сложившуюся практику Европейского суда по данному вопросу, а названные механизмы пересмотра судебных актов в национальной правовой системе оцениваются как фундаментальные ее особенности, не подлежащие серьезной корректировке в силу их обусловленности российским контекстом[51 - Так, Д.Я. Малешин в автореферате диссертации на соискание ученой степени д. ю. н. в качестве одного из положений, выносимых на защиту, приводит следующее: «Позиция Европейского суда по правам человека о неэффективности российского производства в порядке надзора вследствие его несоответствия распространенной за рубежом теории “рес юдиката” (res judicata) является неоднозначной, применение ее в полном объеме в российских социокультурных условиях затруднительно». См.: Малешин Д.Я. Гражданская процессуальная система России: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. М., 2011.].
Сближение процессуальных принципов различных правовых систем по вопросам пересмотра судебных актов
Однако именно на фоне характерных для различных стран особенностей их правовых систем, обусловленных национальными традициями, уровнем экономического развития, социокультурным своеобразием общества, имеет важнейшее значение факт сближения процессуальных принципов, в том числе в отношении таких проблем, решение которых на национальном уровне ранее представлялось незыблемым[52 - Например, это отчетливо проявляется в повышении активности суда (как в процессе доказывания, так и в управлении процессом ведения дела) в судопроизводстве стран англосаксонского права, традиционно отличавшихся «пассивной» ролью суда и судей; во введении элементов доказывания, свойственных странам общего права, в процессуальные системы континентального права (раскрытие доказательств, санкции в виде судебных расходов) и т. д.].
Это сближение во многом обусловлено общностью проблем, возникающих в современном глобализированном мире, в первую очередь в экономических отношениях, наименее подверженных зависимости от национальных границ, и поиском наиболее целесообразных – и наиболее эффективных в условиях схожего алгоритма развития социально-экономических отношений – путей решения этих проблем. В то же время некоторые исторически присущие тем или иным системам институты в современных, изменившихся условиях оказываются менее эффективными, что требует если не полного отказа от них, то хотя бы значительной корректировки в соответствии с изменившимися целями судопроизводства, а также с приоритетами, которыми должен руководствоваться законодатель при их реализации. Это меняет запрос на параметры существующей системы правосудия.
Авторы одного из наиболее глубоких сравнительных исследований основных особенностей судопроизводства в социалистических странах – Мауро Капелетти и Брайан Гарт – отмечали, что идеологические различия между социалистическими и западными странами, возможно, нигде так не очевидны, как в положениях, регулирующих пересмотр судебных актов в большинстве восточноевропейских стран. Исследователи указывали, в частности, на два основных принципа, характерных для социалистического права в данной области: 1) вышестоящий суд не связан доводами сторон, изложенными в жалобе; 2) право апелляционного обжалования предоставлено как частным сторонам, так и публичным органам[53 - См.: Cappelletti M., Garth B. Vol. XVI «Civil Procedure» of the International Encyclopedia of Comparative Law // Chapter I. Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure. T?bingen, 1987. P. 20.].
В свою очередь, данные принципы были обязаны своим существованием другим характерным особенностям судопроизводства в странах социалистического блока, а именно широкому контролю государства и преобладающему социальному (публичному) интересу при разрешении судами дел частноправового характера[54 - Ibid. Р. 22.].
Преобладание публичных интересов над частными в гражданском судопроизводстве социалистического типа
Отличия, прежде всего идеологического характера, в регулировании взаимоотношений государства и индивида, в том числе в объеме вмешательства государства в частные правоотношения, обусловили и разные подходы к системе инстанций, осуществляющих пересмотр судебных актов. Как известно, в традиционных процессуальных моделях структура инстанций обычно состоит из трех, реже из двух уровней. Первая инстанция, которая иногда «расщепляется» на два уровня юрисдикции – для рассмотрения простых дел и дел на небольшую сумму и для всех остальных, несет нагрузку по рассмотрению дел по существу. Вторая инстанция, как правило, носит название апелляционной и служит для пересмотра решений, не вступивших в законную силу. Третья инстанция в зависимости от вида процессуальной системы может выполнять функции апелляционной инстанции, кассационной или ревизионной[55 - Данная типология применительно к континентальной правовой системе была изложена, например, Е.В. Васьковским в его «Учебнике гражданского процесса» (гл. I, § 12 «Инстанционная система». М.: Зерцало, 2003). Указанные судоустройственные модели в современной процессуальной науке выделены, в частности, в следующих исследованиях: Jollowicz J.A. Recourse against Civil Judgements in the European Union: A Comparative Survey: Introduction / J.A. Jollowicz, C.H. Van Rhee (eds.) // Recourse against Judgements in the European Union. Civil Procedure in Europe 2. Kluwer Law International, 1999. P. 2; Geeroms S. Foreign Law in Civil Litigation: A Comparative and Functional Analysis. Oxford University Press, 2004. P. 253–255; Eadem. Comparative Law and Legal Translation: Why the Terms Cassation, Revision and Appeal Should Not Be Translated… // American Journal of Comparative Law. 2002. Vol. 50. P. 203–205; Herzog P.E., Karlen D. Attacks on Judicial Decisions // International Encyclopedia of Comparative Law. Vol. XVI. Civil Procedure. Chapter 8. P. 3. Анализ данных работ в российской правовой литературе был дан, в частности, в статье М.А. Филатовой «Окончательный пересмотр судебных решений в европейских странах: основные модели и тенденции развития» (Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2006. № 5. С. 272–291). Современным российским исследованием, затрагивающим вопросы типологии систем пересмотра, является работа Е.А. Борисовой «Проверка судебных актов по гражданским делам» (М.: Городец, 2006. С. 195–206).].
Третья судебная инстанция
Общей для всех моделей деятельности третьей инстанции, функции которой, как правило, возложены на высший судебный орган государства, в современных правовых системах является функция обеспечения правильного и единообразного применения судами норм права – через отмену решений по конкретным делам, отбираемым по дискреционному принципу самим высшим судом исходя из того, какие дела, по его мнению, могут иметь наибольшее значение для обеспечения развития права и его единообразия.
При этом наблюдается сближение в деятельности судов третьей, высшей, инстанции в странах континентального права, где они создавались изначально для реализации этих функций, и в странах англосаксонского (в первую очередь английского) права, где высшие судебные органы традиционно выполняли функции апелляции, т. е. их деятельность была направлена главным образом на исправление ошибок, допущенных нижестоящими судами, – как в вопросах права, так и в вопросах факта. В современных условиях, благодаря общим процессам сближения правовых систем, данные органы все больше становятся органами «обобщения» права и обеспечения его единообразия, как это исторически было свойственно странам континентальной Европы[56 - Об этом см. подробнее: Jollowicz J.A. Recourse against Judgements in the European Union. Р. 3.]. При этом, несмотря на бесспорный публичный интерес (в первую очередь интерес государства) к обеспечению единообразия судебной практики, определяющей для формирования последней является воля тяжущихся сторон к обжалованию судебных решений. Как правило, в тех исключительных случаях, когда право оспаривания судебных актов в высшем судебном органе предоставлено каким-либо должностным лицам, в деле не участвовавшим (обычно это должностные лица прокуратуры), имеет место так называемая платоническая кассация, подразумевающая право генерального прокурора в случае, если ни одна из сторон не обратилась с кассационной жалобой на вынесенное решение, обратиться с «представлением в интересах права»[57 - В новом ГПК Франции такое обращение называется le pourvoi dans l’interet de la loi, в итальянском ГПК – ricorso nell’interesse della legge, в ГПК Нидерландов – cassatie in het belang der wet. В отношении последнего более подробно см.: Hartog Jager W.H.B., den. Cassatie in het belang der wet: eet buitengewoon rechtsmiddel. Arnhem, 1994. (Ссылка приводится по изд.: Recourse against Civil Judgements in the European Union. Civil Procedure in Europe 2. P. 240).] о его отмене. Такое обращение возможно, если решение нарушает нормы материального права или фундаментальные процессуальные принципы. Если в результате такого обращения прокурора решение будет отменено, то отмена не затронет установленное решением правовое положение сторон, в отношении которых решение сохраняет свою силу res judicata[58 - См. статью 363, § 2, ГПК Италии; статьи 1089–1090 ГПК Бельгии. О соответствующих полномочиях прокурора во французском процессе см.: Droit et pratique de la procedure civile. Sous la direction de Serge Guinchard. Dalloz Action, 1999. P. 1284–1285.]. Цель такой отмены единственно исключение решения из массива актов, имеющих прецедентное значение, и указание нижестоящим судам (на будущее) на неправильное применение и толкование закона в данном конкретном случае[59 - См., например: Barsotti V., Varrano V. National Report // Recourse against Civil Judgements in the European Union. P. 219.].
Основные виды процедур по пересмотру судебных актов в мировой практике
Современное понимание функций высшего судебного органа как направленных на защиту и развитие права, обеспечение его единообразного толкования и применения, рассмотрение дел, имеющих особую общественную значимость (публичный интерес), выражено также в общеевропейских документах, в частности в Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (95) 5 от 7 февраля 1995 года относительно введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по гражданским и торговым делам. В частности, в п. «с» статьи 7 данного документа установлено: «Обжалование в суд третьей инстанции должно использоваться лишь в случаях, заслуживающих третьего судебного рассмотрения, например по делам, которые необходимы для развития права или его единообразного толкования. Оно может также ограничиваться случаями, когда дело затрагивает вопрос права, имеющий общественную значимость»[60 - Перевод М.А. Филатовой.].
В социалистических странах, в первую очередь в Советском Союзе, задававшем определенную матрицу развития права во всех странах данного блока, задачи третьей судебной инстанции понимались иначе. Отказавшись от традиционных для европейских стран кассационной и ревизионной моделей ее деятельности, законодатель создал абсолютно новую форму проверочной деятельности для вступивших в законную силу судебных решений – производство по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора (далее также – надзорное производство)[61 - Об истории создания института производства в порядке надзора см., в частности: Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.: Городец, 2005. С. 178–192.].
Хотя формально обеспечение единообразия судебной практики также указывалось в качестве задачи деятельности высшего судебного органа, особенно в поздний период развития советского права, все-таки основная цель данной процедуры виделась в исправлении судебных ошибок. Создание данного института было обусловлено в том числе потребностью в механизме, позволяющем в течение неограниченного срока исправлять допущенные нижестоящими судами ошибки в исследовании фактических обстоятельств (или пробелы в таком исследовании), и задачей надзорного производства фактически стала проверка и законности, и обоснованности вступивших в законную силу судебных актов с целью исправления обнаруженных в них существенных ошибок[62 - См., в частности: Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства. Свердловск, 1971. С. 7. На фактическое совпадение оснований для пересмотра судебных постановлений в порядке надзора с кассационными указывал также В.К. Пучинский в монографии «Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора в советском гражданском процессе» (СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та: Изд-во юрид. ф-та СпбГУ, 2007), которая, к сожалению, увидела свет только после ухода из жизни этого замечательного ученого.].
Идеологическая обусловленность данного института, направленного, как и все течение судопроизводства, на достижение объективной истины, и преобладание публичных интересов над частными в регулировании гражданского судопроизводства объясняют и отступление от принципа диспозитивности при регулировании надзорного производства (протест мог приноситься только должностными лицами прокуратуры и суда, не участвовавшими в деле, зачастую вне зависимости от обращения сторон об обжаловании вынесенных судебных решений), и «многоступенчатую» структуру надзорного производства, в соответствии с ГПК РСФСР 1964 года состоявшую из трех уровней[63 - Эти уровни. закрепленные в статье 320 ГПК РСФСР 1964 года, в целом совпадают с нынешним устройством надзорных инстанций в судах общей юрисдикции (статья 377 ГПК РФ).], и наделение суда надзорной инстанции полномочиями по проверке дела в полном объеме, невзирая на доводы протеста как по имеющимся в деле, так и по дополнительно представленным материалам (статья 49 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик)[64 - См.: Комиссаров К.И. Указ. соч. С. 56.], и, наконец, отсутствие сроков, в течение которых решение, вступившее в законную силу, могло быть опротестовано и отменено в порядке надзора. Это могло произойти и спустя несколько лет после того, как решение вступило в законную силу и даже было исполнено.
После перехода к рыночным отношениям все правовые системы подверглись радикальным изменениям, выбрав разные парадигмы дальнейшего развития. Российское гражданское судопроизводство вплоть до принятия в 2002 году новых процессуальных кодексов – Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального довольствовалось изменениями путем модификации действовавшего ГПК РСФСР 1964 года. Хотя в 1991–2002 годах были проведены некоторые значительные реформы гражданского процесса (в частности, был возрожден институт мировых судей с введением апелляционной проверки их решений, институты заочного и приказного производства, изменены подходы к закреплению принципа состязательности, роли суда и сторон в процессе), они практически не коснулись надзорного производства, основные черты которого сформировались еще в советский период. Это многочисленность инстанций, осуществлявших функции надзора; неограниченность сроков для оспаривания судебных решений; предоставление полномочий для оспаривания решений не сторонам процесса, а должностным лицам прокуратуры и суда, не участвовавшим в деле; неопределенность и широта оснований для отмены вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора. Таким образом, после перехода страны к новому укладу экономических отношений, в условиях продолжающейся правовой реформы и даже после вступления России в Совет Европы в течение 10 лет надзорное производство практически не менялось.
Оценка российского производства в порядке надзора ЕСПЧ
Именно в этот период принимаются первые постановления Европейского суда, касающиеся отмены вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора. В этих базовых постановлениях четко прослеживается основной подход ЕСПЧ, выводимый из положений Конвенции и получивший дальнейшее развитие в последующей практике Суда по данной категории дел. Кратко его можно выразить следующим образом: отмена вступившего в законную силу судебного решения возможна только в исключительных обстоятельствах. В свою очередь, этот фундаментальный подход обосновывается Судом ссылкой на принцип верховенства права, закрепленный в Преамбуле Конвенции («Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся членами Совета Европы… преисполненные решимости, как Правительства европейских государств, движимые единым стремлением и имеющие общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права… согласились о нижеследующем…»)[65 - См. также: Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 169.].
Первым постановлением, в котором были сформулированы основные позиции ЕСПЧ по данному вопросу, было постановление по делу «Brumaresku v. Romania» 1999 года, в котором Суд указал, в частности, следующее:
«61. Право на справедливое судебное разбирательство, как оно гарантируется Статьей 6 § 1 Конвенции, должно истолковываться в свете преамбулы Конвенции, которая устанавливает, среди прочего, что принцип верховенства права является общим для подписывающих Конвенцию Государств. Один из фундаментальных аспектов правовой нормы – принцип правовой определенности, который означает, в частности, что, если суд вынес окончательное решение, то оно не должно быть подвергнуто сомнению.
Правовая определенность предполагает уважение принципа res judicata, то есть принципа недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела».
Итак, в основе обширной практики Суда в отношении отмены вступивших в законную силу судебных постановлений лежат два фундаментальных принципа европейского права, тесно связанных между собой: принцип верховенства права и принцип правовой определенности.
Первым «российским» делом, в котором Суд рассматривал вопросы отмены вступивших в законную силу судебных постановлений, стало дело «Рябых (Riabykh) против России» (постановление от 24 июля 2003 года). Оно активно освещалось в российской литературе не только потому, что было первым из российских дел данной категории, но и потому, что в нем наиболее ярко проявились характерные особенности существовавшей на тот момент в гражданском процессе системы судебных инстанций.
Как известно, исковые требования заявительницы рассматривались судом первой инстанции шесть (!) раз; соответственно, пять раз дело направлялось вышестоящими судами на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Причем на разных стадиях решение отменялось судом как кассационной, так и надзорной инстанции (президиумом областного суда и Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ). В общей сложности дело находилось на рассмотрении в разных ординарных судебных инстанциях около пяти лет, с 30 декабря 1997 года (дата вынесения первого решения по существу дела) до 16 июля 2002 года (дата рассмотрения кассационной жалобы ответчика Белгородским областным судом). В порядке надзора судебные постановления низших судов, вынесенные в пользу заявителя, проверялись по протестам должностных лиц Белгородского областного суда (его председателя) и Верховного Суда РФ (заместителя председателя суда) и были отменены по такому основанию, как неправильное, по мнению суда надзорной инстанции, толкование нижестоящими судами норм права.
В постановлении Европейского суда по данному делу воспроизведены позиции, сформулированные им ранее по делу «Brumaresku v. Romania»: «Полномочие вышестоящего суда по пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок и неправильного отправления правосудия, а не пересмотра по существу. Пересмотр не может считаться скрытой формой обжалования, в то время как одно лишь наличие двух точек зрения по одному вопросу не может являться основанием для пересмотра. Отступления от этого принципа оправданны, только когда являются обязательными в силу обстоятельств существенного и непреодолимого характера». В то же время основания для отмены решения, примененные судом надзорной инстанции, а именно неправильное истолкование нижестоящим судом норм материального права, к «обстоятельствам существенного и непреодолимого характера», по мнению Европейского суда, отнести нельзя.
Кроме того, Суд особо подчеркнул, что в деле Рябых пересмотр судебного решения, вынесенного в пользу заявительницы, в порядке надзора был инициирован должностным лицом – председателем Белгородского областного суда, т. е. лицом, которое не являлось стороной по делу; осуществление данного полномочия не было ограничено по времени, так что судебные постановления могли быть оспорены на протяжении неопределенного срока. Все обозначенное в совокупности привело к выводу Суда о нарушении п. 1 статьи 6 Конвенции.
Такие выводы были многократно повторены и в других рассмотренных Судом делах данной категории.
Допустимые основания отмены национальными судами судебных актов в надзорном порядке