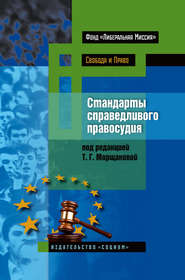скачать книгу бесплатно
Современные тенденции российского регулирования и практики соблюдения процессуальных сроков
Нарушение процессуальных сроков как основание дисциплинарной ответственности судей в РФ
Эффективность и качество судебного разбирательства в контексте статьи 6 Конвенции
Эволюция подходов к срокам судебного разбирательства в судопроизводстве Англии
Реформы английского правосудия в 90-х годах XX столетия в сфере контроля суда за движением процесса
Развитие в США полномочий суда по контролю за движением дела
Основные тенденции французской реформы гражданского судопроизводства
Изменения в гражданском судопроизводстве Германии
Опыт судебной системы Финляндии по внедрению проекта качества правосудия
Основные аспекты оценки качества судебной деятельности в Швеции
Программа модернизации правосудия в Нидерландах
Основные выводы о современных тенденциях обеспечения разумных сроков судебного разбирательства в контексте эффективности гражданского судопроизводства
Необходимость изменения целей и концепции реформ, направленных на оптимизацию сроков рассмотрения дел
Преимущества концепции разумного срока разбирательства в отличие от установленного законом
Изменение роли суда в контроле за продолжительностью судебного процесса
Перераспределение активности суда и сторон в целях обеспечения разумного срока разбирательства
Управление движением дела
Толкование статьи 6 Конвенции как включающей исполнение судебных решений в право на суд
Дело по жалобе «Burdov v. Russia»
Недопустимость оправдания неисполнения решения суда отсутствием ресурсов
Подтвержденное судебным решением право требования как право на уважение собственности
Общие черты российских дел о неисполнении судебных решений Государство и его агенты – бюджетные учреждения, муниципальные образования – как субъекты неисполнения судебных решений
Отличие российского подхода, не признающего государственную ответственность за действия других субъектов публичной власти, от позиции ЕСПЧ
Неответственность государства за невозможность взысканий по судебному решению с субъектов частного права
Ограничение обязанности государства по исполнению взысканий с частных компаний предоставлением юридических средств для исполнения
Длительность неисполнения судебного решения как разновидность нарушения статьи 6 Конвенции о разумном сроке разбирательства
Связь длительного неисполнения судебных решений с нарушениями Конвенции в результате их отмены в надзорном порядке
Неадекватность возмещения со стороны государства как основание для признания нарушенным права на исполнение судебного решения
Обоснованность задержки исполнения решения
Значение поведения заявителя в ходе исполнительного производства для признания нарушенным его права на исполнение судебного решения
Постановление от 15 января 2009 года по второму делу по жалобе «Burdov v. Russia» на неисполнение судебного решения
Согласованность выводов ЕСПЧ и ВАС РФ, касающихся пределов ответственности государства в сфере исполнения судебных решений
Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» как внутригосударственное средство защиты от неисполнения судебных решений
Оценка ЕСПЧ эффективности российских внутригосударственных средств защиты от неисполнения судебных решений
Компенсация морального вреда, причиненного неисполнением судебного решения, как не отвечающая требованиям стандарта эффективного средства правовой защиты
Различие подходов ЕСПЧ и КС РФ к оценке компенсации морального вреда в качестве эффективного средства правовой защиты
Пилотное постановление ЕСПЧ по делу Бурдова (№ 2) в связи с системным характером нарушений, связанных с неисполнением судебных решений
Эффективное средство правовой защиты от неисполнения судебных решений по Федеральному закону «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»
Компенсаторные и ускоряющие производство средства правовой защиты от нарушения сроков разбирательства и исполнения судебных решений
Положительные черты нового механизма компенсации за неисполнение судебных решений
Расширение круга агентов государства, за неисполнение которыми судебных актов выплачивается компенсация
Недостатки нового механизма защиты от неисполнения судебных решений
§ 1. Стандарты процессуальных гарантий: понятие и источники
1. Значение процессуальных гарантий для сущностной характеристики европейского стандарта правосудия
Среди институтов демократического государства правосудие играет центральную роль, поскольку именно оно является гарантией и одновременно механизмом защиты всех других институтов. Исходя из этого задача государства состоит в обеспечении лицам, обращающимся за судебной защитой, максимума гарантий, относящихся к организации и осуществлению правосудия. Набор процессуальных гарантий, или принципов, до некоторой степени отличается в различных правовых системах. Тем не менее еще с античных времен существует общее понимание того, какие элементы образуют саму суть правосудия, в отсутствие каких элементов правосудие не может рассматриваться в качестве такового.
Процессуальные гарантии
Это глобальное общее понимание выражается прежде всего в закреплении аналогичного перечня основополагающих процессуальных принципов (фундаментальных процессуальных гарантий) в конституциях национальных государств либо же в придании им статуса «конституционных» (для государств, в которых отсутствует «писаная» конституция, таких как Великобритания или Израиль). Конституциализация процессуальных гарантий, т. е. их внедрение в основы национального права различных государств на высшем уровне регулирования, как раз и являлась одной из важнейших тенденций развития права и правосудия во второй половине XX века. Параллельно шел процесс интернационализации этих гарантий, т. е. закрепление перечня гарантий, в соответствии с их общим восприятием в качестве «минимального стандарта правосудия» в международных документах[10 - Об этом см. подробнее: Cappelletti M., Vigoriti V. Fundamental Guarantees of the Litigants in Civil Procedure: Italy // Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation (Studies in National, International and Comparative Law) / ed. by M. Cappelletti, D. Tallon. Milano – Dott. A. Giuffre Editore. Dobbs Ferry, New York – Oceana Publications, Inc. 1973. P. 514. Среди российских публикаций указанной темы касается Е.А. Виноградова в статье «Фундаментальные положения гражданского процессуального права» // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства. Теория и практика: Сб. научных статей. Краснодар; СПб., 2004. С. 24–45.]. Статья 10 Всемирной декларации прав человека, а вслед за ней и статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее также Конвенция) установили право каждого человека на справедливое и открытое рассмотрение его дела независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. В данной формулировке, независимо от нюансов, имеющихся в этих двух документах[11 - Статья 10 Всеобщей декларации прав человека устанавливает: «Каждый человек при определении его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему обвинения имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом». Согласно п. 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод «каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».], содержатся гарантии, которые можно рассматривать как необходимые для осуществления справедливого правосудия, а именно: свободный доступ к правосудию, публичность и гласность судебного разбирательства, независимость и беспристрастность судей[12 - См.: Oppetit B. Les Garanties Fondamentales des Parties dans le Proces Civil en Droit Francais.// Fundamental Guarantees of the Parties in Civil Litigation (Studies in National, International and Comparative Law). Op. cit. Р. 483.].
Впервые сравнительное глобальное исследование фундаментальных процессуальных гарантий проводилось в 1960-е годы в рамках так называемого Флорентийского проекта (реализованного под эгидой Флорентийского университета), завершившегося проведением конференции под патронажем Международной Ассоциации юридической науки (ЮНЕСКО) во Флоренции в 1971 году. На конференции были представлены национальные доклады 17 стран и генеральный доклад, подготовленный выдающимся итальянским ученым Мауро Капелетти[13 - Мауро Капелетти (Mauro Cappelletti) – представитель флорентийской правовой школы, ведущий исследователь сравнительного гражданского процессуального права XX века, автор и вдохновитель глобальных исследовательских проектов «Доступ к правосудию» (Access to Justice) и «Фундаментальные процессуальные гарантии сторон» (Fundamental Procedural Guarantees of the Parties).], в котором впервые были сформулированы общемировые тенденции развития процессуального права: его конституционализация, интернационализация и социализация, охарактеризованные автором как «измерения современного конституционализма».
Эволюция процессуальных гарантий
В духе названных тенденций в 70-е годы прошлого века появилась «обновленная концепция правосудия», предполагавшая, в частности, повышение значения конституционного, международного и социального измерений правосудия, бо?льшую доступность судов для всех (что включает не только судебные, но и альтернативные формы защиты права), обеспечение судами реального, а не формального равенства сторон, а также повышение справедливости и эффективности процессуальных правил[14 - О данной концепции правосудия и ее элементах, со ссылкой на М. Капелетти, пишет Е.А. Виноградова в упомянутой выше статье «Фундаментальные положения гражданского процессуального права».].
При признании всего многообразия национальных процессуальных систем в современной мировой процессуальной науке, а также в законодательстве и судебной практике различных государств существует общее понимание того, каким требованиям должна отвечать любая процессуальная система, чтобы обеспечивать достижение ее главного предназначения и соответствовать предъявляемому к ней главному запросу по осуществлению справедливого и эффективного рассмотрения дел. Указанные международные договоры, и прежде всего статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отражают своего рода глобальное соглашение относительно общепризнанных минимальных требований к осуществлению правосудия, определяющих саму его суть и не зависящих от национальных границ, принципа государственного суверенитета и особенностей процессуальных систем. Понимание и развитие элементов права на справедливое судебное разбирательство в практике Европейского суда как международного органа, обеспечивающего применение и толкование Конвенции, отражает процесс поиска оптимального соотношения этих элементов и баланса противоположных интересов при их имплементации в национальные правовые системы.
2. Источники и генезис европейских стандартов
Принятие и ратификация Российской Федерацией в 1998 году Конвенции о защите прав человека и основных свобод явились одними из важнейших факторов влияния на реформирование национальных судоустройства и судопроизводства. Примечательно, что это влияние начало сказываться задолго до формальной ратификации Конвенции, поскольку «доконвенционное реформирование» имело своей целью подготовку почвы, создание условий для ратификации Конвенции, ее имплементации в российский правовой режим. Однако после ратификации Конвенции именно ее положения – в их постоянном развитии благодаря обширной практике Европейского суда по правам человека – стали главным импульсом реформирования видов судопроизводства, как уголовного, так и административного и гражданского.
В настоящей главе будут рассмотрены проблемы реализации вырабатываемых Европейским судом на основе статьи 6 Конвенции подходов к судебному разбирательству по гражданским делам. Хотя формально устанавливаемые Конвенцией основополагающие процессуальные гарантии в целом одинаковы для гражданского и уголовного судопроизводства, существуют некоторые, иногда существенные, особенности при их обеспечении по гражданским и уголовным делам – Суд в своей практике сам определяет такие нюансы в связи со спецификой рассматриваемого дела. Поэтому целесообразно самостоятельное рассмотрение стандартов справедливого судебного разбирательства по гражданским делам, вырабатываемых Европейским судом на основе Конвенции, в том числе в их соотношении с базовыми принципами российского гражданского судопроизводства. Тем более что нарушения статьи 6 в контексте рассмотрения гражданских дел в российских судах устанавливаются ЕСПЧ гораздо чаще, чем применительно к рассмотрению дел уголовных. Кроме того, в области гражданского судопроизводства (в его широком смысле, включая стадию исполнения решений по гражданским делам) практика Европейского суда выявила в российской системе ряд таких проблем системного характера, связанных с отменой вступивших в законную силу судебных актов, неисполнением судебных решений, которые не свойственны или свойственны в гораздо меньшей степени уголовному судопроизводству.
Источники европейских стандартов
Статья 6 Конвенции в толковании, которым она наполняется в практике Суда, безусловно, является одним из главных источников формирования европейских стандартов в области гражданского судопроизводства, но далеко не единственным. Вопросы соблюдения закрепленных ею гарантий применительно к рассмотрению гражданских дел исследуются Судом также на основе статьи 13 Конвенции о праве каждого на эффективное средство правовой защиты, статьи 46 Конвенции о последствиях установления нарушения Судом и необходимых мерах по восстановлению нарушенных прав заявителей, статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции применительно к нарушениям права на свободное пользование имуществом в результате судебного разбирательства, не отвечающего критериям статьи 6, и некоторых других. Однако помимо Конвенции существует множество документов различных европейских органов, отражающих, с одной стороны, постепенный процесс формирования общеевропейской системы стандартов в области прав человека, с другой – достижения европейской правовой мысли, которая, безусловно, является главным источником вдохновения и идей для деятельности европейских наднациональных органов и формируемых ими подходов. Поэтому термин «европейские стандарты», при всей его условности, не может быть сведен лишь к практике Европейского суда по применению положений Конвенции – он отражает в конечном счете результаты развития всей европейской системы права в ее многообразии. Это многообразие, в свою очередь, актуализирует задачу гармонизации общих стандартов в области гражданского судопроизводства на европейском пространстве и в то же время обусловливает признание – в значительных сферах правового регулирования – своеобразия той или иной национальной правовой системы. Термин «европейские стандарты» отражает общий вектор их сближения в контексте европейского правового поля. В этом процессе практика Европейского суда служит объединяющим фактором, проводником общеевропейских идей в различные национальные правопорядки.
При этом сам термин «европейские стандарты», конечно, является достаточно условным, поскольку подходы к регулированию правосудия по гражданским делам зачастую отличаются и в государствах, являющихся «традиционными» членами Совета Европы. Необходимо учитывать также исходные существенные отличия судоустройства и судопроизводства в системах общего и континентального права. Кроме того, сам Европейский суд неоднократно подчеркивал автономию и широкую степень усмотрения государств-участников в организации судов и регулировании применяемых в них процедур.
В данном случае термин «европейские стандарты» отражает скорее принадлежность к определенному ценностному выбору в цивилизационном процессе, определяемому общей исторической судьбой европейских стран, сходством политических, экономических и культурных предпосылок формирования современных судебных процедур.
Генезис «европейских стандартов» обусловлен регулированием рассмотрения гражданских дел в «старых» членах Совета Европы, т. е. западноевропейских странах, в которых процесс гармонизации правовых норм и основных подходов к реализации прав человека начался намного раньше и в значительной мере был катализирован общеевропейской экономической и политической интеграцией.
В странах-членах «новой волны», представленной относившимися к бывшему соцлагерю государствами Восточной и Центральной Европы или же бывшими республиками Советского Союза, по понятным причинам существовали совершенно иные стартовые условия, отражавшиеся на состоянии их правовой и судебной систем. Так, принципы осуществления правосудия в странах социалистической формации и в странах Западной Европы, при их частом внешнем текстуальном совпадении (принцип состязательности, принцип диспозитивности и т. д.), кардинально различались на уровне их концептуального наполнения и применения. Кроме того, некоторые специфические принципы, действовавшие в странах социалистической формации и не ориентированные на признание личности и ее прав и свобод высшей ценностью, определяли иную общую философию развития судопроизводства в этих странах. К таковым можно отнести в первую очередь принцип объективной истины и принцип доминанты публичного интереса (хотя последний в качестве принципа ни в доктрине, ни в законодательстве специально не выделялся). Поэтому неудивительно, что и после смены общего вектора развития в этих странах имеет место некоторая инерция, оказывающая влияние в том числе на реформирование судебных процедур.
В отличие от стран Восточной Европы, где процесс реформирования систем судопроизводства и их приведения в соответствие с выработанными стандартами остальной Европы шел достаточно быстро, в России приверженность к сложившимся, в том числе в советский период, принципам и подходам оказалась сильнее. В то же время невозможно отрицать большой путь, пройденный в этом направлении отечественной судебной системой, и значительные успехи в данной области. Однако ряд существенных расхождений в понимании фундаментальных принципов процесса, выявляемых на основе сравнения российских и европейских подходов к осуществлению правосудия, отражает качество и эффективность последнего, в том числе недостаточный уровень реальной защиты прав граждан в России.
3. Структура статьи 6 конвенции
Институциональный и функциональный аспект справедливого правосудия
Сложный, комплексный характер статьи 6 отмечался многими исследователями[15 - См., например: Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. Особенная часть: Курс лекций. М.: Статут, 2010. С. 160; Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в российском гражданском судопроизводстве: монография. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 18.].
В различных работах принято выделять два основных аспекта закрепляемого статьей 6 права на справедливое судебное разбирательство: институциональный (относящийся скорее к судоустройственным элементам: независимость, беспристрастность, компетентность суда; его формирование в соответствии с законом) и процессуальный (напрямую касающийся судопроизводственных аспектов: справедливость разбирательства, публичность, процессуальное равноправие сторон, разумный срок рассмотрения дела)[16 - Обзор точек зрения по вопросу соотношения институционального и процессуального аспектов статьи 6 см. в: Афанасьев С.Ф. Указ. соч. С. 18–25.].
Б.Л. Зимненко предлагает другую интерпретацию структуры статьи 6: он выделяет в ней применительно к гражданскому судопроизводству право на доступ к суду (включая право на инициирование судебного разбирательства, право на разрешение дела о гражданских правах и обязанностях по существу и запрет необоснованного пересмотра окончательно вступившего в законную силу решения суда), право на исполнение судебного решения, а также те критерии, которым должно соответствовать судебное разбирательство (разумный срок рассмотрения дела, справедливость, обуславливаемая фактическими обстоятельствами конкретного дела; публичность; беспристрастность и независимость; рассмотрение дела судом, созданным на основании закона)[17 - См.: Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 160–161.]. Таким образом, данный исследователь фактически выделил в отдельную группу элементы, прямо названные в Конвенции, а также элементы, в самой Конвенции не поименованные, но выработанные практикой Суда (такие, как право на доступ к правосудию и право на исполнение судебных решений, а также недопустимость произвольной отмены окончательных судебных решений).
М. де Сальвиа, обобщая практику Суда по применению статьи 6, выделяет следующие аспекты последней: право на суд, справедливое судебное разбирательство (общее требование, относящееся к характеру самого процесса в его динамике и отражающее полученный результат судебного разбирательства; равенство сторон, принцип состязательности, надлежащую организацию судебных инстанций, требование мотивированности судебных решений); гласность, независимость и беспристрастность суда; его создание на основании закона; разумный срок рассмотрения дела[18 - См.: Сальвиа М., де. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 275–482.].
Для целей настоящего исследования и анализа главным образом российских дел в практике Суда представляется существенным выделить среди гарантий статьи 6 Конвенции непосредственно закрепленные в ее тексте и выводимые из ее толкования Судом.
Широкое толкование права на справедливое правосудие
Многие исследователи отмечают расширительный подход Европейского суда к толкованию элементов права на справедливое судебное разбирательство в смысле статьи 6 Конвенции[19 - Так, С.Ф. Афанасьев отмечает: «На первый взгляд ст. 6 Конвенции предельно проста, следовательно, для стран, ратифицировавших международный европейский договор, не составляет особого труда придерживаться и исполнять все необходимые требования. Но это только prima facie, поскольку норма перманентно получает сложное эволюционное толкование посредством деятельности Европейского Суда по правам человека, постановления которого обязательны для государств – членов Совета Европы» (Афанасьев С.Ф. Указ. соч. С. 6).]. Это характерно не только для данной статьи – рассматривая Конвенцию как «живой» и непрерывно развивающийся инструмент правового регулирования, Суд постоянно эволюционирует в осмыслении и толковании ее норм, гибко применяя их с учетом конкретных социальных, экономических и иных реалий.
В отношении сферы применения статьи 6 Конвенции практика Суда прежде всего расширила само понятие «спора о гражданских правах». Если в начале практики Европейской комиссии по защите прав человека данное понятие толковалось исключительно как охватывающее классические отношения «частного» характера, то сегодня оно охватывает споры с явно выраженными публичными элементами. Как отмечает М. де Сальвиа, «отныне любой иск, имеющий имущественный предмет и основанный на посягательстве на права, также имущественные, касается, в принципе, “гражданских прав и обязанностей”. Таким образом, мало важна природа права, в соответствии с которым должен быть разрешен спор (гражданское, торговое, административное и т. д.), и природа органа, компетентного в данной области (общая юрисдикция, административный орган и т. д.)»[20 - Сальвиа М., де. Указ. соч. С. 325–326.].
Идя по пути расширительного толкования понятия «гражданских прав и обязанностей», Суд включил в него и споры между лицом и государством, традиционно относившиеся к сфере публичного права: «Отношения между лицом и государством значительно расширились во многих сферах в течение пятидесяти лет… с тех пор, как была принята Конвенция, и государственное регулирование значительно вмешивается в частноправовые отношения. Это привело Европейский суд к выводу, что разбирательство, будучи согласно национальному законодательству частью “публичного права”, может попадать в сферу применения статьи 6 Конвенции с “гражданской” точки зрения, если исход разбирательства имеет значение для гражданских прав и обязанностей, если оно касается, например, таких вопросов, как продажа земли, владение частной клиникой, доходы в виде процентов с собственности, предоставление административного разрешения относительно условий профессиональной деятельности или лицензии на производство алкогольной продукции» (постановление по делу «Ferrazzini v. Italy» от 12 июля 2001 года)[21 - Текст постановления цит. по: Сальвиа М., де. Указ. соч. С. 329.].
В том же постановлении Суд указал, что «политические права и обязанности, как, например, право баллотироваться на выборах в Национальную Ассамблею, даже несмотря на то, что в данном разбирательстве затрагивались материальные интересы заявителя, не являются гражданскими в смысле статьи 6 Конвенции и, следовательно, ее п. 1 неприменим»[22 - Там же. С. 329–330.].
Очередным этапом в расширении сферы применения статьи 6 Конвенции можно назвать включение в эту сферу споров с участием государственных служащих, связанных с выполнением последними публичных функций (постановление по делу «Vilho Eskelinen and others v. Finland» от 19 апреля 2007 года).
Тенденция расширения Судом понятия «гражданские права и обязанности» применительно к кругу споров, на которые распространяется п. 1 статьи 6 Конвенции, проявляется и в российских делах. Так, практикой Суда было подтверждено, что в сферу действия предусмотренных статьей 6 Конвенции гарантий подпадают дела о назначении пенсий, иных социальных выплат (в том числе компенсационного характера), составляющие значительную часть «российских» дел. При этом Суд указал, что пенсии и аналогичные выплаты, являющиеся экономическими (имущественными) по своей природе, представляют собой гражданские права по смыслу п. 1 статьи 6; данный вывод был сформулирован Судом в постановлениях по делам «Smirnitsky v. Russia» от 5 июля 2007 года; «Kumkin and Others v. Russia» от 5 июля 2007 года, «Vedernikova v. Russia» от 12 июля 2007 года[23 - Данные приводятся по: Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 260.]. Относятся к сфере действия Конвенции, по общему правилу, и трудовые споры (см., например, постановление по делу «Kabkov v. Russia» от 17 июля 2008 года), за исключением случаев спора между государством и публичным служащим / должностным лицом (постановление по делу «Kanaev v. Russia» от 27 июля 2006 года)[24 - При этом необходимо принимать во внимание выводы Суда, сформулированные в вышеупомянутом постановлении по делу «Vilho Eskelinen and Others v. Finland»).]. Такой спор (между государством и государственным служащим, действующим в качестве носителя публичной власти) не подпадает под действие статьи 6 только в том случае, если он касается увольнения лица; если же речь идет о взыскании заработной платы, денежного довольствия и т. п., то спор должен охватываться понятием «гражданских прав и обязанностей» по смыслу статьи 6 независимо от того, кто пытается осуществить взыскание (постановления по делам «Kanaev v. Russia» от 27 июля 2006 года, «Pridatchenko and other Kanaev v. Russia» от 21 июня 2007 года, «Bezborodov v. Russia» от 20 ноября 2008 года, «Dementiev v. Russia» от 6 ноября 2008 года и др.)[25 - См.: Там же. С. 260–262.].
Относятся к сфере действия статьи 6 согласно позиции Суда и вопросы оспаривания решений органов государственной или муниципальной власти, касающиеся имущественных прав лиц (см. постановление по делу «Roseltrans v. Russia» от 21 июля 2001 года)[26 - См.: Там же. С. 264.].
Постоянное расширение Судом сферы применения п. 1 статьи 6 в контексте рассмотрения «споров о гражданских правах» приводит исследователей к выводу, что в конечном счете устанавливаемые Конвенцией гарантии справедливого судебного разбирательства должны соблюдаться во всех видах судопроизводства[27 - См., в частности: Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 265.].
В том, что касается толкования статьи 6, в наибольшей степени благодаря практике Суда наполняется новым содержанием именно процессуальный ее аспект, в то время как институциональный остается в большей степени статичным.
Процессуальный аспект справедливого правосудия
Процессуальный аспект статьи 6 – как в ее буквальном прочтении, так и в истолковании Судом – включает в себя принцип равенства сторон в использовании средств защиты, состязательный характер судопроизводства, мотивированность судебного акта, гласность (публичность) судопроизводства, разумный срок рассмотрения дела, недопустимость произвольной отмены вступивших в законную силу судебных решений, право на безусловное исполнение судебного акта.
Принцип процессуального равенства сторон (equality of arms) выделяется Судом как составной элемент более емкого понятия справедливого судебного разбирательства, в соответствии с которым каждой из сторон была дана разумная возможность представить дело в таких условиях, которые не ставят ее в существенно менее благоприятное положение по сравнению с оппонентом («De Haes and Gijsels v. Belgium» от 24 февраля 1997 года).
Принцип состязательности, по мнению Суда, означает, что «стороны в гражданском или уголовном процессе вправе знакомиться со всеми доказательствами или замечаниями, приобщенными к делу, комментировать их» («Ruiz-Mateos v. Spain» от 23 июня 1993 года).
Необходимость мотивированности судебного акта обосновывается Судом от противного: «…отсутствие мотивов в судебном решении есть достаточное основание для вывода о несправедливости разбирательства» («H. v. Belgium» от 30 ноября 1987 года).
Наконец, право на безусловное исполнение судебного акта обосновывается Судом следующим образом: «…право [на суд] стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства позволяла, чтобы окончательное и обязательное судебное решение оставалось недействующим к ущербу для одной из сторон» («Hornsby v. Greece» от 19 марта 1997 года)[28 - Ссылки на дела даны по изд.: Афанасьев С.Ф. Указ. соч. С. 201–202.].
Сюда же можно отнести многократно воспроизведенный вывод Суда о недопустимости произвольной отмены вступивших в законную силу судебных решений («Brumarescu v. Romania» от 23 октября 1999 года).
Таким образом, право на справедливое судебное разбирательство, как оно гарантировано статьей 6 Конвенции, сегодня не ограничивается перечисленными в ней элементами. Эти элементы образуют лишь необходимый minimum minimorum, своего рода conditio sine qua non, что не устраняет необходимости соблюдения иных принципов и гарантий, прочно ассоциируемых в процессуальной науке и практике с понятием «правого суда». Европейский суд, через рассматриваемые им дела прецедентного характера, постепенно вводит новые грани закрепленных в самой Конвенции элементов права на справедливое судебное разбирательство, наполняя их тем самым новым, более объемным содержанием и обеспечивая гармонизацию фундаментальных принципов, в том числе в области судопроизводства, во всех странах – участницах Конвенции.
Ярким примером такой гармонизации, когда в национальную правовую систему посредством практики Суда имплементируется общепризнанный правовой принцип, в данной национальной системе до этого не рассматривавшийся как фундаментальный принцип права (хотя отдельные его проявления, безусловно, присутствовали), является постепенное внедрение в российскую правовую систему принципа правовой определенности, о чем будет сказано ниже. Имплементация данного принципа (а точнее лежащих в его основе ценностей) сталкивается со значительными сложностями в российском законодательстве и практике, именно в силу конфликта с другими ценностями, в течение длительного исторического периода определявшими общую философию и взаимодействие публичного и частного начал (государства и индивида) в общественно-политическом устройстве и правовом регулировании.
При толковании Конвенции Суд отталкивается от актуальных социальных реалий, общественных запросов, предъявляемых к судебным системам, культурного контекста и даже технического прогресса (в связи с внедрением современных технологий в судопроизводство и проблемой их совместимости с фундаментальными критериями справедливого судебного разбирательства).
Типичные ситуации нарушений требования справедливого правосудия по российским делам в ЕСПЧ
Подробный анализ всех элементов права на справедливое судебное разбирательство применительно к рассмотрению гражданских дел уже осуществлялся и в зарубежной, и в отечественной правовой науке. Применительно к каждому из этих элементов статьи 6 устанавливались Судом нарушения и в отношении России.
Чтобы избежать повторов и придать настоящему исследованию новизну, мы сосредоточимся на анализе областей российского права, наиболее резистентных к имплементации европейских стандартов в сфере рассмотрения гражданских дел. Весьма обширная практика Суда показывает, что удельный вес разных нарушений статьи 6 по российским делам неодинаков. Некоторые из них носят сугубо единичный характер, другие, в принципе, отражают потенциальную проблему национальной правовой системы, но в количественном выражении в практике Суда скорее незначительны. Подобные ситуации – именно в силу их единичности – достаточно легко исправить, и практика ЕСПЧ может явиться (и зачастую является) стимулом для такого рода изменений.
Между тем наибольший интерес для анализа представляют типичные ситуации, связанные с рассмотрением гражданских дел в России, которые Суд неоднократно, в целом ряде постановлений, оценивает как нарушения Конвенции. Эти нарушения, таким образом, приобретают системный характер. Они повторяются, несмотря на уже сложившуюся отрицательную их оценку в практике Суда, что отражает неспособность или нежелание субъектов формирования отечественного законодательства и практики исправлять недостатки, приводящие к нарушениям Конвенции. Очевидно, что в подобных случаях расхождения в позициях отечественной правовой системы и Европейского суда отмечаются в ценностном подходе, в приоритетах, которые в данной области явно или имплицитно устанавливает государство и которых придерживается в своей практике Европейский суд. В этой связи необходимо проследить генезис несовпадений в этих ценностях в целях поиска путей сглаживания таких расхождений.
Автор выделил те элементы статьи 6, по которым констатированы единичные нарушения Конвенции, но которые потенциально могут иметь большее число нарушений, и элементы, которые сопровождаются систематическими нарушениями, т. е. такие элементы, несоблюдение которых уже привело к появлению проблем системного характера с точки зрения соблюдения Конвенции. В первую группу попали дела, в которых затрагивались право на доступ к суду, публичность судебного разбирательства, обеспечение гарантий состязательности (включая право представить свои объяснения – the right to be heard) и процессуального равенства (equality of arms). Вторая группа включает типичные российские нарушения статьи 6 при рассмотрении гражданских дел: отмена вступивших в законную силу судебных решений (в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам), неисполнение судебных решений, нарушение разумного срока судебного разбирательства. Последняя группа выделена не только из-за повторяемости данных нарушений (их не так много в общей структуре российских дел и значительно меньше тех, что допущены другими странами), но и в связи со спецификой названных проблем в российской практике.
§ 2. Нарушения статьи 6 конвенции, не имеющие системного характера
1. Право на доступ к суду
Доступ к суду в решениях ЕСПЧ и российской практике
Концепция «доступности правосудия», или «доступа к правосудию» (Access to Justice), оформилась в 70-е годы прошлого века в результате еще одного глобального исследовательского проекта (с одноименным названием), также разработанного под руководством Мауро Капелетти. Она отражает изменившиеся общественные запросы и ожидания в отношении правосудия и направлена на повышение реального уровня предоставляемой судебной защиты, а также эффективности разрешения социальных конфликтов, в том числе в отношении защиты прав новых субъектов изменяющихся общественных отношений, включая интересы больших групп лиц, например, в связи с защитой потребителей, участников корпоративных отношений и окружающей среды. Данная концепция касается не только собственно порядка обращения в суд и получения доступа к судебной защите, но и необходимости обеспечения юридической помощи слабо защищенным в социальном плане группам лиц[29 - Результаты данного масштабного проекта, включавшего сравнительное и междисциплинарное исследование проблем в обеспечении реальной доступности правосудия и возможных вариантов их решения, были опубликованы в 1978–1979 годах в шести томах. См.: The Florence Access-to-Justice Project. A Series Under the General Editorship of Mauro Cappelletti. Access to Justice / M. Cappelletti, B. Garth (eds.). Milan: Dott. A. Giuffre Editore; Alphenaandenrijn: Sijthoff and Noodhoff, 1978.].
В практике ЕСПЧ проблема доступа к суду рассматривается в основном с точки зрения предоставления возможности судебной защиты и создания условий для инициирования производства[30 - Более подробно о развитии концепции доступа к правосудию в практике Европейского суда см. главу IV настоящей книги, а также: Афанасьев С.Ф. Указ. соч. С. 71 и след.; Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 161–168.].
Не будучи прямо упомянутым в самой статье 6 Конвенции, впервые право на доступ к суду как элемент справедливого судебного разбирательства было сформулировано Европейской комиссией по правам человека в деле «Golder v. the United Kingdom» (постановление от 21 февраля 1975 года). Данное право само по себе имеет сложную структуру и охватывает как собственно право на обращение в суд (т. е. инициирование судебного разбирательства), так и право на разрешение дела по существу (т. е. получение адекватного фактическим обстоятельствам результата судебного разбирательства), а также право на получение юридической помощи и права, связанные с обжалованием судебных решений.
Европейский суд в своей практике сформулировал общий подход, согласно которому данное право не является абсолютным и может быть ограничено, однако при этом ограничительные меры не могут изменять право доступа к правосудию таким образом или до такой степени, чтобы сама его сущность оказывалась затронутой[31 - Перечень прецедентных постановлений по данному вопросу приводит, в частности, Микеле де Сальвиа. См.: Сальвиа М., де. Указ. соч. С. 282–304.]. Признание неабсолютного характера права на доступ в суд означает предоставление государствам достаточной свободы усмотрения в установлении процедур обращения в суд, процессуальных прав и обязанностей сторон, процедур обжалования судебных решений и т. д.