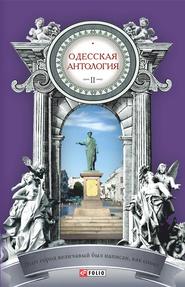скачать книгу бесплатно
Трецек вспыхивал и потухал, отирал потное от волнения лицо, умолял дать ему еще две минуты, еще одну минуту…
Но Хейфец был как Фатум, как судьба, как Каменный Гость.
Выхода не было, куча только что написанных, горячих, еще дымившихся листков подымавшегося как ртутный термометр Трецека попадала в снег, в тундры, в ледники.
И вот, по словам свидетеля истории, что из конфликта этих двух миров получалось.
Бедный Трецек, бедный Йорик, писал:
«Вчера, ровно в полночь, едва заслышав глухой звон набата, озаренные блеском факелов, в медных касках, подобные воинам римских легионов, не щадя жизни, бросаясь в самые опасные места, развёрнутой колонной и сомкнув ряды, шли наши неоценимые и самоотверженные серые герои, и куда?! Я вас только спрашиваю куда?! И отвечаю: в огонь, воду и медные трубы!..»
«Лишь бы вырвать из разбушевавшейся стихии несколько несчастных жертв общественного темперамента, ибо надо ли пояснять и, так сказать, бить по темени несознательных масс, что дело идёт о народном бедствии в одном из самых густо населенных пунктов нашей Южной Пальмиры»…
Каменный Гость накрест перечеркнул произведение Л. О. Трецека жирным красным карандашом.
В утреннем номере газеты, в отделе городской хроники, оскорбительно – мелким шрифтом было напечатано:
«Вчера ночью пожарная команда Бульварного участка была вызвана в Биоскоп Сирочкина. Тревога оказалась ложной».
* * *
Искусство Хейфеца, как редактора, проявлялось главным образом в умении учуять, раскопать, найти и привлечь новые силы, молодые дарования.
Теперь это уже почти забыто, но быть может справка не лишена интереса.
В «Одесских новостях» начинали свою литературную карьеру Корней Чуковский, К. В. Мочульский, Петр Пильский, В. Е. Жаботинский, явивший весь свой искрометный и иронический блеск в лёгких, в совершенно новой манере подданных фельетонах, за подписью Altalena.
Старую гвардию, своего рода совет старейшин вокруг склонного к диктатуре редактора, представляли тишайший О. А. Инбер, полиглот и начётчик, С. Соколовский (Седой), скучный и почтенный передовик, и, разумеется, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, избравший себе совершенно немыслимый в настоящее время псевдоним – Лоэнгрин, и писавший длинные, ежедневные, многоуважаемые фельетоны в совершенно забытой теперь форме нравоучительной публицистики и якобы ядовитого, дозволенного цензурой радикализма.
Но какой это был прелестный, душевный, всегда растерянный, часто неприкаянный, и так сильно напоминавший чеховского Гаева человек!
Близорукий, изящный, какой-то особой повадкой походивший на уездного предводителя дворянства из обрусевших поляков, всегда в безукоризненно накрахмаленных воротничках, с густыми мягкими, мопассановскими усами, Герцо-Виноградский пользовался большой популярностью и любовью.
Изумительная память и патологическая страсть к цитатам создали ему репутацию настоящего энциклопедиста, знавшего наизусть, как говорил Бунин, где какие люди живут и за какие идеалы страдают…
Это был один из тех старых литераторов и последних могикан, которых щедро расплодил Михайловский и снисходительно осуждал Владимир Соловьев.
Это ему, добрейшему и безотказному Петру Титычу, и ему подобным, патетически писали курсистки высших женских курсов:
– Научите, как жить…
А он и сам не знал и не ведал, и в дружеской беседе, в полнолунной зачарованной тишине новороссийской ночи, слегка размякнув от красного вина, каким-то дрожащим, взволнованно-ослабевшим голосом не то декламировал, не то нараспев читал любимые стихи Тютчева:
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
…Взрывая, возмутишь ручьи.
Питайся ими, и молчи.
<…>
* * *
О ком еще стоит вспомнить и хотя бы вскользь упомянуть, порой с примесью запоздалой признательности и сожаления, – «их было много, их больше нет», – порою с чувством, с отзвуком угасшего негодования?
Ведь, помимо героев и воображаемых портретов во вкусе Уолтэра Патера, помимо итальянских теноров, дерибасовских красавцев, велосипедистов, спортсменов и героев Семена Юшкевича, были в этом городе преходящих вкусов не одни только мотыльки и бабочки, любимцы публики на день, на час, которых поспешно венчала и столь же поспешно развенчивала впечатлительная, неблагодарная, неверная южная толпа.
Были талантливые актеры русской драмы, – вдохновенный, бледный, испепелённый М. М. Горелов, игравший неврастеников и первых любовников, незабываемый в «Призраках» Генрика Ибсена; был недюжинный по дарованию горбун, С. М. Ратов; молодой Виктор Петипа, сверкавший всею лёгкой радугой своей французской крови; и неразлучный друг его и приятель, Южный, которого бесцеремонно называли Яша Южный, – в будущем, в годы эмиграции, директор имевшего большой успех русского театра миниатюр «Синей Птицы»; был рыхлый, вкрадчивый, торжественный и театральный А. И. Долинов, впоследствии режиссер Александринского театра, говоривший о Савиной, полузакрывая глаза и приподымаясь со стула; был еще популярный на юге М. Ф. Багров, несменяемый антрепренёр городского театра.
И как же забыть завсегдатая генеральных репетиций, первых представлений и первых рядов, рисовальщика и карикатуриста, остроумного, весёлого, или притворявшегося весёлым, всей повадкой своей напоминавшего парижского бульвардье, в шляпе набекрень, в выхоленной бородке с моложавой проседью, милейшего, беспокойнейшего Мих. Сем. Линского, предварительно переменившего немало газетных рубрик и немало псевдонимов, которому на каком-то интимном чествовании, – в Одессе обожали юбилеи и чествования, – кажется. Корней Чуковский преподнёс это сохранившееся в памяти посвящение:
Ты прежде принцем был де-Линь,
Потом ты просто стал де-Линь,
Ну что ж, линяй, брать, дальше…
Спустя несколько быстро промчавшихся десятилетий, во время оккупации Парижа, бывший балетный фигурант и немецкий наймит, по фамилии Жеребков, с удивительной прозорливостью докопался и открыл, что бывший принц де-Линь был всего-навсего уроженец города Николаева, Шлезингер, на основании чего, и по приказу генерала фон-Штульпнагеля, в одно прекрасное последнее утро, за крепостными валами Монружа, уже не с легкой проседью в подстриженной бородке, а белый как лунь, и белый как полотно, Мих. Сем. Линский был расстрелян, и зарыт в братской могиле, в числе первых ста заложников.
Большое, окаймлённое чёрной рамкой объявление о расстреле ста было расклеено по всей Франции. Мы его прочитали в Aix-les-Bains, сойдя с поезда. В двух шагах от вокзала, в нарядном курортном парке, оркестр играл марш из «Нормы». Была вещая правда в стихах Анны Ахматовой:
Звучала музыка в саду
Таким невыразимым горем…
* * *
Еще одно имя, прежде чем покинуть Одессу: Герман Фадеич Блюменфельд.
Официальный титул – присяжный поверенный Округа Одесской судебной палаты, знаменитый цивилист, автор почти единственных на всю Россию трудов по бессарабскому праву.
В быту, в домашней жизни, в общении с людьми – обаятельный человек, доброты и нежности плохо скрываемой за какой-то сочинённой и выдуманной маской брюзги, буки, ворчуна и недотроги.
А между тем, стоило недотроге сесть за свой огромный письменный стол, заваленный книгами и рукописями, чтобы попытаться, в который раз, закончить важную кассационную жалобу в Правительствующий Сенат, как, – вот вы сами видите, – признавался он в минуты отчаяния, – какой скэтинг-ринг устраивают на моей лысине кошки, дети, и все друзья и подруги этих миленьких детей, которые тоже приводят кошек, и еще спрашивают, негодяи: – Мы вам не помешали?!
Недаром, когда праздновался 25-летний юбилей его адвокатской деятельности и старший председатель Судебной Палаты, обратившись к нему с сердечным прочувствованным приветствием, выразил надежду, что он, юбиляр, еще в течение долгих и долгих лет будет являть пример всё того же высокого и неизменного служения праву, и чувствовать себя в Суде, как дома, – бедный Герман Фадеич не выдержал и со свойственной ему быстротой реплики немедленно возразил:
– Пожелайте мне лучше, Ваше Превосходительство, чувствовать себя дома, как в Суде…
Дом Блюменфельда был в полном смысле слова открыт для всех.
Клиенты, просители, товарищи по сословию, а в особенности молодые помощники присяжных поверенных, и «наш брат студент», приходили почем зря и когда угодно, спорили, курили, без конца пили чай, безжалостно уничтожали пирожные от Фанкони, рылись в замечательной блюменфельдовской библиотеке, а потом наперебой задавали Буке бесконечные вопросы по гражданскому праву, по уголовному праву, требовали рассмотрения каких-то невероятных сложных казусов, бесцеремонно настаивали на немедленной дискуссии, одним словом, как говорил сам Г. Ф., устраивали параллельное отделение юридического факультета, и извлекали из-под скэтинг-ринга, – это непочтительное наименование сократовой лысины будущего сенатора укоренилось быстро и окончательно, – не мало настоящих знаний, а порой и откровений, которыми восполнялись неимоверные пробелы незадачливой официальной науки.
Воспоминания о Блюменфельде не есть нечто своё, неотъемлемое и личное.
В будущей свободной России, когда все станет на место и возврат к истокам и извлечённым из праха и забвения ценностям окажется неизбежным, и о забытом Г. Ф. будет написана поучительная книга, может быть целая антология его юридических построений, теорий, толкований и разъяснений.
В антологию эту непременно войдут и его щедро рассыпанные, оброненные на ходу, брошенные на ветер, в пространство, – афоризмы, определения, меткие острые слова, исполненные беспощадной иронии, но и доброты и снисходительности, мнения и характеристики, и, может быть, в конце книги грядущие и, как всегда, равнодушные поколения прочтут все же не с полным безучастием короткий эпилог, несколько покрытых давностью строк из частного письма, дошедшего в Европу в грубом сером конверте из обёрточной бумаги, с почтовой маркой с портретом Ленина: голодной смертью, от цинги, умер Герман Фадеич Блюменфельд.
* * *
Новороссийский антракт кончался. <…>
Итак, прощайте. Лиманы, Фонтаны, портовые босяки, итальянские примадонны, беспечные щеголи, капитаны дальнего плавания, красавицы прошлого века, как у Кузмина, но без мушки, градоначальники и хулиганы, усмирявшие наш пыл,-
Одесса Толмачёва
Резина Глобачева,
А молодость ничья!
Прощайте, милый Шпаков, единственный утешитель, и розовый и седой, талантливый, пронзительный Орженцкий, виновный в том, что поляк, а потому навсегда доцент, и только в далёком будущем первый ректор Варшавского университета.
Застучали колеса пролётки по вычищенным мостовым. Что ж еще?… Закурить папироску фабрики Месаксуди, обернуться назад, на сразу ставшее милым прошлое, крепко удержать в памяти, на всю жизнь запомнить ослепительную южную красоту, в пышном цвету акации на Николаевском бульваре, бегущие вниз ступени – к золотому берегу, к самому пропитанному солью нестерпимо-синему простору, еще в счастливом неведении грядущих бед, не предугадывая, не предчувствуя чеканных строк Осипа Мандельштама, которым суждено будет стать пророческим эпиграфом целой жизни:
Здесь обрывается Россия
Над морем чёрным и глухим.
Богдан Комаров
(1882–1975)
Украiнський публiцист, бiблiограф, природознавець. Народився в Киевi, виховувався в украiнськiй патрiотичнiй родинi. Навчався у Львiвському i Кракiвському унiверситетах. З 1906 р. вчителював на Одещинi, перебуваючи пiд наглядом полiцii. Був iнiцiатором створення Державноi украiнськоi бiблiотеки iм. Т. Г. Шевченка i ii завiдувачем у 1920–1930 рр. У 1930 р. був заарештований i засланий в Ленiнабад, де викладав i заснував власну наукову школу. Працював над спогадами «Бiблiотека моеi пам’ятi».
Моi унiверситети
(уривок)
Вiкно було вiдчинене, i з саду добре було видко все, що дiеться в авдиторii. Калишевський накинув на плечi скелета студентську тужурку, а на череп одяг картуз i запалив з двох бокiв два газових пальника. Картина вийшла дуже ефектна. Коло вiкна почали збиратись перехожi…
Аж ось до авдиторii увiйшов професор. Пальники бiля скелета були миттю загашенi, тужурка i картуз зiрванi з скелета i скелет поставлено на належне мiсце. Професор нiчого не сказав, але видко було, що його образив цей жарт, бо першi хвилини вiн не мiг читати спокiйно.
Але ми i в думцi не мали ображати професора. Ми хтiли просто посмiятись над самими собою: мовляв, кожний з нас колись обернеться на кiстяк. Пiсля лекцii прохали пробачення у професора.
* * *
Вступаючи до унiверситету бiльшiсть з нас, студентiв, йшло не тiльки вчитися, засвоювати основи науки, але й брати участь (i то в перших рядах!) в боротьбi «за волю, за блага для усього трудящого народу» i, в першу чергу, проти дикоi сваволi царського уряду.
<…>
У мого товариша i друга Володi Сигаревича був старший брат Дмитро Дмитрович Сигаревич, молодий, талановитий вчитель iсторii. Вiн якось в кiнцi 1900 року запропонував прочитати коротенький нарис iсторii Украiни у себе вдома для мене, Володi i ще двох-трьох студентiв – украiнцiв. Ми з радiстю прийняли пропозицiю i в призначений день з’явились до Дмитра Дмитровича в складi п’яти чоловiк. Нас прийняли дуже гостинно, але Дмитро Дмитрович повiдомив, що вiн не дiстав одного дуже важливого саме для першоi лекцii лiтературного джерела i тому мусить вiдкласти початок лекцiй з iсторii Украiни на три тижнi, на протязi яких те лiтературне джерело до нього прибуде, а сьогоднi вiн може прочитати нам, якщо ми згоднi, лекцiю з iсторii французькоi революцii. Ми з вдячнiстю на це погодились.
Лекцiя Дмитра Дмитровича захопила нас. Вiн спромiгся прочитати ii так рельефно i з таким ентузiазмом, що ми наче бачили на своi власнi очi тi подii, за якi оповiдав лектор. Дуже сумно, що далi все склалося не так, як гадалося. За участь в «студентських розрухах» слухачам довелось примусом покинути Одесу.
А ще ранiш, на самому початку навчального року, у вереснi, Дмитро Дмитрович радив менi i Володi прочитати книгу вiдомого украiнського полiтичного дiяча М. Драгоманова: «Историческая Польша и великорусская демократия». Нам дiстали цю, видану в Швейцарii, книжку, i ми з Володею почали ii студiювати. Але книжка нам не сподобалась – щоб ii добре розумiти, треба було б попереду пройти якiсь «Vorstudien». І змiст ii здався нам занадто далеким вiд того, що в даний мент цiкавило нас.
А, безумовно, студентство тих часiв було найбiльше зацiкавлене полiтичною економiею i марксизмом. Один з моiх товаришiв, студент-украiнець Гуссов, який вважав себе за дуже дотепного, казав: «Всi так захопленi полiтичною економiею, що можна сказати – ми живемо не в Європi, а в полiтичнiй економii»
(Гуссов писав свое прiзвище через два «с», бо, як запевняв, вiн був родом зi Швецii, де звався Гуссоном).
Про «Капiтал» Маркса ми всi чували, навiть спiвали в заздравнiй пiснi:
Выпьем, брат, за того,
кто писал «Капитал»,
За работу его,
за его идеал!
Але поняття про марксизм ми мали здебiльшого обмежене. Трудно було дiстати вiдповiдну лiтературу. Один примiрник «Капiталу» в росiйському перекладi був в бiблiотецi Новоросiйського унiверситету, але переховувався вiн не в загальному вiддiлi, а в кафедральнiй бiблiотецi катедри богословiя! Вченi попи тримали його у себе не для пропаганди iдей Маркса, а для того, щоб зручнiше цькувати одного з найбiльших своiх ворогiв – атеiста Карла Маркса.
<…> Уже в першi днi перебування в унiверситетi я дiзнався, що там функцiонуе нелегальна загальностудентська органiзацiя, яка мае своi вiддiли по окремих факультетах i окремих курсах. Бiльше того – по окремих курсах студенти подiлялись на десятки, на чолi яких стояли вибранi на сходинах «десятськi».
Бiльш того, я сам вiдразу попав у «десятськi».
Загально студентська органiзацiя здаеться менi тепер чимсь на взiр чутливого термометра, який зараз же вiдчувае всi подii в полiтичному чи суспiльному станi краiни, i не тiльки вiдчувае, але й реагуе на них дiлом i публiчними виступами, манiфестацiями, масовими сходинами, забастовками, виготовленням i поширенням прокламацiй i таке iнше. В усiх цих дiяннях студенти виступали, як оборонцi правди «простого люду» вiд злочинств царату та багатiiв. Не даром в широких масах з пошаною ставились до студентiв. Студентський картуз був символом боротьби за правду.
Пройшли роки i стерлись з пам’ятi бiльшiсть iмен товаришiв-студентiв. Пам’ятаю, що чiльну участь в справах загально-студентськоi органiзацii приймав грузин Чiчiнадзе, студент не молоденький, з бородою. Не пам’ятаю окремих подiй, але ясно бачу в думках своiх привiтну постать цiеi людини, завжди ласкаву до молодих студентiв, якi дивились на нього, як на батька.
<…> Часи були бурхливi. Царський уряд затвердив так званi «Временные правила», згiдно з якими студентiв за участь в полiтичних виступах стали «отдавать в солдаты». Шпиги усякого роду пильно стежили за студентами. Як приклад, пригадую такий випадок. Мiй десяток зiбрався у Чекерського. Коли ми вже кiнчали свою нараду, хтось з наших запримiтив крiзь вiкно людську фiгуру за дверима кiмнати, в якiй ми засiдали i яка безпосередньо виходила на зовнiшнi сходи. Фiгура прислухалась до наших розмов i пiдглядала в замкову щiлину. Ми раптом вискочили на сходи, але фiгура вже прожогом втiкала на вулицю. «Шпион! Негодяй!» – кричали ми, бiжучи за невiдомим, але спiймати i набити його не вдалося. Треба визнати, що ми зовсiм не вмiли додержувати правил конспiрацii, i слiдкувати за нами шпигунам, певно, не було важко.
Зберiглась в пам’ятi подiя, зв’язана з постановкою в театрi п’еси одеського письменника Федорова «Бурелом». На жаль, я не пам’ятаю, яке саме мiсце в п’есi викликало обурення наших студентiв. Було вирiшено з явитись на виставу i те фатальне мiсце в п’есi зустрiти масовим посвистом. Багато студентiв з’явилося тодi на спектакль i позаймали мiсця i на галерцi, i в партерi, i в ложах. У вiдповiдний момент пролунав у театрi могутнiй посвист. Полiцiя була напоготовi i кинулась арештовувати окремих студентiв. Декiлька студентiв потрапило до iх рук.
* * *
До 5-го грудня професори закiнчили читати своi лекцii (деякi ще в листопадi), i 5 грудня вiдбувся щорiчний так званий «студентський бал». Вiдбувся вiн в пишнiй салi «Бiржи». Спочатку концерт, а потiм бал, на який з’являлось багато горожан, головне «мамаши» з молоденькими (i не молоденькими) дочками. На вечiр з’явився i одеський «царьок» – всевладний градоначальник граф Шувалов. Вiн намагався здобути собi репутацiю «друга студентiв», та не вдавалося йому це. Не вдалось i на цьому вечорi. Коли при закiнченнi концерту оркестр заграв, а студенти заспiвали мiжнародний студентський гiмн «Gaudeamus igitur», студенти, а за ними i всi гостi встали з своiх мiсць. Лише граф продовжував сидiти в креслi. «Его сиятельство» звик вставати лише при звуках державного гiмну «Боже, царя храни». Але тут з десяткiв студентських грудей залунав потужний крик: «Встать!», i бiдне сiятельство мусило встати i стояти на протязi виконання цього гiмну. Пiсля концерту граф, очевидно, не вважав зручним залишатись на балу, подався до дому.
Пiдчас балу одну з кiмнат ресторану, що мiстився на першому поверсi будинку «Бiржi», студенти зайняли пiд «Мертвецьку», себто кiмнату, куди мiстять «мертвецьки» п’яних. Видима рiч, що серед студентiв на тому балу дехто й справдi здорово випивав. Але призначення «Мертвецькоi» було зовсiм iнше. Це була маскировка, а фактично «Мертвецька» призначалась для агiтацii i пропаганди революцiйних iдей. Тут лунали гарячi i смiливi промови. Тут навiть виступали iнодi i професори. Я був свiдком, як до «Мертвецькоi» зайшов професор ботанiки Рiшавi. Ця висока на зрiст, надзвичайно поважна, з великою, ефектно утриманою бородою, людина не була революцiонером. Але трималась iз студентами, як з молодшими товаришами. Зате й любили його студенти. Отже коли Рiшавi з’явився до «Мертвецькоi», його зараз же оточили студенти, десятки рук протяглися до тучноi постатi професора, пiдняли i поставили його на стiл. І професор казав про дружбу студентiв i професорiв, про те, що iм разом треба будувати науку i разом вести боротьбу за щастя народне. Промова була витримана в загальних рисах, жодних конкретних завдань промовець не назначав, але й за таку промову була вдячна молодь. Щиро плескали старому, i так само обережно i лагiдно зняли професора з iмпровiзованого п’едесталу. «А як би вiн покликав до конкретних вчинкiв? – думалось менi, – всi би пiшли за ним»…
Крiм загальностудентськоi органiзацii були в унiверситетi й iншi угруповання i гуртки. Були рiжнi нацiональнi органiзацii; серед них i гурток украiнських студентiв. Украiнський гурток займався, головним чином, вивченням украiнськоi лiтератури i мистецтва, в меншiй мiрi – питанням про полiтичне становище Украiни.
Особливо поширенi були гуртки студентiв-землякiв, так званi «землячества», якi об’еднували студентiв, що прибули з одного якогось краю.
Там були землячества Вознесенське, Ананiiвське, Херсонське та багато iнших. Головною метою землячеств була взаемодопомога i матерiальна, i моральна.
Одiрванi вiд сiм’i приiзжi студенти часто дуже бiдували. Гарних гуртожиткiв не було. Наприкiнцi Наришкiнського узвоза був поганенький гуртожиток, так зване «Общежитие», позбавлений примiтивних зручностей. Койка в кiмнатi, де жило 6–8 чоловiк, коштувала, як не помиляюсь, два карбованцi на мiсяць. Бiльшiсть заробляла уроками, ставали репетиторами буржуйських синкiв-гiмназистiв. Одержували копiйчану платню. Один мiй товариш давав п’ять урокiв, ганяв по тих уроках цiлими днями, а заробляв ледве 25 карбованцiв на мiсяць.
Але землячества мали й iншi значення. Вони потроху втягали товаришiв до iнтересiв колективу, до заiнтересованостi долею народу, до революцiйних настроiв. На мiй погляд, землячества були школою революцiйноi дiяльностi. Може я й помиляюсь частково – не всi землячества були однаковi. Пишучи отi записки, я зацiкавився взагалi питанням про землячества i, в умовах Ленiнабада, не знайшов нiчого. Але мене надзвичайно дивуе, що в такому багатоiнформованому виданнi, як ВРЕ, немае навiть предметного слова: «Землячества». А тим часом немае сумнiву, що в iсторii революцiйного руху Вищоi Школи вони мали неабияку вагу.
* * *
Закiнчились зимовi канiкули, в кiнцi сiчня почався весняний семестр, надiйшла та пора, коли революцiйнi настроi студентiв набувають особливоi сили. Прийшла звiстка з унiверситетiв Петербургу, Москви, Киева, Тифлiсу – усюди шумно, усюди наростають виступи студентiв проти репресiй царського уряду, проти «отдачи студентов в солдаты». Нарештi в кiнцi лютого загальностудентська одеська органiзацiя оголосила, як знак протеста, загальну забастовку.
В унiверситетi шумно, народу багато, але аудиторii здебiльшого порожнi, або в них вiдбуваються сходини («сходки»). Бiльшiсть студентiв забастовали, але знайшлись штрейкбрехери-боягузи, або «маменькины сынки», або «белоподкладочники», якi не послухали наказу студентськоi органiзацii i пiшли на лекцii. Треба було зробити заходи проти них, умовити iх залишити лекцii, а як не послухають, то вигнати iх з аудиторii. Я теж вступив до групи «обструкцiонiстiв». Ми пiшли оглядати авдиторii. В бiльшостi з них було пусто, але в деяких сидiло по декiлька (2–5) студентiв. На чолi нашоi групи обструкцiонiстiв стояв надзвичайно симпатичний студент украiнець Комличенко, людина одночасно i добра до своiх товаришiв, i сувора при виконаннi своiх обов’язкiв. Вiн ввiчливо пропонував студентам залишити авдиторii, закликав не порушати загальностудентських вирiшень, не зраджувати спiльноi справи. Здебiльшого «зрадники» слухались, залишали авдиторii i приеднувались до забастовки.
<…> Подii того дня на цьому не скiнчились. Вночi, коли я уже лiг спати, почувся в нашому помешканнi дзвiнок. Батько ще не спав i сидiв за письмовим столом, опрацьовуючи своi бiблiографiчнi записи. Почувши дзвiнок, вiн пiдiйшов до вхiдних дверей.
– Хто там? – запитав.
– Телеграмма.
Батько вiдчинив дверi i побачив на сходах синьомундирного ротмiстра, двох полiцаiв i нашого двiрника в ролi понятого.
– Здесь живет студент Комаров?
– Здесь. Я его отец.