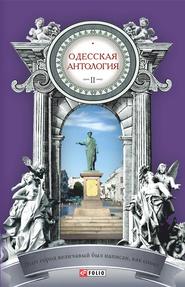скачать книгу бесплатно
– Укажите комнату сына.
Я займав окрему невеличку кiмнату. Синьомундирник i один полiцай увiйшли до моеi кiмнати. Мiй молодечий сон був порушений. Страховитi постатi, що iнодi привиджуються вночi, стали передi мною в дiйсностi. Почався обшук, або так званий «трус». До шуфляд стола, до книжок, до убрання i постелi потяглись ворожi руки, розгортаючи папери, листи, i ворожi очi роздивлялись листки щоденника, аркушики з автовiршами, яких автор i друзям ще соромився показати.
Дещо забрали, що саме, не знаю, бо жандарм наказав менi пiдчас обшуку сидiти i не рипатись. Обшук закiнчився.
– Оденьтесь и захватите постель! Вам придется оставить дом!
Заплакана мати, схвильоване обличчя батька, переляканi сестри…
– До побачення, дорогi!
Поiхали…
Синьомундирник iхав окремо, а мене посадили на звичайнi вiзниковi дрожки разом з двома полiцаями, один – поруч, другий – напроти.
Нiч була холодна. Нерви напруженi. І я трохи здригався. Полiцай, що сидiв напроти мене, звернувся до мене i спитав:
– Вам холодно, господин студент?
І якась приязнь почулась менi в цих словах.
– Спасибi! Нiчого, – вiдповiв я.
Видно, i серед полiцаiв були люди, якi спiвчували так званим «политическим преступникам». Мене везли до в’язницi.
Одеська в’язниця, що велично йменувалась «Одесский тюремный замок», далеченько була вiд осередку мiста. Дорога йшла повз мiське кладовище. Проiжджаючи тепер «пiд охороною полiцаiв» проти брами кладовища, згадав я свою любу бабусю, пiд доглядом якоi я був увесь час свого дитинства i юнацтва, i яка 4 мiсяцi тому упокоiлась i лежала на тому кладовищi «пiд тихими вербами», i подумав: «Прощай, люба буся! Спасибi за все». Почув ясно, що скiнчилось мое дитинство i юнацтво, а почалась молодiсть.
Отже, замiсть унiверситету – «тюремний замок»! В цiй установi я розпочав свiй другий семестр. Спершу провели мене в кiмнату, що була, певно, урядовим осередком в’язницi. Зняли з мене помочi (щоб часом не завiшався!), вiдiбрали гаманець з грiшми (iх, правда, при менi порахували), годинник, записну книжку i олiвець. Посадили в одиночну камеру. На протязi багатьох рокiв я пам’ятав ii номер, а оце забув. Здаеться, № 310.
Заарештували тодi щось коло 200 студентiв. Це все народ молодий, палкий, веселий, повний надii на кращу будучину. По камерах повилазили на столи, поодчиняли кватирки, тюремне подвiр’я заповнилось криками i спiвами. Викрикували своi прiзвища, вiтали один одного, спiвали «Марсельезу». Я дiзнався, що у в’язницi сидить i наш любий Чiчiнадзе. В моiй камерi була не кватирка, а так звана «фрамуга» – частину подвiйноi вiконноi рами можна було трохи вiдхилити верхнiм краем в середину камери, i тодi утворювалась у вiкнi вузенька щiлина. Крiзь яку проходило повiтря, але руку просунути не можна. А крикнути можна.
– Здравствуйте, Чичинадзе!
– Кто говорит?
– Комаров!
– Здравствуйте, Комаров! А где ваш «alter ego»?
– Не знаю.
Пiд «alter ego» Чiчiнадзе розумiв мого товариша i друга Володимира Сигаревича. Виявилось, що арешти студентiв продовжувались ще кiлька днiв. Володю заарештували в один з таких днiв.
Караульнi бiгали по камерах, стягали в’язнiв зi столiв, кричали на них, але вони не встигали оглянути одразу всi камери. Поки караульний пiшов до другоi камери, а в’язень з першоi знову на столi i кричить у вiкно.
Сидячи у в’язницi, я в розпач не вдавався. Мене тiшила думка, що я теж хоча трохи допомiг революцiйнiй справi, Цiлими днями я ходив туди i назад по дiагоналi своеi камери i декламував вiршi Надсона. Коли я пiсля обiду в перший день прилiг на койцi, я почув, як хтось з сусiдньоi камери стукае до мене в стiнку. Я ще до арешту знав з книжок, що в’язнi звичайно «перестукуються» мiж собою, але технiки цiеi справи я не знав. На стук сусiда я вiдповiв також стуком, але без якогось порядку; я хтiв цим показати, що я хочу вiдповiдати йому, але не знаю, як це робиться. І ось, через деякий час, слухаючи тi стуки, я запримiтив, що в стуках сусiда помiтно якийсь лад: спочатку один мiцнiший удар, а потiм 5 слабеньких, далi 2 мiцнiших i знову 5 слабеньких, потiм 3 мiцнiших, 5 слабеньких i так далi. Я зрозумiв: треба абетку подiлити на групи по 5 лiтер; для кожноi лiтери подати треба спочатку групу мiцними ударами, а потiм – мiсце в групi, дрiбненькими ударами. Наприклад, лiтера «К» – 2 мiцних удари i 5 дрiбних; «С» – 4 мiцних удари i 2 дрiбненьких. Добре було б записати цей подiл лiтер на групи, бо трудно цей розподiл увесь час тримати в умi, але у мене одiбрали олiвець. Через це нашi переговори з сусiдом йшли досить поволi i з помилками. Особливо важко було менi зрозумiти прiзвище сусiда. Це був грузин i мав прiзвище «Джорджикая».
Їсти ми мали що, бо крiм загального для всiх в’язнiв борщу та кашi i хлiба, ми мали право замовляти собi додатковi страви у караульних. Я замовляв собi молоко або котлету. За цю додаткову страву в’язнi платили з тих коштiв, що iх одiбрали у нас в управлiннi пiдчас прибуття. Крiм того товаришi, що залишились на волi, присилали нам «передачi». Я, наприклад, в перший же день одержав вiд товаришiв (принесла, казав караульний, якась дiвчина) пакетик чаю, цукор, паляницю i апельсини. Мене так схвилював цей подарунок вiд незнаних людей, що я трохи заплакав, а апельсини здались менi такими смачними, що, здаеться, нiколи, нi до того, нi пiсля того таких не коштував.
В камерi на стiнi висiла маленька гасова лямпка. Горiла вона на протязi цiлоi ночi, i гасити ii в’язнi не мали права. Звичайно вона трохи чадiла. У мене ще й досi, як зачую чад вiд гасовоi лямпки, зараз же пригадуеться моя камера в одеському тюремному замку.
До камери зайшов якось старший доглядач – старий жандарм. Вiн спитав мене, чи хтiлось би менi щось почитати. Я вiдповiв, що дуже хтiлось би. «Так я вам принесу з тюремноi бiблiотеки». Вiн принiс доволi грубий том – якесь число «Журнала Министерства Народного Просвещения». Журнал був офiцiйним органом МНП i мав у своему змiстi багато наказiв, постанов i повiдомлень того мiнiстерства, але були надрукованi там i двi статтi етнографiчного змiсту, досить цiкавi, якi я з iнтересом прочитав. Не пам’ятаю, за який народ там була мова, але про якийсь з численних народiв колишньоi Росii (офiцiйно званих тодi «iнородцями»). Пiзнiше я чув, що у цього старого жандарма був син – студент.
Неприемна рiч в камерi була «параша». Їi виносили раз на день. Закривалась вона покришкою, але дух вiд неi почувався завжди. Я пам’ятаю, як першого ранку пiсля першоi ночi, проведеноi у в’язницi, мене в 6 годин розбудив караульний i звелiв винести «парашу». Живучи в мiстi, я звик завжди користуватись ватер-клозетом i нiколи не задумувався над тим, що хтось мусить iнодi i виносити смiття i мусор. І я, наче отой «барчук», запитав караульного, хiба я повинен виносити парашу. На це караульний вiдповiв менi просто i цiлком справедливо: «ваши испражнения, вы и выносить их обязаны». Цi слова караульного я прийняв, як урок соцiяльноi моралi. Менi стало дуже соромно, що я виступив таким «барчуком», я раптом схопивсь з лiжка i, пiд провiдництвом караульного, понiс ту парашу до вбиральнi, де опорожнив духовиту посудину i гарненько вимив ii пiд струменем чистоi води. З того часу отi «походи» з парашею стали для мене чимось на взiр розривки: iнодi побачиш що цiкавого, наткнешся на товариша, що теж несе таку парашу, а то й слово цiкаве почуеш i дiзнаешся, кого «свiжого» ще привезли.
Я не пам’ятаю, щоб мене допитували у в’язницi. Лише якось сам граф Шувалов прибув до в’язницi, щоб вiдвiдати в’язнiв. В’язнiв, в тому числi й мене, приводили в управлiння в’язницi, де пребував «сiятельний». Вiн не сидiв, а стояв коло столу. Мене пiдвели до нього. Вiн постарався набрати добродушного вигляду, взяв мене за гудзик тужурки, наче добрий приятель, i почав: «Как это вы, сын уважаемого в городе нотариуса, приняли участие в студенческих волнениях?» «Его сиятельство» почав мене поучати (не пам’ятаю, як саме) i нарештi запитав, чому я взяв участь у забастовцi i обструкцii? Хто мене пiдмовив? Я вiдповiв, як i на допитi в унiверситетi: «Я выполнял постановление общего собрания моих товарищей». Рука «сиятельного» залишила мiй гудзик, обличчя графське стало похмурим, вiн дав якийсь знак, i караульний вiдпровадив мене знову в мою камеру.
Студентiв здебiльшого не тримали у в’язницi довго. Через 7 чи 8 днiв менi сказали, що я звiльнений з унiверситету i мушу виiхати з Одеси. В супроводi жандармiв мене вiдвезли на вокзал, провели в якусь кiмнату, де сталося мое побачення з батьками. Вiд батька дiзнався я, що мене висилають з Одеси, але мiсце висилки можу обрати я сам. Батько сказав, що вiн уже списався з нашими родичами в Куп’янську, i я поiду до Куп’янська. Бiлет був уже взятий, чемодан з речами привезений. І от я попрощався з батьками, взяв бiлет в кишеню, а чемодан в руку i вийшов на перон. Проводжати мене не дозволили нiкому, але я вже був «вiльний» i без участi жандарма сiв у вагон. Я бачив, що на вокзал привезли ще й других студентiв.
Разом зi мною у тому ж самому вагонi iхало ще два студенти, менi незнайомi, з iнших факультетiв. Присутнiсть товаришiв трохи розiгнала мiй сум. Один з них – украiнець – чудесно читав нам напам’ять байку Леонiда Глiбова «Вовк та ягня». Байка пiдiйшла до нашоi ситуацii.
Поки стояв потяг, до нас несподiвано зайшов незнайомий менi студент-медик Данський. Вiн не був репресований i опинився на вокзалi по своiй якiйсь справi. Побачивши в потязi трьох студентiв, вiн, дiзнавшись, що це «изгнанные правды ради», увiйшов у наш вагон, потиснув нам руки i сказав, що це велика честь для нього бути з нами при нашому вiд’iздi. Вiн сказав, що з великою пошаною ставиться до нас. Запевнив, що наша справа не загине. Прохав нас не падати духом, бути веселими, бадьорими. Перед нами, казав вiн, ще цiле життя. Не будьте похмурими, будьте жадними до життя. Пiд кiнець, щоб звеселити нас, проспiвав двi шансонетки. Пролунав 3-й дзвiнок. Данський розцiлувався з нами i скочив з потягу. <…>
Коли мене було заарештовано, батько мiй звернувся iз запитом в ректорат Новоросiйського унiверситету, за якi вчинки виключено iз унiверситету його сина? Ректорат вiдповiв. На цю вiдповiдь батько написав своi заперечення i знову подав у ректорат. На цей раз вiдповiдi «не последовало». Було б дуже цiкаво прочитати це листування з ректоратом. Я дiзнався за нього лише далеко пiзнiше вiд родини, не читав його, не пам’ятаю, що там оповiдали рiднi. Збереглося в пам’ятi лише одне мiсце. Вiдповiдаючи батьковi, ректор, характеризуючи моi вчинки, починае так: «Еще в начале учебного года Ваш сын обнаруживал некоторую возбужденность». Батько в своему другому листi до ректорату вiдповiдае: «Вы пишете, что сын мой обнаруживал возбужденность. Но скажите, что же преступного в возбужденности? Кроме того, Вы сами пишете „некоторую возбужденность“; „некоторую“, т. е. незначительную, малую, следовательно такую, что не стоит говорить о ней»…
Батько не хтiв погодитись з думкою, що я буду позбавлений вищоi освiти. Вiн почав енергiйно клопотатись за мене. Клопоти закiнчились успiшно. В кiнцi лiта менi дозволили повернутись до Одеси (для лiкування на лиманi!), а восени мене прийняли знову до унiверситету все на той же перший курс.
Я вирiшив цей рiк не брати участi нi в яких органiзацiях, не бував на сходках, а коли в кiнцi лютого-березня почались, як звичайно, «студенческие волнения», я сидiв дома i не брав участi нi в демонстрацiях, нi, тим бiльше, в обструкцii. І тим часом мене чекало повторення тогорiчних пригод. Мене знову закликано в кабiнет ректора. Мене звинувачували в тому, що з палицею в руках я, на чолi юрби забастовщикiв, ходив по авдиторiях, силою викидаючи звiдти «достойних студентiв». Це була цiлковита неправда, я сидiв в тi часи дома. Так я i заявив на допитi у ректора. Менi не повiрили i поставили в особливо тяжку провину, що я хтiв «утаить истину». Я був виключений по ст. 3, себто без права вступу в який будь унiверситет Росiйськоi держави.
Я не знаю, як могло статись таке. Пiзнiше товаришi студенти догадувались, як це сталося. Студент Г., дуже схожий зi мною фiгурою i тим, що носив, як i я, велику бороду i ходив, як i я, з палицею, справдi був в числi обструкцiонiстiв. Певно його прийняли за мене. Можливо.
В кожному разi вночi того дня, коли я був на допитi, пролунав у нас в помешканнi дзвiнок, знову обшук, знову: «Оденьтесь! Возьмите постель!», знову далекий шлях до «тюремного замку», знову заслання. На цей раз до мiста Лiтина на Подiллi. Весь цей час – з осенi 1901 р. до березня 1902 р. пройшов для мене в якомусь туманi. Уважно i докладно переглянути i описати цей перiод у мене не вистачае нi пам’ятi, нi охоти.
Ленiнабад, 28.10.68
Борис Житков
(1882–1938)
Писатель, путешественник и исследователь, друг и однокашник Корнея Чуковского. Родился в Новгороде, детство и юность провел в Одессе. Закончил Новороссийский университет, потом – Петербургский политех. Был штурманом, служил в морской авиации, работал инженером. Скончался в 1938 г. в Москве. Наибольшую известность получили его книги для детей. Самое значительное произведение – роман «Виктор Вавич», описывающий революцию и погромы 1905 г. в Одессе, был осужден советской критикой и при жизни писателя полностью так и не увидел свет. В полном объеме роман был издан в 1998 г.
Виктор Вавич
(главы)
52
Санька Тиктин стоял на посту. На главной улице, против городского сада. Ходил мерно по асфальтовой черной мостовой. Пустые тротуары замерли по бокам, и укатывал в темноту черный асфальт. Санька вслушивался – тишина, покойницкая тишина будто выдула все звуки из темных улиц, и замерли глухие фонари. Санька ходил против высокой «Московской» гостиницы – два окна еще светились в пятом этаже. Санька глянул вверх – уж один только огонь остался.
«Ну и тухни, что, я боюсь, что ли? Пройду вот в переулок, и ничего».
Санька нахмурил брови и крепким шагом пошел в узкий, как щель, проулок. Прошел до угла. Каменно, не по-жилому, стояли дома, и злой губой выставился балкон на углу. Санька свернул по тротуару. Потухло последнее окно в гостинице, и весь темный фасад черными окнами глядел вверх, туда, за городской сад. Мелкий дождик неслышно засеял, шепотком, крадучись, мочил асфальт.
Санька глянул на большие часы, что торчали на кронштейне над часовым магазином, – половина четвертого. Санька стал читать стеклянные блестящие вывески, и тупо смотрели слова, без зазыва, как в азбуке: серебро, камни… Санька огляделся и плюнул в стеклянную вывеску.
«Тьфу! И на всякие фигели-мигели! „в шапке не входят“ – да-с. И вот, в шапке выходят и в этой же шапке на посту стоят».
И Санька вышел и стал посреди мостовой… Едут! Санька услыхал далекий стук по мостовой. Вот ясно, громко – подводы, в проулке. Санька двинулся навстречу. Ломовые остановились на углу в проулке. Кто-то соскочил и дернул звонок у ворот. Санька подошел.
– Э, не беспокойтесь, господин студент, – еврейский голос, – я управляющий. Могу показать, хотите, документ – с ювелирного магазина. Да вот дворник, так пусть он скажет.
Дворник уж ворочал ключом.
– Это управляющий Брещанского? – Санька сделал твердый голос.
Дворник не отвечал, он пропускал управляющего, пропускал возчиков.
– Да я спрашиваю, – крикнул Санька, – управляющий прошел?
– Знаю, кого пускаю, – буркнул дворник и хлопнул калиткой.
Санька неистово задергал звонок.
– Сейчас сказать, кого пустил, – кричал Санька. – Сейчас же дам знать в комитет! А черт тебя! – и Санька с яростью дергал звонок.
– Тс! Тс! Не шумите! – и снова управляющий выбежал на улицу. Санька бросил звонок. – Андрей, Андрей! – звал управляющий. Дворник нехотя шагал. – Вот скажите им, кто я. Скажите! Что? Вам трудно?
– Да говорено – управляющий. А он кто здесь, нехай скажет.
– Тс! Тс! – управляющий присел, прижал ладони к уху. Он быстро взял Саньку под руку. – Слушайте, все может быть. Мне сказали, что все может быть. Одним словом, надо перевезти немного товару на склад. И не надо шуму, не надо из этого делать тарарам.
– Почему тайком? – Санька стал, они были на углу.
– Ой! – вздохнул управляющий. Он снял котелок, обтер лоб. – Ну, вы не знаете, так я удивляюсь. А я не могу говорить. Идемте, я покажу документ, и ей-богу же я не имею времени, там товар. Вы же понимаете, какой наш товар? Раз – в карман! – и я знаю? Тысяча рублей! – и он тянул Саньку назад к воротам.
Возчики уж носили забитые ящики, тихо ставили на подводы. Еще какие-то люди в шляпах суетились около подвод. Подводы отъезжали не гремя, шагом, в воротах с фонарем стоял дворник. Санька глядел с угла на работу.
«Черт его знает, а вдруг кража? Спросить, спросить документы? Непременно».
Санька сунулся в ворота.
– Куда? – и дворник взял Саньку за рукав. Санька вырвал руку.
– Да ты!..
– Тс! Ша, ради Бога, – и управляющий бегом подбежал к Саньке. – Что? Что скажете? Документ? – и он бросился рукой в карман. – Вот, вот! – и он тыкал под фонарь паспортную книжку – Гольденберг.
– Да на черта вы стараетесь, квартальный какой, самого в участок…
– Тс! – Гольденберг замахал руками.
– Пятьдесят два! – мазнул дворник фонарем у Санькиного лба. – Скольки вас на фунт? – ворчал дворник.
– Только не надо шуму! – шептал управляющий, и он побежал в глубь двора к освещенной двери.
Было уже почти светло, когда тронулась последняя подвода. Санька прислонился к стене, глядел, как дворник приподнял шапку, поклонившись управляющему. Потом обернулся к Саньке, глядел сощурясь и накосо погрозил толстым ключом, как палкой. И вдруг Гольденберг соскочил с подводы, побежал, придерживал на бегу котелок. Он схватил за руку Саньку:
– Покойной ночи! Я говорю – идите спать! Идите спать, дорогой студент. Ради Бога, идите скорей спать. Ой, честное слово вам говорю. – И он повернулся и быстро засеменил, догонял подводу.
Совсем рассвело, проснулись вывески, заговорили слова. Из большой двери, из «Московской», вышел швейцар. Глянул, сморщась, на небо и перевел глаза на Саньку.
– За городового! – крикнул швейцар через улицу и улыбался, пока Санька кивал головой, что да, да, за городового. Швейцар в пиджаке поверх ночной рубахи, с галунами на фуражке, вот идет к Саньке, стал на краю тротуара, Санька зашагал навстречу.
– А что, ночью тихо было? – швейцар ежился на холоде, совал руки все глубже в карманы. – Тихо, значит. Надрались- то за день. Иди греться, – и швейцар кивнул на дверь. – Аль проверки ждешь? Ну, посля заходи. – И швейцар бежком поспешил к дверям.
Санька бодро зашагал по мокрому асфальту, шлепал в лужи полной ногой. Вот просеменил по панели какой-то в пенсне, спешит куда-то, шеей на ходу вертит. Мальчишка вон какой-то почти бежит. Санька смотрел вслед. Мальчишка оглянулся – еврейчик – кричит что-то Саньке, завернул голову назад. Не понять. Санька улыбался ободрительно, кивал головой. Помахал рукой – вали, вали, мальчик! Мальчишка побежал, заработал локтями. Подвода с грохотом пересекла улицу, ломовой нахлестывал лошадь – та задробила мохнатыми ногами. Было восемь часов, Санька ждал смены. Вон бегут какие-то. По тротуару. Душ пять. Сюда, сюда бегут. Санька остановился, смотрел им навстречу. Они махали руками и запыхавшимися голосами кричат что-то. Сворачивают за угол, кричат что-то Саньке и машут, машут. И вдруг из дали улицы флаги, толпа
ровным строем перегородила улицу, идут, идут, все простонародье будто. Широко, спешно идут, вот уж голоса слыхать, вскрики. Санька стоял посреди улицы, не отрывая глаз, глядел на толпу. Вон впереди в бороде машет на ходу палкой, все, все с дубинами.
– Что это? Что это? – кто-то бросился вбок, бежит наискосок, а впереди маленький, как мышь, бежит – мальчик, мальчик!
Ахнула вскриком толпа – догонит, догонит! Санька бросился вперед, глядел на мальчика, видел, как оскалилось лицо, и вмиг мелькнула дубина, и мальчик с красным потоком из головы пролетел мимо Саньки, и красная полоса за ним на черном асфальте.
– Бей! Бей студа! – и сразу вырвалось много, и Санька глянул в глаза – все, все могут, и живая предударная радость.
Санька стал на бегу, и вот один уж набежал, стал в одном шагу и замахнул за спину железную полосу, глазами втянул в себя Саньку – миг – тянет назад – далеко замахнул – тяжелая, от ставней. И еще бегут. И вдруг сама нога Санькина брыкнула, ударила в живот того, что с полосой. Санька не чуял силы удара, его повернуло и понесло прочь, будто не ноги, а сам несся, ветром, духом, свистело в ушах, и страх визжал сзади.
– Бей! Бей жидов!
Санька видел только впереди швейцара у дверей, будто манит рукой – у «Московской», он влетел, внесло его в двери, он не заметил, как внесло на третий этаж. Он слышал, как страх грохотал у дверей, кто-то бежал по лестнице, и хлопали испуганные двери в коридорах. Какой-то военный бежит по коридору, застегивается.
– Туда! Туда! – машет Саньке в конец коридора, и Санька побежал по коридору, и вон дверь открыта, женщина, дама в дверях, отступила, пропускает.
– Сюда! – как издалека слышит Санька. Он сел на диванчик, глядел на даму и на все вокруг, и тер руки, и как будто сто лет уж эта дама смотрит на него, сдавила брови, рассматривает. Говорит что-то. Непонятно. Не слышно.
– Шинель, шинель скиньте! Шапку сюда! – Она сама сняла шапку, и Санька сдирал с себя шинель, как в первый раз в жизни, отдирал рукава от рук, как приросшую шкуру.
– Хорошо, что штатское на вас.
Санька вертел головой, оглядывал все, и глаза не могли остановиться.
Дама вешала пальто в шкаф.
– Мой муж сапер, подполковник, никто не посмеет! Сядьте! Сядьте же! – и она пригибала за плечо Саньку к стулу.
И вдруг с улицы крик ударил в окно. Дама проворно вертела ручку, распахнула балкон, и свист и вой полохнул в комнату.
– Прошли! Прошли! – крикнула дама Саньке и помахала рукой.
– Фу! Не могу! – вдруг крикнул Санька. Он, как был, без шапки, бросился вон из номера.
Он сбегал вниз по лестнице, – перегнувшись через перила, саперный подполковник громко говорил, отдувался:
– …и никого не выпускай тоже!.. Вовсе… дверей не отпирай! Понял?
И он поднял голову, увидал Саньку, пошевелил бровями.
– Дай-ка лучше ключ сюда!.. Мне дай ключ! Давай!