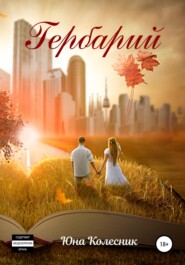скачать книгу бесплатно
Огромные окна, от самого пола и почти до потолка. Ноябрь, а солнце слепит. За окнами – голые чёрные липы, за ними – проспект, с самого раннего утра наливающийся шумом. Потоковая аудитория. Проектор на каких-то хлипких струнках-проводах, огромная, во всю стену, доска и такая же длинная, только белая, крашеная, кафедра. Олеся морщит нос: «Убожество!», а Милке нравится, ей всё здесь говорит о том, что эти стены надёжны, незыблемы, как те знания, которые день за днём упорно вбиваются в их бестолковые головы.
Милка открывает тетрадь, кругленькими буковками пишет дату на полях.
Они сидят рядом на первом ряду. Почти не разговаривают, не гуляют вместе, однако весь поток уверен – дружат. Олеся – нарочито звонкая, ярко-рыжая, неглупая. В том райцентре, откуда она вырвалась огненной лавиной, несколько иные представления о красоте, о моде, о манере общения, чем в городе, чем среди ухоженных и циничных городских девочек. У Олеси каждый день будто праздник, карнавал – то анимешно-короткие юбки, то вязаные платья немыслимых расцветок. Она словно провоцирует: ну-ка, попробуй, задень!
И рядом с ней Милка: джинсы, рубашка или джемпер, вечный хвост на затылке, из гаджетов – беспроводные наушники, дешёвый смартфон с кучей фоток, «читалка» – для электронных учебников и нескольких любимых книг.
Олеся всегда приходит первая, ей из общаги пять минут идти, занимает место на двоих. В принципе, могла бы и не занимать, желающих сидеть под носом у преподов немного.
– Привет оранжерее! – громко, весело отражается от стен чуть картавый голос.
Артём улыбается всем. И каждой. Смуглая, но не от загара кожа, зелёные глаза. Он намеренно задерживается у двери, зная, что несколько десятков глаз смотрят только на него.
Милка тоже невольно любуется – как в Третьяковке в прошлом году перед картинами Васнецова. Как в ботаническом саду, когда цвели азалии. Как сегодня утром, когда смотрела на осоку, серебряную от инея… и чуть не прозевала маршрутку.
– Смазливый, паразит! – это опять Олеся. – Оранжерея, ага… Террариум у нас. Гекконы, агамы. Я даже одну эублефариху знаю. Вон сидит, когти выпустила, ресницами наращенными хлопает. Лина… – она ловит Милкин почти пустой взгляд, проглатывает рифму. – О-о-о, а ты глянь-ка, Мил! Какие люди нас посетили!
– Какие? – Милка возвращается из небытия.
– Чиж, говорю, решил показаться.
Милка снова поднимает голову, щурясь от солнца.
Высокий парень здоровается с Артёмом в дверях. Светлые волосы, тёмно-серая толстовка, плавные движения. Милка хочет спросить, почему Чиж, но не успевает – разве Олеську опередишь? Она тараторит, как сорока, ни капли не смущаясь, и кажется даже, что намеренно повышает голос, когда парни проходят в полуметре от неё, поднимаясь выше, «на камчатку»:
– Они раньше хату вместе снимали. Ну, в том году, на первом курсе. Это ж потом Тёмка в общагу перебрался. А Никитос, ну Чиж-то, академ на второй семестр брал, но с сентября так ни разу и не был. А теперь они в одной комнате живут. Он в нашей группе теперь числится, тебе чего, не сказали? Так что вместе с Ромкой будет у нас полтора мальчика. Он…
– Ага. Всё, Олесь, давай потом. Филатов идёт, – Милку не впечатляет информация, да и за Ромку обидно. Она спокойно отмечает себе, что в деканате надо спросить о новеньком.
Олеся фыркает, расстёгивает сумку, выкладывает ручку и большой блокнот. Хитро косится на Милку: опять станет втирать, что нужно ответственнее относиться к учёбе, но та молчит, не сводя глаз с препода.
– Доброго утра, – профессор, коренастый улыбчивый мужичок, плотно закрыв за собой двери, приветственно поднимает руку. – Погодка-то, а? Радует! Как настрой, рабочий? Соколова, список пусти по рядам. Что ж, продолжим разговор. Итак. О чём нам может рассказать морфологическая структура фитоценозов?
Милка вытаскивает из тетради заранее приготовленный для списка листок, вздыхает. Так счастливо, словно эта самая структура – высшее знание, способное подарить ей покой. Уверенность. Пожалуй, наслаждение…
Всего три пары сегодня, даже удивительно. После звонка ей хочется откинуться на спинку длинной скамьи, потянуться кошкой, снять ботинки, да и заснуть прямо здесь, чтобы никуда не ехать. Но Олеся тормошит:
– Ты мне обещала! Пошли, погоняешь меня по вопросам. Яичницу настоящую ты вообще пробовала?.. Я из своей Пердуляндии яйца деревенские привезла. Пошли!
И Милка послушно идёт за подругой. Олеся живёт в маленькой комнатке на двоих, рядом с туалетом, почти напротив кухни, вместе с Барашей – Соней Барашкиной, молчаливой первокурсницей, которая Милке вполне симпатична. Они идут в общежитие, чтобы готовиться к коллоквиуму, жарить ярко-жёлтые деревенские солнышки на чугунной сковороде, угощать Барашу. Милка шагает, пряча усмешку, прекрасно помня, что «Пердуляндия» – это Перевоз, городок в области. Она знает: Олеся не любит упоминать, что выросла она даже не там, а в Осинках, маленькой деревушке. Но Милка ещё знать не знает, что сегодняшний день разобьёт её мирок, как Олеськин нож белоснежную скорлупу.
II
Этим же вечером она будет сидеть на краешке стула в сумраке узкого кабинета и трепетать изнутри – от ощущения нереальности происходящего, от ползающего по коже ужаса, от непривычных, скачущих как блохи мыслей:
«Что ты тут делаешь, Милка? Зачем ввязалась? И лампа на столе, как в кино… в каком кино? Не помню. Это же не кино, это же словно из “Детей Арбата” сцена, точно. И в комнате темнота… Да не комната это, дурочка, – кабинет. Какая разница? Почему он свет не включил, а только лампу?.. Как зовут его? Не запомнила…»
Всё не так страшно. Милка в кабинете местного отдела полиции, перед ней – сотрудник в форме, с устало выгнутой спиной, с ловкими пальцами.
Зовут его Илья Петрович. Он перебирает исписанные от руки листы, хмурит брови, изображая суровость, а сам видит, что девчонке здесь не место, что надо бы отправить её домой, поздно уже. Да и его ждут – жена-красавица и, возможно, даже ужин. «Кишки сводит от этого кофе. И изжога задолбала. Гадость какая-то, а не кофе, хоть и негоже так о подарке», – думает Илья Петрович, но с любопытством косится на сидящую перед ним Милку.
Он относительно молод, ему лет тридцать с небольшим, в отделе давно – лет пять, опыта подобных бесед предостаточно, однако сейчас слишком велик соблазн понаблюдать. За эмоциями, страхом, попытками строить из себя сильную. «Смешная, – думает он. – Девчонка совсем. Трясётся как осиновый лист. Кто она там у них? Староста? Ну да, похожа. Правильная. Руки на коленках. Как будто ладонями дрожь удержишь. Что же у них там произошло? Ну сцепились парни, с кем не бывает. Ерунда ведь по сути. Но что-то недоговаривают, ясное дело. Хорошо, что заявление этот мажорчик завтра заберёт. Даже не он, дедок его подъедет. И эти показания вовсе необязательны. Формальность. И дань уважения Лазареву. Чёртов полкан. Что ж, мышь серая, давай, помучаю тебя чуток».
Он демонстративно кашляет.
Милка вздрагивает.
– С протоколом сами ознакомитесь или мне зачитать?
– Зачитайте, – она отвечает почти шёпотом.
– Хорошо. Остановите меня, если что-то смутит. Приступим. Итак. Я, Соколова Людмила Андреевна, 1998 года рождения, могу сообщить следующее: сегодня находилась в общежитии университета по адресу…
«Какой у него голос неприятный… – думает Милка. – Кто он, следователь? Он же говорил сначала, почему ты не запомнила? Потому что потом он сказал: “Ответственность за дачу ложных показаний”. Коленки трясутся. Интересно, он видит или нет? Спину ровно держи! Когда ты, Людмила Андревна, врала в последний раз? В восьмом классе. Людмила… дурацкое имя! Не люблю, не люблю! Я Мила. Ты наивная дурочка, а не Мила. Идиотка ты».
– …куда пришла после занятий вместе с Новиковой Олесей Степановной, также 1998 года рождения, проживающей по вышеуказанному адресу.
«И что же теперь будет? Суд? Или это не сразу? Может, сериал какой криминальный посмотреть? Не смотришь ты сериалы. Тебе учиться надо. Вот, точно – нужно прочесть Кодекс. Какой? Какой-какой – уголовный. Надо в библиотеке взять. Или он в интернете есть? Всё. Теперь и руки затряслись. Нет, в суд нельзя. Артём же сказал: “Никиту отчислят, если это будет уголовное дело”. Да какая тебе разница? Их десятками отчисляют. С бюджета-то. А ты – староста, а у тебя – репутация».
– Примерно в восемнадцать десять мы вдвоём с Новиковой О. С. находились на кухне в левом крыле второго этажа. Потерпевший Лазарев М. А., будучи в нетрезвом состоянии, подошёл к нам и стал требовать от Новиковой О. С. немедленно пройти с ним. При этом он нецензурно выражался и угрожал применить силу.
«Как красиво это на их языке звучит», – коробит Милку. Дознаватель монотонно читает сейчас о Максе, это он и есть – Лазарев М. А. Милка видела его всего раз пять, считала не то чтобы странной или загадочной личностью, как некоторые, нет, он просто на клеточном уровне был ей неприятен.
Милке гадко, физически противно, до кислого привкуса во рту, вспоминать подробности, лучше бы забыть, зачеркнуть, но ей приходится заставлять себя:
«Да, он пьян был, сильно… За руки Олеську хватал, кричал, что она должна на коленях перед ним ползать. “Ты кого из себя возомнила? Да все девки здесь шлюхи! Шлюхи продажные!” Матерился, как же страшно он матерился… А Олеська только молча выдиралась. И все тоже молчали… народу ведь много было – человек восемь, и парней вроде двое, они то ли готовили, то ли разогревали… Вот почему ничего не сделали-то? Да, да, да… Ты ж не знаешь ничего. И про Макса с Олеськой дела-отношения тоже не знаешь».
– …На шум из комнаты номер двести четырнадцать вышли мои однокурсники: Колесов А. В. и Чижов Н. П. Они вежливо сделали Лазареву М. А. замечание о недопустимости подобного поведения в общественном месте. Потерпевший, замахнувшись, попытался спровоцировать драку, но ударить никого не успел.
«Но Чиж и правда не бил его! Они с Артёмом в кухню влетели, Чиж Макса за шиворот уцепил, как котёнка, и потащил от Олеськи: “Ты, мразь, грабли убери свои!” Тот развернулся, наверное, ударить хотел, а Чиж просто как-то руку подставил и отшвырнул его, легко, как тряпку… Тот и полетел. А за ним сзади – окно. И рама открытая, старая, деревянная. А открыта, потому что у Машки рис подгорел…»
Милка морщит нос, словно бы снова чувствуя этот запах чёрной эмалированной кастрюльки, так и оставшейся в раковине.
– …Потерпевший не смог устоять на ногах и упал, разбив правой рукой оконное стекло, тем самым нанеся себе резаную рану. Ушибленная рана на голове является следствием удара о подоконник.
«Рана, да… Как он его кинул… Разве так бывает? Кто-то сказал тогда, на кухне, что это айкидо. Как у Стивена Сигала. А я не знаю, кто это. Сколько вопросов… Как многого ты не знаешь… Почему ты так много не знаешь? Зачем ты вообще учишься?» Милке хочется плакать.
– Всё так, Людмила Андреевна? Всё верно?
– Всё верно…
Милка думает: «Да, верно. Почти верно».
Илья Петрович смотрит на неё, а она смотрит в пол, на облезлые, щербатые паркетины, пытаясь скрыть от него слёзы. Но он видит, как блестят ресницы. «Почему плачет? Кого ей жалко? Скорее, просто страшно. Боится. Домашняя девчонка-то».
Она не замечает взгляда дознавателя, она снова переживает тот кусочек фильма, в котором ей довелось сниматься сегодня. Звон стекла, кровь… много крови, визг девчонок. И Макс сползает на пол, и его распоротая куртка, и голова в крови… Олеська в углу – в истерике. И сама Милка около неё, вцепившаяся в стену. Слишком быстро всё произошло. И страшно. Она опять видит, как Чиж смотрит на Лазарева, как… на клопа, что ли, с каким-то диким отвращением. Как берёт он электрическую зажигалку от плиты, длинную такую, на проводе, и щёлкает, и смотрит на пламя, и прикуривает от неё. Не спеша, молча. И стоит около этого окна, как у дыры в небо. Там, за окном, видны деревья на берегу, откос. И река, и город, как на ладони.
И тут включаются звуки, словно кнопкой с пульта. Артём, уже присевший рядом с Максом, говорит чётко и по-деловому, затягивая тому руку несвежим серым полотенцем:
– Так. Довыделывались оба, красавы! И чего, ментов теперь ждать? Но если заведут дело, Чижа отчислят. Как пить дать отчислят. На нём один дебош висит уже. И комендантша вот-вот прискачет, явно какая-нибудь сволота ей уже позвонила, – он обводит всех взглядом, неожиданно подмигивает. – Стоим, ждём, так? А при ней хором говорим, что этот долбанутый сам упал на подоконник. Все, слышите? Маша, Дэн?
И дальше – гвалт голосов, говорят все, почти разом:
– Тёма, мы с Машкой уж лучше в комнате запрёмся.
– Не-не-не, Тём, я скажу, что в наушниках была и вообще не в курсах.
– Уберите кровищу эту, уберите же кто-нибудь!.. – это стонет Олеся.
– Тёмыч, за мной один привод уже есть. Я с ментами общаться не буду, только хуже будет. Уж уволь.
И ползут, как тараканы, к дверям, к дверям.
И Милка видит растерянность в зелёных глазах Артёма. Он поднимается:
– Народ, хорошо, да вы что?
И тут – смех. Его, Чижа, смех. Тихонько, будто сам с собой, он смеётся, глядя в окно, ломая, кроша в пальцах недокуренную сигарету. Все как-то враз замолкают, слышны только Олеськины всхлипы и сиплое дыхание Макса, который, не вытирая текущую изо рта гадкую струйку слюны, пытаясь подняться на четвереньки, по-звериному рычит: «Да я всех вас посажу! Всех, сволочи!» На этом фоне Милка слышит свой собственный писклявый голосок:
– Артём, я скажу. Только ещё раз объясни, как надо.
Дознаватель не должен увидеть, что она врёт. Но он будто и не обращает на неё никакого внимания, всё читает и читает:
– …Колесов А. В. и Чижов Н. П. оказали ему первую медицинскую помощь, а также вызвали коменданта общежития и бригаду скорой помощи. Так? – наконец снова обращается к ней.
– Так.
– Тогда заканчиваем. С моих слов записано верно, мною прочитано, дополнений не имею. Всё правильно?
– Да. Правильно.
Он прищуривает глаза. Снимает очки, протягивает ей ручку. Солидную, перьевую, никак не подходящую ни к этой лампе, ни к зачуханному паркету.
– Тогда подписывайте, Людмила Андреевна.
Ручка выскальзывает из её влажных пальцев. Но она ловит, перехватывает поудобнее, ставит закорючку. Поднимает на него глаза, в мозгу бьётся одна-единственная мысль: «Всё, Милка. Всё. И что теперь будет?»
А Илье Петровичу уже хочется улыбнуться: «Ой, врёшь ты всё, староста. Из-за девчонки небось сцепились парни. Жаль, не из-за тебя, мышь серая. А тебя – сюда, ко мне, отдуваться. Под лампу эту чёртову. И всю свою жизнь вот так будешь – тащить, отмазывать, спасать».
Он некрасиво скрипит зубами, но вдруг, неожиданно для самого себя, всё-таки улыбается:
– Не волнуйтесь вы так. Идите… Людмила.
Она одевается, шагает по коридору, пересекает вестибюль и выходит в ночь, не чувствуя заледеневших рук. На крыльце никого нет, а она так надеялась, что Артём дождётся её. Неприятный осадок камушком падает где-то возле сердца.
«Темно… Как же темно. Почему нет фонарей? Крыльцо, ступени. Вниз и направо, да… бегом отсюда, бегом – на автобус и домой!» Вот и ворота в бетонном заборе. Милка замечает блеснувшую наверху спираль колючей проволоки, ужасается. Резко поворачивает, помнит, что тут вдоль стены немножко совсем, и будет виден проспект, там – люди, там – машины… Поворот – и она чуть не натыкается на дрожащий в темноте огонёк. Темно. Только очертания фигуры – капюшон, куртка. Горький запах табака. И голос. Хриплый голос:
– Стой.
После короткой душной паузы:
– Ну чего там?
Чиж… Она растеряна. Откуда ей знать – чего? Но надо же что-то отвечать…
– Сказал, не волноваться…
Чиж недоверчиво хмыкает. Молчит секунд десять. Откашливается и говорит:
– Я тоже сказать хотел… Короче. Спасибо тебе… отличница.
Милка медленно, замороженно кивает:
– Ты… Ты про коллоквиум не забудь. Послезавтра.
Он не забудет. А она не придёт, свалится с температурой. Напишет Олесе: «Я на больничном. Горло. Не теряйте». В ответ прилетит пара оптимистичных смайлов.
III
Который день болит горло. Милка сидит на диване, поджав ноги, укутавшись мягким, как британский котёнок, пледом. На полу возле неё дремлет Грэй, положив морду на лапы, изредка шевеля ушами. Пока она болеет, с собакой гуляет дедушка. Мамы, как всегда, почти не бывает дома. Она уходит в одиннадцатом часу утра и приезжает во столько же, но уже затемно. Милка уже давно не бывает у неё на работе, но сожалений по этому поводу не испытывает и в помине. Почти всё детство мама таскала её с собой в интернат и по поводу, и без. Мама была против биофака, но Милкина неспособность к другим наукам была столь очевидна, что пришлось смириться. А уж когда стало ясно, что в университете дочь, возможно, получит в итоге красный диплом, мама пожала плечами и вовсе оставила её в покое. Даже общие дисциплины – математика, история, иностранный – каким-то невероятным образом Милка сдавала на отлично. Её любили преподаватели как некий эталон студентки, как образец для подражания – не прогуливала, не грубила, удобная, послушная, молчаливая, но дотошная в мелочах.
Сейчас горячий Милкин лоб почти касается душистой кроны лимона, того самого, который год назад почти умер на кафедре молекулярной биологии, а она выпросила его, утащила, реанимировала. Она трогает его жёсткие листья, потирает их пальцами, вдыхает терпкий, похожий на жасминовый аромат… И мысли путаются. То ли от температуры, то ли от предчувствия чего-то горького. Даже на губах этот же привкус – миндальной горечи.
В голове мелькает: «От парацетамола, наверное. Надо бы печень поберечь». И ещё раз мелькает – молнией, но отсечённое сразу, немедленно: «Или это его сигареты так пахнут? Неужели ты запомнила?»
Она не может объяснить сама себе, зачем, ради чего она пережила и стыд, страх, и вынуждена была солгать. Ради Артёма, его мнения, похвалы? Чтобы показаться в его глазах лучше, чем другие? Или это всё ради Чижа? Но так не бывает. В тот день она видела его впервые в жизни. Макс в крови, который так странно обмяк после падения, весь этот скандал, Олеськино перекошенное лицо, трусливое бегство парней и девчонок – уже слилось в невнятную бурую мешанину. Она никогда не переносила громких звуков, всю жизнь свою она привычно отключается, если просто идёт или едет внутри толпы, и теперь вся эта история отторгается всем её существом, как наспех пришитый инородный кусок плоти.
Милка погружается туда, где звуки можно придумывать самой. Она снова листает любимого Даррелла, наивно пытаясь утонуть в этих непролазных джунглях, полюбить диких зверей и болота Амазонки… а проще – избавить себя от неясного и непонятного. Но нет, не заходит сегодня милый юморной натуралист, никак. Взгляд останавливается, книга в потрепанном переплёте выскальзывает из рук, теряется на пёстрой обивке дивана.
Она поднимает взгляд на окно. Вздыхает, кашляет, опять вздыхает, пристально ловя в картинке за стеклом то новое, что появилось лишь сегодня с утра, улыбается. Там, за мелкой сеточкой тюля, тоже живёт книжка. Её она давно знает наизусть и может по памяти пересказать содержание. В первой главе этой книжки царят тополя – первопроходцы, уставшие от собственной ненужности, они пылают жёлтым всего недели две и быстро осыпаются блёклым, шершавым ковром. Во второй – загораются клёны. Яркими бумажными фонариками, которые, танцуя, срываются с ветвей и падают на ещё зелёные газоны и клумбы. Потом идёт глава третья: «Липы». О золоте и богатстве. И о том, как после буйного пира остаются угольно-чёрные остовы, мрачные, траурные. А берёзы – это эпилог. Не щадит их стылый ноябрь, засыпая снегом, ломая, коверкая. А они будто назло ему шелестят замёрзшими листьями, обледеневшими тонкими веточками… Не сдаваясь.
Она встаёт с дивана, придерживая на себе плед, и отодвигает в сторону тюль, и смотрит на этот сквер, на кирпичи брусчатки, на кованые низкие заборчики, что совсем скоро скроются под снегом. Думает уже не об осени, а о себе, о жизни своей:
«А ты кто, Милка? Что ждёт тебя? Ты же одна, всегда одна. Слушаешь шорох страниц и листьев. Зачем? Чтобы, как вот та берёзка, в итоге застыть до весны? Ни толку, ни проку, не в лад, невпопад… совершенно. Вся жизнь такая – как старое кино. Будет ли она – весна?»
Она тихонько смеётся – сама над собой: «Какая чушь в голову лезет…» Однако напитавшись силой от простого созерцания, она уже в состоянии мыслить, в голове светлеет. Она думает о том, что нужно напомнить дедушке про его таблетки, запустить стиралку и протереть пыль, чтобы лишний раз не раздражать маму… Думает и о том, что в понедельник нужно снова ехать в универ, если в пятницу её выпишут. Досадно, что пропустила коллоквиум, всё-таки – маленький экзамен, и она прикидывает, как можно будет быстро договориться и сдать. Но досада эта не только из-за учёбы. В группе наверняка надо будет что-то объяснять про тот случай, улыбаться. А что объяснишь, если сама ничего толком не поняла? Первый раз за эти несколько дней с опаской листает чатик группы на сайте «ВКонтакте», «беседку», но там подозрительно спокойно – ни про неё, ни про остальных участников инцидента ни единого слова. «Вот и гадай теперь. Как же тяжело с людьми… С книгами проще».
Она подходит к стеллажу, поднимается на цыпочки, тянется к верхней полке за «Аэлитой». Загадывает: «Что дальше?» Зажмурившись, не замечая соскользнувшего на пол пледа, открывает наугад. Тычет пальцем в строчки и, распахнув глаза, читает: «Я видела тебя во сне. Ты нёс меня на руках по стеклянным лестницам, уносил всё выше. Я слышала стук твоего сердца…»
Задохнувшись, Милка долго не может откашляться, насторожив проснувшегося Грэя. Обессилев, она садится на пол и неожиданно для себя самой плачет, крепко обхватив собаку за шею.
IV
Дело в полиции так и не завели, Никиту не отчислили. Макс Лазарев, местный мажор, закончил магистратуру года два назад, но периодически появлялся в универе, грамотно выцеплял девчонку и приклеивался к ней, словно паук к мухе – встречал, караулил после пар, возил в кафешки. Полгода назад такой мухой стала Олеся.
Никто не показывал на Милку пальцем, не смеялся в голос, не задавал вопросов, лишь Олеська непривычно молчала. До девушек «из элитного клана», и не бывавших ни разу в общежитии, вся эта история вообще, видимо, не дошла.
«Значит, и тебе можно просто забыть», – уговаривала себя Милка. Почему-то это оказалось непросто. Когда в зоне видимости появлялись Никита или Артём, Милка прятала глаза, поднимала плечи, стараясь стать незаметной, невидимой: «Только не трогайте меня, не трогайте…»