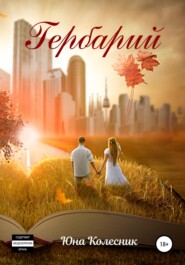скачать книгу бесплатно
Спустя месяц после его отъезда Милка тоже начнёт тосковать. Не нуждаясь ни в книжках, ни куклах, она забросит игры с детской мебелью, с мягкими слоном и котом, и частенько её будут заставать за странным занятием – она будет просто скользить по комнате под музыку, которая слышится из квартиры снизу, где живёт молодая разбитная девица.
И тогда мама решится отвести её на танцы…
IV
…Горячева, известная во всём городе хореограф, повернула к ним обеим, застывшим на пороге, точёную, как у Нефертити голову и прокаркала на весь зал:
– О! Какая клуша! Поздно вам уже, поздно, говорила же! – подошла ближе. – Ну, показывайте, чего она может, клушка ваша?
Милка, ради смотрин одетая в белую футболку, чешки и шортики, покружилась, отличила марш от польки, сделала мостик, легко встала во все пять позиций. Танцевать хотелось.
Горячева крякнула:
– Мышцы негодные, гипотонус. Но выворот хорош и ритм чует. Ладно! Ищите мальчика. Без пары точно не возьму. И вот ещё что, – она резко наклонилась к Милке. – На завтрак-то чего сегодня ела? Макароны, небось?
Милка удивилась. Вытаращилась на горячевский тонкий, круто изогнутый нос. На завтрак была лапша – домашняя, плоская, сначала обжаренная до треска и кофейного цвета на сухой сковородке, а уж потом сваренная в ковшике, и сверху – волнистый кусочек масла, тающий, текучий…
Милка сглотнула, а Горячева коротко и удовлетворенно дёрнула головой:
– Точно, макароны. И с маслом, и с сыром. На тёрочке который. Вы, маман, пожалели бы клушку свою.
Мама, всё это время так и стоявшая у дверей, нахмурилась и в итоге холодно ответила:
– Благодарю, Маргарита Фёдоровна. Я вас услышала.
Готовил каждый день и кормил Милку всё равно дедушка. А дедушка у нас кто? А повар он у нас. Профессионал, потому, считай, волшебник.
В общем, мальчика искать не стали, через полгода Милка органично вписалась в школьный фольклорный ансамбль. Ложки-трещотки, частушки-колядки, голые локотки и палец на пухлой щёчке. Коса, расшитый крупными бусинами и стеклярусом кокошник, сарафан. Колорит!
Саму школу Милка никогда особо не любила, но училась ровно и старательно, оценки зарабатывала бесконечной зубрёжкой, читала мало и очень выборочно, ни планшета, ни приставки у неё отродясь не было и восторгов одноклассников по поводу очередных «Angry Birds» она не понимала. Из предметов уважением прониклась только к биологии, штук десять альбомов изрисовала всякими тычинками и инфузориями, но в кружке ИЗО продержалась недолго, Дмитрий Алексеич честно сказал матери: «Не вижу перспектив».
Из подруг постоянной осталась лишь грубоватая Василина, дочка директора детского центра. Васька не израсталась вверх, как большинство пухлых девочек, а делалась с годами крупнее, мощнее, тарахтела, как трактор, ненавидела свой лицей и очень хотела лабрадора, как у президента. Милке она явно завидовала: и школа у той обычная, и с Грэем можно много гулять. В итоге для Васьки-Василины именно эти прогулки и стали отличной причиной смотаться из дома.
К началу седьмого класса у Милки наконец-то отросла чёлка, на спор с Василиной выстриженная в пятом. Но очки окончательно испортили «сценический образ», и прямо первого сентября музычка, которая руководила их фольклором, объявила, что «Соколова больше не в формате».
Тогда-то, словно компенсация, и свалился с неба он, Мельников. Васька зло шептала в телефонную трубку: «Я всё узнала! Из Шаранги какой-то переехал, дебилоид, а туда же – танцевать!»
Он всегда выходил на сцену в простой белой рубашке. И брюки были вроде обычные, чёрные, со стрелками… Милка думала: «Почему он не боится? Вот так – один?»
В их школе никто раньше так не танцевал. Народные – да, целый ансамбль свой, гордость директора. Восточные – тоже да, многие девочки увлекались, ходили на «танец живота» со старшими сёстрами, с матерями. И европейские танцы – танго, вальсы, ну вот это вот всё: «Когда уйдём со школьного двора…» – тоже были популярны. Но не латина. Латину не танцевал никто.
Что они тормошили, что вытаскивали из Милки эти вьющиеся, на волнах качающие мелодии, эти его движения рук и узких бёдер? Она стеснялась, она жалела, что не ходит больше на репетиции, искала никчёмные поводы заглянуть в зал, замирала на концертах, боясь пропустить хоть секунду, и нарочно вяло хлопала, и невпопад смеялась, опасаясь, что кто-нибудь заметит.
Но протанцевал он всего полгода – с сентября по январь, один, без девочки – а потом перестал. Васька нелогично рубанула: «И правильно! Стрёмно это – задницей крутить. Парни-то ржут, чего он, идиот, позориться?» Милка не видела, не замечала странностей, вопрос о том, зачем подруге «дебилоид» из соседней школы, не волновал её ни капли.
После седьмого класса, летом, дурацким, холодным и ветреным летом, когда она топала с собакой мимо речки, ей свистнули. Милка сразу поняла, что ей. И хотя мама говорила: «Никогда, слышишь, никогда, не оборачивайся на свист! Это унизительно!», она оглянулась, конечно.
Мельников стоял на песчаной отмели, ловко, не глядя, складывая удочку. Кивнул на настороженного Милкиного пса:
– Это твоя, что ли?
– Мой. Грэй.
– Ты куда с ним ходишь?
Она пожала плечами. Что значит – куда? Когда как. Но ответила, что-то почуяв:
– На остров.
– И сейчас пойдёшь? Погодишь минут десять? Шмотки кину и вернусь, всё равно не клюёт ни хрена – ветер.
Милка замотала головой. Сейчас надо было домой. Холодно, Грэй наплавался, опасно с ним мокрым гулять, и так почки лечили в марте.
– Нет. В семь часов пойду.
– Ну и ладушки. Тогда в семь у моста.
И отвернулся, и пошёл, будто их и не было тут совсем – девочки-в-очках и вертлявого спаниеля.
В семь часов она тащила Грэя на коротком поводке, потому что тот снова норовил нырнуть. Небо давило, ветер тревожил, морщил речку, тянул Грэевы уши назад.
Милке пришлось надеть куртку – старую, с уже короткими, вытертыми на манжетах рукавами. Ей было противно: из-за того, что нашипела на дедушку, что выглядит как дура, что упрямый пёс тормозит возле каждой скамейки на бульваре. Ещё из-за того, что поверила.
А он и правда ждал у моста. Вернее, под ним. Выскочил, словно чёрт из табакерки, Грэй тявкнул, Милка вздрогнула, не успев ни обрадоваться, ни испугаться.
Вглубь острова они не пошли, шагали по прибрежной тропинке: впереди собака, потом она, потом Мельников. Молчали, пока не дошли до обрыва, над которым свешивались корявые ветви старого, заброшенного сада. Откуда-то сбоку, отодвинув тучность облаков, словно встречая их, здороваясь, выкатилось солнце.
– Смотри-ка чего тут!
Мельников живо залез на раскоряченное временем и неухоженностью дерево. Милка даже улыбнулась: «Маугли». Она бы тоже залезла, но – клушка, стыдно. Он уселся там, наверху, и стал кидать в воду маленькие, незрелые ещё яблоки. Одни тонули сразу, взбулькивая, другие ненадолго застывали в неподвижности, а затем начинали тихонько плыть, подчиняясь то ли ветру, то ли невидимому для глаз течению. Грэй, перебирая лапами, в восторге следил за процессом, на каждый бульк кивая головой, и всё порывался кинуться с обрыва. Но Милка в ответ на просящий собачий взгляд сдвинула брови и, разозлившись, крикнула вверх:
– Не надо! Не надо, слышишь?
– Чего?
– Не рви! Яблоки же будут.
– Какие ж это яблоки? Китайка. Да и кому они здесь нужны-то? Бомжам на закуску?
Милка отвернулась, отошла на пару шагов, теребя, тормоша где-то по дороге сорванную метёлку осоки. Потом и вовсе спустилась по доскам-ступеням на мостки, метра на три уходящие в реку.
– А эти? Чего, тоже не надо?
Через плечо он сунул ей в лицо липовый цвет – маленький, меньше ладони высотой, растрёпанный букетик. На тонких ножках, от которых вверх топорщились овальные листки жёлто-салатового цвета, россыпью светились звёздочки. На лучиках-тычинках – шарики, словно бисеринки. Они слегка подрагивали в его руке, а она смотрела.
– Выкинуть, что ль?
– Нет.
Милка рассмеялась, и смех её точно также раскатился по реке, как кислые, твёрдые, дикие яблочки.
Она выхватила былинки, и спрятала их в карман, и вжихнула молнией.
Он вдруг сказал:
– Снимай-ка куртку.
– Зачем?
– Там видно будет.
Видно ничего не было, потому что он крепко взял её за обе руки, и перед её глазами оказался его подбородок с белёсым давнишним шрамом под нижней губой. Она попыталась опустить голову, но Мельников не дал:
– Просто слушать меня, голову поднять, на ноги не смотреть! На четыре счёта, с четвёртого. Четыре. Раз-два, три. Медленно. Быстро-быстро, медленно.
Румба… Она узнала! И было её, этой румбы, от силы минут пять, потому что потом Грэй, который замучался ждать и решил, что это игра такая, чуть не свалил их в воду, да и сам свалился.
И они бежали домой, и кричали – то ли собаке, то ли друг другу какую-то ерунду – про репейники, про физрука, и даже не попрощались толком.
На углу дома стояли мама и дедушка. Мама подскочила первой, железной рукой схватила её за капюшон толстовки:
– Где была? Ты на часы смотрела?
Опешившая Милка выпалила ей в лицо:
– Я собаку выгуливала!
– Себя ты выгуливала, паразитка! А куртка? Куртка где?
И Милка сразу же вспомнила, как сняла куртку, как накинула её на торчащий сухой сук возле мостков. Приметный сук, знакомый, там тарзанка раньше была. Она дёрнулась было бежать обратно, но дедушка не пустил.
Утром куртку не нашли. Кто-то, может, даже и Василина, сказал маме, что это Мельников спёр. Мама узнала адрес, ходила сначала к участковому, потом в опустевшую летом школу, потом к ним, Мельниковым, домой – разбираться. Разобралась и вернулась с деньгами.
Милка почти месяц просидит дома без телефона и без права выходить даже с собакой. А в августе Мельников насовсем уедет обратно в свою Шарангу. На память о нём у Милки останется ненависть к музыке и новым курткам, а ещё – сладкий липовый запах утонувшего в тёмной воде детства.
В восьмом классе Милка избавится от очков, научится носить линзы, перестанет общаться с Василиной, сдружится с молоденькой учительницей по биологии Вероникой Алексеевной, станет ездить с ней в клуб «Зелёный парус» и на вылазки местной тусовки «Экограффити». В девятом Милкины доклады (один – о растениях-хищниках, второй – о перспективах российской генетики) займут призовые места на конференциях научного общества учащихся в двух номинациях, а в одиннадцатом она легко прыгнет на второе место во Всероссийской олимпиаде. В университет её зачислят без вступительных испытаний.
V
Время бежит.
Милке уже девятнадцать, она на втором курсе. В то утро она просыпается и думает: «Хорошо, когда осень такая. Когда город чистый, как в апреле, потому что слякоть вымерзает ночами. И воздух тоже чистый, прозрачный, звенящий…» Во дворе, окружённом свинцового цвета хрущёвками, ранним утром она слышит лишь монотонное шарканье метлы и шорох собачьих лап по заиндевелой, но ещё живой, дышащей траве.
Плохо, когда универ далеко и нужно встать ровно в половине шестого. Умыться, влезть в спортивные штаны, толстовку и открыть дверь, чтобы Грэй, ненавидящий лифты, ракетой слетел вниз с седьмого этажа и, поскуливая, ждал в тамбуре.
Уже светает. Туманно, солнце ещё не взошло над домами, но уже светло и почти не стыло, просто прохладно. Пёс тащит её к реке, вырывая из рук поводок, пляшет вокруг, пока она отстёгивает карабин с ошейника. Не боясь, он с разбега ныряет в воду, а Милка садится на толстое бревно почти у воды, упрямо упираясь подбородком в колени, думает, как хорошо, что у Грэя больше не болят почки, так мучавшие его в молодости, но скоро купаться ему точно будет нельзя, что зимой он станет от скуки раскапывать мышиные норы, а это значит – снова, даже зимой, грязные лапы и брюхо.
Через несколько минут пёс, мокрый, довольный, выскакивает на берег. Отряхивается, рассыпая невидимую радугу брызг, смешно мотая длинными ушами.
– Погуляй, чуть-чуть погуляй, собакин! – Милка отгораживается от него, машет рукой.
Холодным носом он тычется ей в ладонь, сминает бурую траву и исчезает – шуршать в голых кустах, вдыхать свободу, цеплять на уши засохшие репьи. Она осторожно расправляет помятые собачьими лапами былинки. Прибрежная осока, а в ней – стебелёк лютика. Летом на нём – маленькое солнышко на тонкой ножке, сейчас – всего один грустный растопыренный листок. Милка жмурится, и мысли её текут так же ржаво, неспешно, как эти ноябрьские волны, на которые она смотрит в сотый, тысячный раз…
«Кругом тайны. Даже в тебе, цыплёнок-лютик. Горицвет, куриная слепота, золотые пуговки… Сколько названий, одних легенд сколько! Тебя превращали в монетки, дарили Деве Марии, в твоих зарослях сам Люцифер прятался, гордый дух. И Джульетту ты усыпил!» Она вздыхает, разглядывает травинку, крутит её в пальцах. «И ковры сибирских жарков – тоже из таких, как ты. Как удивительно – мы же с тобой похожи, лютик. В далёкой Сибири – родня твоя, и моя родня – там. Где шепчет тайга, где отец гоняет на байке… Где ты сейчас, папка? Кого ты разбудишь утром? Другую девчонку, такую же смешную и маленькую, как я тогда? Или мальчишку?»
Сколько вопросов у неё. Но кому их задашь? У кого такое спросишь? Мама давно, лет семь назад, категорично закрыла тему: «Забудь и не вспоминай!», дедушка только вздыхает: «Не знаю, Люсенька, ничего я не знаю…»
Милку, имя которой от бабушки Людмилы, маминой мамы, досталось, только дедушка упрямо зовёт Люсей. «Милку» придумал отец, когда первый раз увидел её, новорождённую, на фотографии, пролетевшей в конверте тысячи километров – от их городка до Сибири. Сначала он часто звонил, а потом всё реже и реже… Потому что потом был суд для установления отцовства, на котором настояла бабка Анна. После суда и смены Милкиной фамилии и документов два года мама с отцом не общалась вовсе. Потом умерла бабушка Людмила, и отец позвонил: «Я хочу, чтобы вы приехали ко мне. Навсегда». Они с мамой и поехали. Вот только навсегда не получилось. Не смогли вместе, под одной крышей мама и бабка Анна. Это всё, что знает Милка. Но она уверена: придёт время, и она сама разыщет отца. «Я всё помню, папка. Как ты кедры гладил, помню… и валуны на речке. Положишь ручищу на тёплый камень – и слушаешь. То ли себя самого, то ли каменные сказки… С порогами, суровыми, грозными, умел говорить. А в большом городе не смог прижиться. Ни так не получилось, ни эдак».
Милка невесело улыбается одним уголком губ, вскакивает, свистит.
– Грэй, домой!
Если не тянуть время на прогулке, не пускать этого водоплавающего в реку, не тратить десять минут на мытьё его лап, то после возвращения обязательно найдётся минутка, чтобы выпить чаю со смородиновым листом, который дедуля заварил на рассвете, укутав старенький чайник махровым полотенцем. Нужно, чтоб минутка нашлась, но не всегда получается. Милка завидует матери, которая просыпается позднее, ближе к восьми. Фыркает, отмахиваясь от чая и бутербродов. И снова дедушка, закрывая за ней дверь, укоризненно качает головой. А она, мельком глянув в приложение на китайском смартфоне с парой трещинок на стекле, не дожидаясь лифта, уже привычно бежит вниз по лестнице, в расстёгнутой куртке, придерживая на плече собранный с вечера рюкзак. На карте автобусный кружочек уже отъезжает от конечной, надо успеть.
Маршрутка. Старый белый «пазик». Сидячие места заняты, как всегда. И здесь главное – вскочив по ступенькам, не замешкаться и уцепиться за поручень. Милке нравится только один – горизонтальный, тот, что сзади, посередине. Тут не будет скопления чужих назойливых рук, твёрдых, как эти самые поручни, рук, вызывающих почти панику, страх, желание выбраться поскорее, удрать куда-нибудь в темноту и свернуться калачиком. Тут можно удобно устроиться, зажав рюкзак между собой и стеклом, чувствуя давление лишь чужих безопасных спин, и спокойно читать всю дорогу, изредка поднимая глаза.
Эта дорога знакома до мелочей: вот коварная яма, которую объезжает водитель, матюгаясь на весь салон, перекрикивая натужный и странный с утра шансон в магнитоле, вот расколотая шпала под трамвайными рельсами, что тянутся вдоль шоссе… Она ездит здесь уже третий год. Сначала были подготовительные курсы, теперь – учёба. На площади перед мостом Милка закрывает книгу. Тягучий Сафарли не читается больше. Всё, ушло настроение. Здесь, за мутными окнами – не чужое море, здесь она, такая родная, знакомая почти до капельки река. Стального цвета полотно, на котором едва заметны струйки течения. Эта громада магнитом держит взгляд, засасывает… Не оторваться от бетонных набережных, от дымки, что клубится под опорами следующего, чётко видимого моста.
Дальше – подъём в гору. Полчаса, не меньше. Сразу становится душно. Медленной вереницей по одной полосе, словно хронически усталые верблюды, ползут машины. Вместе с этим караваном Милка поднимается над городом, над дышащими трубами заводов, над привычным ежедневным смогом. Она помнит другие горы, другое небо. Растерянные, почти голые деревья на правом высоком берегу реки стоят по колено в тумане, а она видит, как эти пологие склоны вырастают, становясь суровыми, утыкаясь, словно копьями, пирамидами лиственниц…
Милка доедет до своей остановки, выскочит на воздух, пару минут потеряет, чтобы сфоткать рябину возле ворот, и побежит к учебному корпусу. Её никак нельзя назвать несчастливой. Кроме расплывчатой тоски по отцу у неё есть многое – умение видеть цель, любимое дело, нормальная семья, крыша над головой.
Лист второй. Начало. Венерина мухоловка (лат.
Dionaea muscipula)
I
– …Вот зараза! Двадцать первый век на дворе! Неужто нельзя мебель нормальную для аудиторий купить? Опять колготки вдребезги!
Милка улыбается:
– Ага. Мебель. И каждому по айфону. Ты бы лучше в джинсах ходила.
– У нас – универ! Какие джинсы? – Олеся гневно встряхивает пружинками кудрей.
Пять минут до начала пары. Ведущий вуз города. Биофак.
– Милка, будь другом, сфоткай лабу, мы не успели.
– Мил, а скинь задачки по органике.
– Миииила! – это с задних рядов. – Лекции забери, я отксерила. Спасибо!
– В карман не положишь, на хлеб не намажешь спасибо это ваше. Милка, ты чокнутая, ей-богу. Я бы с них со всех, – Олеся презрительно машет головой, – бабки бы брала.
– Бабки… Не ворчи. Сама как старая бабка – бу-бу-бу…