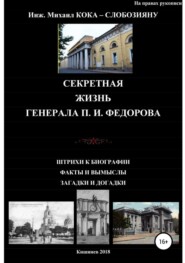 Полная версия
Полная версияСекретная жизнь генерала П.И.Федорова. Штрихи к биографии. Факты и вымыслы. Загадки и догадки
И ради чего он стал бы жертвовать такие деньги на строительство собора, когда его практически ничего не связывало с городом Измаил.
Что касается остальных «фактов», то путаница еще больше. Как мог какой-то полицмейстер г. Николаева занять аж 10 000 руб. у городского управления г. Измаил? Он вполне мог сделать это, например, будучи Бессарабским гражданским губернатором или градоначальником Измаила. Но в первую должность он был назначен в 1834 году, а вторую должность он исправлял по совместительству с 1836 года.
Строительство же Свято-Покровского собора было закончено в 1831 году! А звание генерал – лейтенанта было присвоено Ф. еще позднее – в 1840 году!
– «Вот какое донесение получил император Николай I о деятельности П. И.Фёдорова, замещавшего в должности М. С.Воронцова: «Генерал–лейтенанту Фёдорову приписывают многие хорошие качества и некоторые способности; но вместе с тем упрекают его в излишней строптивости характера и неумении обращаться с подчинёнными. Принимаемые им строптивые меры заставляют сожалеть о частых отлучках графа Воронцова; а сделанное в последнее время распоряжение о непременном взыскании недонятых податей, невзирая на повсеместные в предыдущих годах засухи, неурожаи и падёж скота, возбудили против него явный ропот жителей. Рассказывают, что командированные по распоряжению местного начальства чиновники для взыскания недоимок употребляют с помещиками неслыханные до того меры насилия, что неминуемо должно ослабить в жителях уважение к распоряжениям начальства». Но граф Воронцов оценил деятельность Фёдорова и составил положительный отзыв Николаю I».
Да это же «цветочки» по сравнению с тем, что писала Кишиневская комиссия по преобразованию городского управления в ответах министерству внутренних дел: «Многие из членов комиссии помнят, что бывший губернатор П. И.Федоров, как скоро замечал образование по городу недоимки, тотчас хватал и заковывал в кандалы сборщиков, – и мера эта была столь успешна, что в два-три дня недоимки покрывались сполна» [46, С. 107].
Слова «Вот какое донесение» наводят на мысль, что авторы даже не удосужились проверить, что это было за «донесение». Потому что это «донесение», вовсе не донесение, а цитата из официального документа – «Нравственно-политический отчет за 1843 год», где «Перед текстом помета: «Его Величество изволил читать»» и который содержал характеристики не только на графа Воронцова и Ф., но и на других государственных деятелей и органов.
– «В 1845 году преемником М. С.Воронцова на высоком посту стал П. И.Фёдоров» – смотря, что понимать под словом «преемником»…
– «В войне с Наполеоном, командуя тремя ротами, он участвовал в постоянном преследовании французских войск от реки Стира до Каменец-Журавельска»;
Cкажем так, не постоянное преследование, а в течении двух недель. И не от реки Стир (которая в русском языке пишется Стыр («Стыр (укр. Стир, белор. Стыр), прежнее название Стырь – река на северо-западной Украине и в Белоруссии, правый приток Припяти» [Wikipedia]) до, похоже, несуществующего (или исчезнувшего?..) города Каменец-Журавельска («Каменец - Россия, Смоленская область, Ельнинский район; Каменец – город на западе Белоруссии в Брестской области на реке Лесная; Каменец – Подольский – город в Хмельницкой области Украины» [Wikipedia], а «От Березины до Немана – преследование Наполеона русской армией в течение 2 недель на заключительном этапе Отечественной войны 1812 года» [Wikipedia]).
Если учесть то, что река Стыр – это «правый приток Припяти», а военные действия проходили за левым берегом реки Припять, то возникает большое сомнение в утверждении авторов об участии Старооскольского полка в преследовании Наполеона.
Разве что:
– 23 сентября (5 октября) 1812 – – Авангардный бой войск 3-й Западной армии под Кобрином;
– 29 сентября (11 октября) 1812 – – Взятие Брест-Литовска войсками 3-й Западной армии» [17].
Да и то неизвестно какую роль сыграл в этих делах Старооскольский полк.
Слова «командуя тремя ротами» никак не вяжутся с тем, что в связи с перестройкой пехоты в 1810–1812 гг., «Мушкетерские (пехотные) полки имели 3 пехотных батальона, в каждом батальоне было 3 мушкетерские роты и 1 гренадерская» [34]. Даже если предположить, что Ф. был командиром батальона к тому времени, то все равно непонятно почему он командовал только тремя ротами.
– «В генеральном сражении 8–9 мая 1813 года за город Брауцын, он проявил мужество и отвагу, за что был награждён орденом Св. Анны IV класса» – вообще-то во всей военной литературе город называется Бауцен.
Что касается награждения орденом Св. Анны IV класса, следует отметить что только «28 декабря 1815 года орден был разделен на 4 степени (…) [Wikipedia]. А посему Ф. не мог получить этот орден тогда.
Возможно, в Послужном списке имелся в виду другой, специально созданный, комитет, который исполнял обязанности Николаевского и Севастопольского губернатора и руководил делами Черноморского департамента (в том числе и «для решения дел по Черноморскому департаменту») во время отсутствия А. С.Грейга по болезни: «У зв’язку з хворобою О. С.Грейга у 1829 р. виникла необхідність створити комітет, який би виконував обов’язки Миколаївського і Севастопольського військового губернатора і керував справами Чорноморського департаменту під час його відсутності. 10 квітня 1829 р. Грейг сповістив міністра внутрішніх справ, що керівництво комітетом доручено контр-адміралу М. О.Снаксирєву (…), а 11 квітня 1829 р. було видано наказ про початок діяльності комітету. Через декілька місяців робота цього комітету була призупинена, та з 14 листопада він відновив свою діяльність. Головою було призначено контр-адмірала М. М.Кумані (…)» [19].
При всем обильном разнообразии биографического материала о Ф. он продолжает оставаться своего рода российской «железной маской», так как многие периоды его жизни до сих пор покрыты таинственной завесой.
Тайна рождения и происхождения.
Послужной список приводит лишь год рождения (1791), без указания даты и места рождения, имен родителей и социального статуса. Жизнеописание Ф. начинается с 17-ти лет, когда он окончил 2-й Санкт – Петербургский кадетский корпус. Со временем появились многочисленные публикации, в которых промелькнула информация, указывающая дату рождения Ф. (15 января) и то, что он якобы происходил из дворян Орловской губернии [20] или выходец из незнатной дворянской семьи [16]. Существует мнение, что «Место рождения установить не удалось. Возможно, это был Санкт–Петербург или его окрестности» [29].
После семи лет отставки с военной службы, Ф. внезапно появляется в Николаев, где «в 1820 г. ему, инвалиду, дают гражданскую должность (…) он быстро с должности полицмейстера поднимается до коменданта города с присвоением ему воинского звания генерал-майора» [16]. В общем, для человека, который «был сильно контужен в шею, под правым ухом и лишился слуха на этом ухе» [33] и «Из-за раздробления берцовых костей (…) ходил с костылём, прихрамывая на левую ногу» [20] – это просто головокружительная карьера.
Хотя тут возникают несколько вопросов.
Например, что связывало Ф. с городом Николаев, откуда он появился и кто ввел его в высшее николаевское общество, способствуя, таким образом, его быстрому продвижению по службе? – «В 1820 г. военный губернатор Николаева вице-адмирал А. С. Грейг, заметив способности и инициативность полковника Федорова, назначил его полицмейстером города» [28];
На этот вопрос ответа пока нет. Да и будет ли он когда-нибудь?.. Ю. С. Крючков в истории о неожиданной смерти капитана 1-го ранга А. И. Казарского, задавал почти такой же вопрос: «Многое в этой истории осталось неясным (…) И ЧЕМ ОБЪЯСНИТЬ БЫСТРЫЙ ВЗЛЕТ КАРЬЕРЫ П. И. ФЕДОРОВА ПОСЛЕ ЭТОГО?» [28].
Как объяснить то, что он «в 1836 году, НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ (выделение текста принадлежит мне – м.к.), получил назначение в Бессарабскую область. Губернатором [16].
В.Томулец объясняет это так: «Чтобы привлечь его на должность гражданского губернатора Бессарабии, М. С.Воронцов 28 августа 1834 г. отстранил от должности Аверина и обещает П. И.Федорову, что получит для него от императора должность военного губернатора Бессарабии и начальника Специальной администрации города Измаил» [47].
Обратим внимание на то, что у И.Корецкого и В.Томулец несколько противоречивые мнения насчет процедуры назначения Ф.
Так, если И.Кореций утверждает, что это назначение было неожиданным для Ф., то согласно В.Томулец, Ф. был не только в курсе готовящегося его назначения, но и обещаний М. С.Воронцова насчет его дальнейшего продвижения по служебной лестнице.
Шесть лет инкогнито Ф. (1820–1825 гг.). Общепринято (а отдельные периоды времени подтверждены документами), что пребывание Ф. в должности полицмейстера города Николаев имело место в 1820 -1829 гг.
Однако, «Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи» [22], издававшийся Императорской Академией наук в г. Санкт-Петербург, а вслед за ним и «Список должностных лиц Херсонской губернии (по данным Месяцеслова и Общего штата Российской империи)» шесть лет подряд (1820–1825 гг.), из года в год, печатали информацию, согласно которой полицмейстером города Николаева состоял некто «Подполковник Розенберг» (sic!!!). Почему и по чьей указке?..
Словесный портрет Ф. Первое что приходит на ум, когда начинаешь думать о Ф. как о человеке, военном и государственном деятеле – это то, как Эрнст Неизвестный нашел решение по памятнику Н. С.Хрущева: бронзовая голова цвета старого золота стоит в нише на белом мраморе на фоне черного гранита.
Вообще-то это можно отнести к каждому из нас. В памяти близких человек оставляет, в основном, светлый след, а дела его оцениваются по-разному. Иногда, может быть, не слишком объективно (т.е. в черном цвете). Смотря, кто это делает – поклонник или недоброжелатель.
А потому и словесный портрет Ф. получился в черно-белом цвете – одни хвалят его (кишиневские авторы – даже чересчур), другие – порицают некоторые его действия:
« (…) о Павле Ивановиче Федорове до наших дней дошло мало сведений, известно лишь то, что он был порядочным человеком, добросовестно исполнял свои обязанности, обладал отличными способностями» [12].
«Бессарабский военный губернатор Павел Иванович Федоров знал этот край не по реляциям и сведениям чиновников, а сам исходил его вдоль и поперек (…) Примечательно, что в каждую свою поездку по Бессарабии он обязательно брал с собой чиновников и ответственных лиц. Чтобы и они почувствовали всю волшебную красоту этого чудесного края и прониклись бы желанием работать ему во благо. Нерадивые исполнители тут же получали нагоняи и поручения с жестким требованием их безотлагательного выполнения. Губернатор был мастак прямо на месте грозно отчитать небрежно относящихся к своим обязанностям, в присутствии многочисленных зрителей, в которых у него никогда недостатка не было.
(…) в 1820 г. ему, инвалиду, дают гражданскую должность в Николаеве. Ответственность за порученное дело и требовательность отличают его по службе, и он быстро с должности полицмейстера поднимается до коменданта города с присвоением ему воинского звания генерал-майора. Затем он становится военным губернатором Николаева и Севастополя, а в 1836 году, неожиданно для себя, получил назначение в Бессарабскую область. Губернатором. Необходимо было продолжить воронцовские начинания по реформированию, и для этого необходим был деятельный, исполнительный и понимающий проблемы края человек. Таковым посчитали П. И. Федорова. И не ошиблись. Именно этому губернатору Бессарабия обязана существенными преобразованиями в экономическом, социальном, этническом плане. Он исполнял обязанности военного губернатора с небольшими перерывами до 1852 года, и этот период по праву считают периодом расцвета Бессарабии, зарождения ее экономического потенциала.
Губернатор с дотошностью вникал во все дела-политические, военные или гражданские. И на все имел свое суждение и подсказку, а порой и финансовую поддержку (…) Губернатор позаботился о придании главному городу провинции и столице области Кишиневу европейского вида, довершив многое начатое еще при Воронцове (…) В его правление завершается строительство ряда прекрасных архитектурных объектов: православного кафедрального и католического соборов, административных зданий, считающихся по сей день шедеврами классического зодчества. «Строительный бум», охвативший города и селения Бессарабии, находит поддержку у губернатора. В селах росли церкви и административные здания, в городах, помимо церквей, строились гимназии, здания общественного назначения. Придунайские города Измаил, Рени, Килия обрели статус портов с соответствующей инфраструктурой. Генерал-губернатору удавалось выбивать у казны средства для развития самого необходимого, а когда средств не хватало, он доставал свой кошелек и добавлял нужную сумму, отняв ее из скромного семейного бюджета. При этом не забывал прилюдно распекать местных чиновников, которые «не хотят и не умеют работать».
В анналах истории Бессарабии сохранилось немало свидетельств о бескорыстной помощи губернатора, о его, порой, и грубом, вмешательстве в возведение того или иного объекта, его решительных действиях, направленных на улучшение положения дел. Он был вездесущ: строил оборонительные сооружения и гражданские объекты, наводил навигацию по главным рекам Бессарабии-Дунаю и Пруту, принимал на постоянное местожительство староверов, казаков-сечевиков и иных желающих, посматривая сквозь пальцы на беглецов из России. Он совершенствовал административную систему управления краем. Кстати, именно при нем чиновничий аппарат, в основном русский, достиг небывалых пропорций. Но именно благодаря усилиям губернатора Федорова Бессарабский край превратился из заброшенного и неосвоенного – в богатый и привлекательный. Записные льстецы любили сравнивать его деятельность с деяниями Потемкина, что нравилось губернатору. Статистика показывала, что за период его правления народонаселение края увеличилось втрое, а экономика Бессарабии выросла в разы.
Новозаписанному бессарабскому дворянству, чиновничеству и простому обывателю пришелся по вкусу туговатый на ухо (следствие тяжелой контузии), но всевидящий генерал – губернатор. Воспоминания очевидцев о годах его правления и о моменте его прощания с Бессарабией нельзя читать равнодушно, как некий акт выражении верноподданнических чувств. Бессарабцы действительно искренне полюбили этого сурового на первый взгляд, но возвышенной доброты и порядочности человека. Уволился он с поста в чине генерала от инфантерии (полного генерала), обласканный двором и отмеченный наградами. Оставлен при армии, избран в сенат» [16]
«На строительство ворот Павел Иванович пожертвовал 4500 рублей, что составило больше половины всей стоимости (…) Фёдоров приобрёл городские часы из Австрии (…)
В благоустройстве Измаила Павел Иванович принимал участие еще в 1822 году, когда началось возведение Покровского собора на главной площади города (…) Свою лепту в сумме 10 тысяч рублей внёс и Павел Иванович. Жители Измаила, современники Павла Ивановича отмечали: «В должности градоначальника Измаила Фёдоров был порядочным человеком, добросовестно исполнял свои обязанности и обладал отличными способностями» (…)
В Дворянском клубе был дан праздничный обед по случаю освящения храма. Его обслуживал личный повар губернатора П. И.Фёдорова. К праздничному столу Павел Иванович подарил из собственных погребов вин различных марок и по 16 бутылок шампанского и мадеры. Угощение для остальных прихожан организовали на следующий день во дворе церкви (…)
Исполнительность чиновников объяснялась тем, что Фёдоров летом каждого года исправно объезжал область, о чем заранее рассылал учреждениям печатные предупреждения «О приведении дел в должный порядок». Кроме этого, Фёдоров взял на себя контроль и переписку с присутственными местами в ведении дел без бюрократизма и проволочек (…)
Неутомимая воля, деловая хватка и живость ума Павла Ивановича обратили на себя внимание графа Михаила Семёновича Воронцова (…)
Со многими жителями Вилково Павел Иванович был лично знаком, знал их имена и фамилии. А жители, подчиняясь нравственной силе и веря в его справедливость, любили Фёдорова, «как дети любят родного отца» (…)
Новороссийский генерал-губернатор граф М. С.Воронцов для поправки своего здоровья часто выезжал за границу, а вместо себя всегда оставлял П. И.Фёдорова (…) Павел Иванович исполнял свои прямые обязанности и дополнительно справлялся с обязанностями графа Воронцова: строительством зданий, разрешением споров, снабжением провиантом и товарами.
(…) граф Воронцов оценил деятельность Фёдорова и составил положительный отзыв Николаю I. По Высочайшему повелению, П. И.Фёдорову был выдан весь оклад графа Воронцова за время его отсутствия (21055 руб. 71 коп. ассигнациями и 3111 руб. 49 коп. серебром). От своего оклада военного губернатора Павел Иванович отказался, считая, что и одного оклада достаточно.
По предписанию графа Воронцова, все его адъютанты состояли при Фёдорове, у которого к этому времени проявилась еще одна черта характера: «…все указания он выполнял с военной педантичностью, без компромиссов и послаблений». Конечно, местные жители сетовали на то, что граф М. С.Воронцов часто отлучался, но Фёдоров, несмотря на некоторую жёсткость в управлении, много сделал для края.
Павел Иванович занимался устройством военных сил страны и, благодаря его стараниям, 13 декабря 1844 года Высочайше утверждено положение о Дунайском казачьем войске (…)
В 1845 году преемником М. С.Воронцова на высоком посту стал П. И.Фёдоров, на эту должность его рекомендовал сам Михаил Семёнович (…)
В Николаеве Павел Иванович жил в обществе людей, составлявших на тот момент гордость Черноморского флота. Это общество сгруппировалось вокруг просвещённого и даровитого адмирала Грейга, начальника Фёдорова. Научные сведения, изучение немецкого языка и культура западноевропейского общества принесли громадную пользу Павлу Ивановичу. Особенно многому он научился благодаря пребыванию за границей. Идеалы порядка и нравственной дисциплины, оставались при нём на всём протяжении его служебной карьеры. Благодаря своему характеру и бодрости духа, Фёдоров с неиссякаемой энергией брался за порученные дела и всегда отличался гуманным отношением к населению, вверенному его попечению (…)
Как человек и семьянин Павел Иванович почитался всеми близко знавшими его людьми. Его семья всегда служила образцом добрых нравов, отличалась образованностью и пользовалась глубоким уважением со стороны местного общества (…)
В 1854 году от предводителя дворянства Бальша в Министерство финансов поступила жалоба на П. И.Фёдорова под грифом «Весьма секретно»: «О злоупотреблениях по управлению Новороссийским краем и Бессарабией». Жалобу рассматривал военный министр генерал-адъютант князь Долгорукий, а выводы по жалобе должны были быть препровождены генерал-адъютанту князю Меншикову и Его Величеству (…) В жалобе о злоупотреблениях говорилось, что к своим обязанностям все должностные лица в Новороссийском крае и Бессарабии, начиная от генерал-губернатора, свои обязанности исполняли вяло и незначительно, а также все чиновники и сам генерал Фёдоров занимались явно противозаконными действиями и лихоимством. Каждый случай в этой жалобе был тщательно рассмотрен и по каждому случаю был дан подробный ответ (…) –
«1. Бывший Одесский полицмейстер Клейгельс оказывал покровительство бродягам и ворам, допускал многие злоупотребления, а также на него пало подозрение, что он участвовал в ограблении кассы в Одессе. Полицмейстера Клейгельса перевели в Кишинев, и все шайки бродяг последовали за ним, от чего в Кишиневе ежедневно стали происходить воровства и грабежи.
Ответ на жалобу: Полковник Клейгельс был назначен полицмейстером до вступления в должность генерала Фёдорова. Заметив неблагонадёжные действия Клейгельса и его участие в ограблении золотых дел мастера Петинати, генерал Фёдоров признал нужным перевести Клейгельса из Одессы, чтобы он не мог повлиять на людей, которые могли ложными показаниями прикрыть его действия.
Примечание автора. «Оригинальное», однако, решение: вместо того, чтобы, «Заметив неблагонадёжные действия Клейгельса и его участие в ограблении золотых дел мастера Петинати», снять с должности проворовавшегося полицмейстера, «генерал Фёдоров признал нужным перевести Клейгельса из Одессы»…
4. (…) От алчности начальника края и его чиновников пострадала и особенно страдает Бессарабия. Сумма, собираемая на земские повинности, доходит до миллиона рублей серебром, расходуется по усмотрению губернатора безотчётно. Были случаи, когда под предлогом недостаточно собранной суммы, учреждались новые налоги.
Ответ: (…) То, что Бессарабия пострадала от алчности начальника и его подчиненных – это клевета. Генерал Фёдоров с пламенным и неусыпным усердием подвизался на исполнении священной и благодетельной воле государя императора на обуздание помещиков. Землевладельцы благословляют наше правительство, а помещики возненавидели его, видя в генерале Фёдорове виновника, отнявшего у них право зверски поступать с царанам и цыганами (…)»
Генерал Фёдоров был удивительным человеком, человеком «на своем месте», много сделавшим не только для Новороссийского края, Бессарабии, но и для Кишинёва в частности (…)
Вот какую характеристику дал Фёдорову один из биографов А. С.Грейга: «Полицмейстером тогда был умный, способный, деятельный и всеми уважаемый Павел Иванович Фёдоров… Надобно сознаться, что в его время полиция отличалась самой неукоризненной исправностью, а город содержался в чистоте и порядке. Мошенники его трепетали, а главное, съестные и прочие припасы продавались в своем виде и по умеренным ценам». В 20-е годы XIX века город Николаев был определён как военно-морской порт, поэтому для иностранных судов заход в Николаевские порты был под запретом. А иностранцам, посещавшим Николаев, были созданы условия, ограничивающие их передвижения и контакты. Это предписание строго выполнялось полицмейстером города (…)» [20]
«В 1833 г. в Николаеве внезапно умер герой русско-турецкой войны 1828–1829 гг., бывший командир брига «Меркурий» А. И. Казарский. Федоров вместе с Грейгом посетили его за несколько часов до смерти. Народная молва утверждала, что Казарского отравили. Николаевская жандармерия обвинила в этом преступлении полицмейстера
Г. Г. Автономова и донесла на него царю. Согласно решению императора, в Николаев прибыл начальник Морского штаба князь А. С. Меншиков для расследования этого дела.
В Николаеве Меншиков вызвал к себе Федорова, но на вопрос «Был ли отравлен Казарский?» тот твердо ответил, что Казарский умер естественной смертью. «Ну, смотри же!» – грозно сказал ему князь. Но вскрытие показало, что Федоров был прав –комиссия не подтвердила отравление.
Через несколько дней после этого Федоров был назначен исправляющим должность Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора взамен уехавшего графа М. С. Воронцова, назначенного наместником на Кавказе. Молва тут же обвинила Федорова в том, что это он отравил Казарского, за что и получил такое повышение. Нелепость этого утверждения очевидна – Казарский был флигель-адъютантом Николая I и его любимцем. Если бы хоть капля истины была в этой молве, то царь не только не назначил бы Федорова на столь высокий пост, но подверг бы его судебному преследованию. Да и какие у Федорова были мотивы для отравления?



