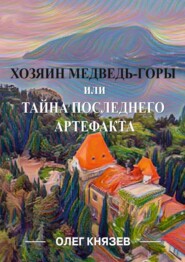
Полная версия:
Хозяин Медведь-горы, или Тайна последнего Артефакта
Проявив вначале, как я понял, дежурный интерес ко мне (отдав мне дань уважения, как гостю), в дальнейшем он стал как-то равнодушным ко мне – я выпал из сферы его, набирающего активность, разговора, и даже его приятельское обращение ко мне, как “старик”, было пустой формальностью с его стороны. “Ну, москвич; ну ничего не знает о Медведь-горе; ну “чайник”, которого нужно сводить и показать ему Гору” – читалось в его глазах при взгляде на меня.
В его поведении в нашей маленькой компании чувствовалась внутренняя уверенность человека, привыкшего к общению с аудиторией.
– Ведь, недаром, он работал на кафедре истории в университете – вспомнил я, думая о нём.
Уметь ясно и чётко излагать свои мысли перед студентами, держа себя при этом свободно и естественно-раскрепощённо, было, очевидно, частью его профессионального имиджа, как преподавателя, и это “читалось” в его общении с нами. И он невольно доминировал над нами в разговоре с нами.
Я не был в обиде, понимая, что моё место в этой компании— просто, пока, сидеть и молча слушать, изредка встревая в их разговор. Как мне затем стало ясно, на тот момент я не представлял для него никакого интереса – ни как человек, ни, тем более, как москвич.
Возможно, Мишка, тоже невольно видел и чувствовал подобное доминирование Олега и в разговоре с ним, поэтому, вскоре отойдя в тень на “территории” Олега, мой ялтинец предоставил ему свободу дальнейшего развития темы нашего разговора.
Мы недолго сидели за столиком, разговаривая на какие-то отвлечённые, неинтересные мне, темы. Влада вспоминала период своей учебы в университете. Олег вспомнил несколько смешных эпизодов из своей студенческой жизни. По лицу Михаила, я видел, что эта тема, безразличная для меня, вызывала у него какие-то неприятные чувства— пару раз я перехватывал, случайно, его напряженный взгляд на Владу, которая весело болтала и, порой, смеялась на комментарии Олега.
Олег, выполнив свою начальную часть хлебосольного хозяина квартиры, сам и не ел и не пил и, разговаривая затем о нашем предстоящем походе на Медведь – гору, больше обращался к Владе, чем к Михаилу, и мой друган как-то поскучнел, а, потом, и нахмурился, видя, такой неприятный для него, нескрываемый интерес Олега к Владе.
Наш партенитский товарищ оказался действительно большим профи в теме об Аю-Даге и я, как начинающий любитель, ему был пока просто неинтересен. А он был просто увлечён темой Медведь-горы, и все рассказы Влады о том, что он там видел или знал, были лишь прелюдией к тому, что я потом узнал и услышал от самого Олега…
Как оказалось, только я честно выпил мой бокал вина до дна, а остальные-то лишь пригубили его из своих бокалов, включая моего Брагина (ну, да они же местные, могут пить Крымское вино в любое время – здесь столько вокруг винограда растёт!). И черешню, сладкую и жёлтую, попробовал, а потом с удовольствием и ел, я один. Вино, хоть и полусладкое, оказало на меня какое-то излишне расслабляющее действие – сидя с моими друзьями и слушая их, я не принимал, затем никакого участия в их разговоре и был, что называется, на третьих ролях. Я же ничего толком не знал об этой горе и не мог ничего советовать или предлагать, да это и не требовалось в их компании, где я чувствовал себя просто, как “green cucumber”. Всё решалось здесь Олегом, хотя Мишка и начал было с ним спорить, вначале, по какому маршруту нам лучше было пойти на гору.
При этом, если Олег и спорил с Мишкой, то немного снисходительно (а, порой, как мне показалось, как-то даже свысока), а вот с Владой он был сама любезность и более того, порой задерживая свой взгляд на её лице больше, чем этого требовали приличия.
– Видно, – подумал я, – Мишка что-то утаил от меня, а Влада умолчала – у неё определенно был роман с Олегом…А потом появился Мишка, и всё изменилось в их отношениях с этим её партенитским другом.
Самое обидное для меня было, что они, увлёкшись своим обсуждением, вообще забыли про меня, и я оказался предоставлен самому себе. Потихоньку— бегло (чтобы не показаться излишне любопытным) оглядывая комнату, в которой мы сидели, в моменты, когда Олег был занят разговором с Владой, и/или с Мишкой, я пришёл к выводу, что он был и в самом деле чуть ли не каким-то естествоиспытателем, или, по крайней мере, фанатеющим исследователем местной природы. На стенах его холостяцкой комнаты везде висели большие фотографии видов Медведь-горы, крымского леса, ландшафтных пейзажей, ручьев, пещер и моря, снятого со скальных вершин. По всей видимости, он сам побывал во всех этих чудесных местах и уголках Южного берега Крыма, где и снял эти красивые фотки.
Видя, что на меня сейчас никто не обращает внимания, я встал и прошёлся по комнате за спинами моих друзей, рассматривая фотки и разные занятные вещицы, и сувениры за стеклом на полках мебельной мини-стенки и, в книжном шкафу, стоявшем в углу комнаты. На его полках, забитых справочным материалом о Крыме, впереди книг выстроились разные крымские сувениры, типа красивых раковин-рапан, композиции из мидий, большой сушеный краб песчано-красного цвета с высоко поднятыми огромными красно-черными клешнями, умелые поделки из больших сосновых шишек, красиво-выглядевшие камни и минералы разных размеров, и какие-то деревянные тарелочки и подставки из приятно пахнущего одеколонным запахом, дерева (позже я узнал, что это был знаменитый крымский можжевельник— реликтовое, кстати, дерево). И здесь же, в углу над плоским телевизором, висела красивая картина с видом на Медведь— гору с моря.
Картина заинтересовала меня тем, что она показывала носовую часть горы, где стоял большой деревянный крест. Я даже подошел поближе, чтобы более детально рассмотреть её— как оказалось, эта картина была срисована в увеличенном виде с фотки, очевидно, уличным художником из Ялты. Детализация скал и обрывов и валунов головного мыса Аю-Дага, была просто потрясающая.
Вполуха прислушиваясь к разгоряченному тону Олега, начавшего о чём-то спорить с Мишкой, я понял затем, что у них возникли разногласия насчёт маршрута к каким-то развалинам крепостной стены на вершине горы. Не зная толком, в чём там суть, перестав вслушиваться в их разговор, я прошёл в туалет, а потом на кухню с такой же планировкой, как у Мишки, только с холостяцким налётом— у плиты висело видавшее виды кухонное полотенце (стирает ли он его вообще?), а в раковине виднелась тряпка с парой недомытых тарелок и вилок. Невольно, я сравнивал эти однотипные, в общем, квартиры— у Михаила квартира была посовременней, с ламинатом на полу, полотенцесушителем и натяжными потолками и имела, в общем, более комфортабельный, современный вид. А Олег, видно, не заботился с ремонтом квартиры, и она выглядела несколько неухоженной и не такой уютной, как у моего ялтинского друга.
Когда я вернулся в комнату, Олег, уже поостыв, без прежнего словесного напора продолжал обсуждать с моими друзьями, вернее с Мишкой, детали нашего восхождения на гору. Будто вспомнив, кто я, и что я делаю в его квартире, он взглянул на меня как-то озадаченно, а потом, улыбнувшись, махнул мне дружелюбно рукой:
– Старик, извини – у нас здесь возникли свои заморочки. Решаем, как быть. Хочешь, выйди на балкон или посмотри книги, журналы – что найдёшь. Мы сейчас закончим, определимся и пройдёмся потом. Вначале немного по санаторскому парку, а потом влево или вправо, – бросил он пытливый взгляд на Михаила. – Где поинтересней! – он тут же отвернулся от меня, продолжая дискуссию со своими гостями.
– Зачем нам этот парк? Ведь мы же, вроде, планировали пойти сразу на Гору по приезду к Олегу, – посетовал я про себя. – А меня даже не поставили в известность… Я не обижался – понятно дело. Я здесь просто гость— хороший друг Мишки. А для Олега я пока никто…, чужой человек, но мне, почему-то, захотелось, чтобы период нашего взаимного привыкания друг к другу не был долгим и “Алик” впустит меня в круг его друзей.
Ну, а пока, я последовал его совету и, пройдя во вторую комнату, огляделся вокруг.
– Смотри-ка, всё, как у Мишки в квартире (прямо дежавю какое-то). Такая же комната, с таким же балконом. Только разная мебель, обои и, что называется, “антураж”.
Здесь не было фотографий на стенах, и было как-то неинтересно и не уютно. У стены стоял узкий платяной шкаф с раздвижными дверцами, табуретка в углу и старая тахта прямоугольной формы с высокими бортиками. Ну и стулья с одеждой – шортами, футболками, накинутых поверх спинок, зачем-то ковёр красный на полу. И, удивительное дело для холостяка – зеркальное трёхстворчатое трюмо в углу.
– От родителей, – догадался я.
А также большой фикус у стены, рядом с выходом на балкон.
Если бы мне сказали тогда о том, ‘Что мне предстоит увидеть здесь в дальнейшем и с кем встретиться здесь же, в этой ничем не примечательной комнате, но уже в других обстоятельствах, я, конечно же, никогда бы не поверил в саму возможность подобных невероятных событий, которые должны были вскоре случиться со мной в Партените.
В комнате было душно и жарко, несмотря на приоткрытую дверь на балкон. Хорошо, что у Олега в гостиной стоял кондиционер, иначе там было бы также некомфортно, как в этой комнате. Любопытствуя, что там у него было на балконе, я потянул ручку двери на себя и вышел на свежий воздух. Здесь не было балконного остекления, как у Мишки – и в лицо мне повеял бодрящий сквознячок с моря, но, при этом, всё равно было жарко.
В углу узкого балкона, справа от двери, стоял старый кухонный столик с какими-то банками и цветочными горшками, и маленький табурет с потрёпанным матерчатым верхом. А рядом лежала на полу затёртая циновка со следами собачьей шерсти и миска с костью – вроде, как игрушечной, пластмассовой. От коврика несло запахом псины – не сильным, но, каким – то неприятным для меня, запашком.
– Да, Влада же говорила, что у него есть собака! – припомнилось мне. – Наверно, бегает сейчас, где-нибудь во дворе, – решил я, подходя к столику. Там, на его желтой пластикой поверхности лежала какая-то коричневая, толстая книга с закладкой. Я посмотрел с любопытством на название (что, интересно, Олег читает здесь?) и увидел название – “Геологический словарь”.
Солнце светило здесь с торца здания, и балкон находился ещё в тени. Было что-то около начала одиннадцатого дня. Я переставил табурет подальше от этой собачьей “подстилки” к белой, крашеной балконной стене, влево от двери, и, взяв в руки книгу, пролистал её. Закладкой в книге оказалась фотография Медведь – горы на странице со статьёй под названием “Лакколит”. Статья носила справочный, суховатый, характер, но была очень информативна, да и просто интересной мне.
Оказывается, Аю-Даг был примером классического лакколита в полном соответствии с научным определением этого геологического феномена – “линзовидное магматическое тело, образующееся на небольшой глубине в и залегающее среди осадочных толщ. Приподнятые верхние слои лакколита образуют на земной поверхности куполообразное вздутие … и пронизаны жильными магматическими породами, отходящими от ядра. Верхний осадочный покров может быть частично или полностью уничтожен денудацией”.
Здесь же приводились схематические разрезы лакколитов (разных условных видов – и многие из них имели нечто вроде магматической пуповины, идущей из глубин Земли к нижней части лакколита). Причём, оказывается, в одном месте, могут, условно быть, несколько лакколитов рядом с друг другом или, даже, один над другим.
Я представил себе ещё одного Медведя, сидящего где-то глубоко, как в берлоге, под нашим Аю-Дагом…
Эта статья разбудила мою фантазию. А вдруг по этим полостям-проходам “пуповины” можно попасть в какие-то пещеры огромные подземные? Читаю дальше…
“Наличие магматического ядра, от которого вверх отходят жильные магматические породы… ”
Значит, на Аю-Даге могут быть и какие-то ценные минералы, попутно вынесенных из глубин Земли на дневную поверхность. Может, алмазы?
Прочитанное меня очень заинтересовало, потому что наш Аю-Даг был просто идеально-наглядным примером лакколита и вот, эта геологическая классика стоит над Партенитом во всей своей красе и, мы сегодня сходим и пройдёмся по её миллионолетним склонам! Я не геолог, но, в силу моей любознательности, интересуюсь всем тем, что представляет для меня интерес. И эта новая для меня информация о существовании лакколитов оказалась не только познавательной, но и требовала какого-то практического применения, т. е. натурного исследования и изучения.
Естественно, что я тут же полез искать информацию насчёт “денудации”. Попутно, быстро просмотрел и бегло прочёл ряд других, сопутствующих или связанных с этой темой, сведений. Ознакомившись с заинтересовавшей меня справочной горнорудной тематикой, я дальше просто переворачивал страницы наугад и тут заметил, что на последней странице у обложки находилась какая-то сложенная вчетверо, пожелтевшая от времени, газетная вырезка с фоткой горы. Это оказалась статья с информацией о посёлке “Фрунзенское”, расположенном рядом с Аю-Дагом (тюркско-татарским названием Медведь-горы).
Статья была старая, из ялтинской “Курортной газеты” (была, оказывается, такая газета в Ялте в советские годы!). Вот не знал, что “Партенит” раньше назывался “Фрунзенское” (по имени Михаила Фрунзе, героя Гражданской войны— ну, да не люблю я эту тему и этих прошлых героев гражданской войны). В той же статье приводились краткие данные об Аю-Даге, названным самым красивым лакколитом в мире. Я невольно взглянул на цветную фотку этой горы, лежавшую, как закладка, на странице с лакколитами.
– Да… Он просто красавец! – восхитился невольно я. В этой же статье было кратко упомянуто о древней истории этой горы и о загадочном захоронении, найденном на территории Артека в 1967 году – могильника с телами молодых, очень рослых (около 2х метров), широкоплечих мужчин (воинов, охранников?), лежавших обезглавленными над останками женщины, в богатом убранстве, находившейся в слое ниже на полметра в этом же захоронении, а ещё ниже, скелетик годовалого ребенка.
Меня как-то неприятно поразила это информация – за что их обезглавили, когда это было, в какие времена? Я люблю историю, но всё что связано с захоронениями, изучением могильников, обычаями жертвоприношений, типа скифских ритуальных зверств, меня никогда не увлекали и не интересовали, и я все это пропускаю, без анализа, мимо себя. Так что, я поверхностно прочёл эту информацию и, внимательно, всё, что относилось к геологическому прошлому этой горы, содержавшейся в этой газетной статье.
Прочитав эту сторону газетного листа, перевернул её на другую сторону (интересно же) и увидел информацию о событиях в мире в сентябре, 1967 года, включая заметку о Международном Конгрессе астронавтики, который провёл первое заседание Оргкомитета CETI (Связь с внеземным Разумом), состоящего из десяти делегатов из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Советского Союза, Польши, Чехословакии и Швеции.
– Да, – задумчиво почесал я подбородок, – столько лет прошло, а человечество так и не продвинулось ни на шаг в поисках внеземной жизни, не говоря уже о контактах с внеземным разумом. Да и так ли нужен этот контакт землянам, которые могли бы попасть в ситуацию, сходную с судьбой коренных обитателей новых земель за океаном индейцев, которых европейцы открыли для последующей нещадной эксплуатации и истребления.
Сильные, по умолчанию, подчиняют себе слабых, и наша человеческая цивилизация, по моему мнению, не стала бы исключением из этого правила.
Пока я с любопытством читал, солнечные лучи перешли незаметно на край балкона и стали слепить мне глаза. Я хотел было пересесть подальше в тень, встав и потянувшись так, что хрустнули суставы, опёрся на перила балкона и, отвлёкся от чтения, осматривая местность напротив этого дома.
Располагаясь ниже по склону, заросшему зеленью, холма, перед этой четырёхэтажкой находилась тенистая узкая улочка с каменной подпорной стеной, напротив которой возвышались кроны нескольких тёмно-зелёных свечей кипарисов, несколько заслонявших мне обзор вышележащей части холма. А прямо передо мной, на пригорке, шла ещё одна улочка – дорога, проходившая мимо огороженных частных участков наверху, с массой каких-то заборов, заборчиков, ворот и калиток – и всё в зелени растений.
Особенно мне нравились видневшиеся там большие, цветущие кусты розовых олеандров и, всё тех же, приятных моему неизбалованному взору московского жителя, свечек кипарисов и раскидистых ленкоранских акаций, за которыми слева от меня виднелись добротные коттеджи. – И, ведь, что интересно, – подумал я философски, – кому-то Москва – мать родная, а живя здесь, в этом тёплом, в буквальном смысле, местечке, местные жители вряд ли захотели бы променять свой Партенит на Москву. Летом здесь такая благодать! Вон, сколько фруктов растёт!
Мой взгляд удовлетворённо скользил по палисадникам и зелёным дворикам “фазенд” наверху, где всюду виднелись плодовые деревья, на которых проглядывались, местами почти спелые, жёлто-кремовые абрикосы и красные сливы. И, там же, росли узловатые, вьющиеся стволы домашнего винограда – виноградные лозы тянулись вверх по каменной кладке стен или затеняли уютные, все в розово-красных цветах и больших кустах гортензий, палисадники.
А ещё, вверху на пригорке виднелись и большие, развесистые, как огромный кустарник, стволы инжира со светло-серой, как у слона, корой, и со столь знакомой своей формой зеленью широких фиговых листьев. Ну, точно один в один, по размерам и форме, как на картинах библейский сюжетов об Адаме и Еве – фиговый рослый кустарник, так сказать…И везде росли розы и какие-то красные, жёлтые и прочие цветы (я не разбираюсь в цветах, тем более в местных). Но вот акации ленкоранские я уже знал, и их красно – розовые соцветия приятно радовали взор там же, на той улочке на склоне холма.
– Да… Хорошо-то, как здесь! – опять подумалось мне, окидывая взглядом всю эту местность ниже и выше меня. Справа, за возвышенностью от меня, скрывалось, как я знал, море, но, поскольку дом стоял ниже по склону, деревья, и всякие постройки просто перекрывали обзор слева и справа от меня.
Но, конечно же, самый потрясающий вид скрывался от меня на противоположной стороне дома, где была Медведь-гора.
– А вот с крыши, наверняка, просто отличная круговая панорама! – размышлял я, стоя на балконе и почувствовав, что становится слишком жарко, вошёл назад в комнату и, оттуда, в гостиную.
Моё появление заметили.
– Антончик, мы тебя потеряли, – услышал я мелодичный голос Влады, первой увидевшей моё возвращение в эту “кают-компанию”.
Она стояла рядом с Мишкой и Олегом, склонившись над какой-то большой картой, которая была расстелена на старом паркетном полу у торцевой стены.
– Антош, иди сюда, – позвал меня Мишка.
– Ну да, вспомнил про меня, – с какой-то обидой подумал я, не показывая виду, идя бодрячком к ним. Олег даже не удосужился, ради приличия, обратиться ко мне. Я машинально взглянул на столик с угощением, приготовленные Олегом – вино в бокалах так и осталось недопитым. Хозяин квартиры сидел спиной ко мне на полу у большой карты (наподобие контурной), сделанной на большом ватманском листе, с огромным схематическим рисунком Медведь горы.
– Вот, посмотри, что нам предлагает Олег, – с энтузиазмом сказал Михаил, кивая на карту. Олег, повернувшись к нам лицом, передвинул карту.
– А что это? Карта Медведь-горы? – спросил я, желая войти в тему их разговора.
– Карта, карта, – ответил Мишка вместо Олега, – да непростая!
Оказалось, что это был крупноформатный схематический рисунок (наподобие топографической карты) Медведь-горы, сделанный Олегом на большом листе ватмана, где он нанёс не только все известные там пешеходные тропы, но и, даже, новые, открытые им, скрытые, заброшенные тропинки, о которых знал только он один. Более того, на этой схематической карте-плане Медведь-горы он нанёс и все отметки высот, нарисовав 3 проекции горы – вид сверху, сбоку и спереди. Карта была окрашена в светло-зелёный цвет там, где рос лес и деревья и, в светло-серый, где растительности не было (главным образом на крутых боках с западной стороны горы). Условные пляжи вокруг горы были окрашены в жёлтый цвет с синей полосой прибрежных вод с бухтами и обозначением глубин на 10–20 метров от берега. На проекции вида Медведь горы сверху, были отмечены главные тропы на хребте горы, защитные стены укреплений(?), а также поляны, культовые сооружения, места Силы (?), “Трон Силы (?)” и даже пещеры!
– Да…, – с уважением в голосе, я обратился к Олегу, – круто, ничего не скажешь!
– А ты и не “кажи”, а, спроси, если вопросы есть, – ответил снисходительно Олег.
Похоже, я был для него не то, чтобы “чайником”, а просто неинтересен, как личность – зелёным юнцом, коим он меня считал…
Тем не менее, несмотря на его снисходительное отношение ко мне, я испытывал к нему какую-то симпатию и даже уважение за его внутреннюю убежденность и умение отстоять свою точку зрения— я слышал, как он аргументировано спорил с Михаилом Викторовичем. Я уже понял, что Олег – это реально крутой мужик, чтобы составить такую карту, ему пришлось, наверное, раз сто, залезать на вершину Горы и бродить по ней, исследуя её, да и поплавать вокруг неё на лодке с маской и трубкой. Его какая-то фанатичность, одержимость – не знаю, как и назвать ту силу, которая гнала его на Гору и заставляла его исследовать её в таких деталях – была поразительной. И тут задал ему вопрос, но не тот, которого от меня можно было ожидать.
Как-то неожиданно для меня самого, я сказал, немного пафосно, с напускным видом:
– Слишком энергозатратная тема. Какой смысл всё это изучать, исследовать, тратить время на То, что никому, кроме тебя, не нужно? Оправдывает ли это себя?
Хотел ли я этим неожиданным вопросом показать Олегу, что и я не простачок, имею своё мнение и суждение и со мной надо как-то считаться, и я ценю себя, не меньше, чем он себя— не знаю. Но вышло, как вышло, не совсем тактично и как-то в лоб – мол, зачем тебе это всё надо? В общем, захотел поднять своё реноме в глазах моих друзей. Я же не простачок из провинции…
Мишка удивленно повернулся ко мне, переглянувшись затем взглядом с Владой – она с недоумением посмотрела на меня (в её глазах я прочел типа, какой же ты неблагодарный, чувак, мы для чего тогда сюда приехали?). Но, к удивлению Мишки и Влады, Олег внешне спокойно воспринял мой вопрос. Он взглянул мне прямо в глаза и ответил как-то слишком прямодушно и без всякого пафоса для такого знающего, одержимого исследованиями Горы, фаната:
– Хороший вопрос… Я и сам не раз спрашивал себя, зачем и почему я это делаю. Для кого? – он помолчал, думая о чем-то своём, и продолжил:
– Ведь серьезно этой горой никто не занимается, никто её не исследует, никто не пытается понять, что скрывается в недрах Горы, какие там есть загадки. Ты нигде не найдешь информации о Медведь – горе, кроме общеизвестных фактов о её возрасте, высоте, длине, истории её исследования историками и любителями природы за последние 150 лет. Последнее серьезное справочное издание, написанное профессионалами-историками, вышло в 1975 году! И всё! Открой интернет, и ты не найдешь там никакой новой информации, кроме кочующего с разными вариациями плагиата о нём по просторам Интернета. А я хочу открыть скрытые тайны Горы, которые там есть – я это знаю! Проникнуть в её пещеры, увидеть, наконец, Хозяина Горы… – он помолчал, размышляя о чём-то. – И вот, теперь этот “Знак” появился. Для чего? Похоже, пришло Время. Но вот для чего, конкретно, мы, возможно, узнаем сегодня, или завтра. Когда Всё сложится и прояснится. И, к тому, те пещеры, – начал он говорить, и осёкся. Словно сказал что-то лишнее, увидев вытянувшееся лицо Михаила.
В комнате наступила тишина. Мои друзья – главным образом Мишка, в замешательстве смотрели на него, не зная, что и говорить. На лице Влады было написано выражение недоумения и какой— то жалости. К Олегу? Или она вспомнила о чём-то личном, взволновавшем её. По-моему, они слишком серьёзно восприняли все эти Олеговы “страшилки”, а меня распирало обыкновенное любопытство – здесь скрывалась какая-то тайна, которую Олег намеревался выяснить. Это же было так естественно!
Молчание моих ялтинских друзей показалось мне странным, и я пытался понять, что происходит.
Наш партенитский товарищ, между тем, почему-то, замолчал, как будто размышляя о чём-то глубоко личном. Мне стало понятно, что я, не владея всей полнотой информации, воспринимаю всё поверхностно, не понимая сути происходящего и, они, конечно, знали об Олеге больше, чем рассказали мне. Его слова прозвучали так серьезно, и были наполнены таким внутренним убеждением, подразумевая такие тайны на уровне чего-то чуть ли не потустороннего, что это всё никак не вязалось с нашим прежнем, легковесным, любительским желанием пройтись по Горе и выяснить чуть ли не сразу, с наскока, природу того Знака, о котором Олег сообщил Владе вчера. Тема о Хозяине, озвученная так неожиданно этим партенитским исследователем древних тайн Аю-Дага, была слишком серьезной для моих ялтинцев, и, в первую очередь, для Михаила.



