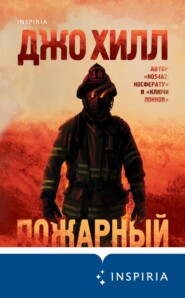
Полная версия:
Пожарный
– Не переживай. У меня в спортивной сумке есть одежда, – сказал Джейкоб. – Эти вещи ты не трогала.
– Куда ты поедешь?
– Да с какого хрена мне знать? Понимаешь, что ты наделала?
– Прости.
– То-то. Теперь я не так боюсь того, что мы оба сгорим заживо.
Харпер подумала, что если от гнева он меньше боится, то это правильно. Она хотела, чтобы все было правильно.
– Ты можешь ночевать в управлении? – спросила она. – И не контактировать с другими парнями?
– Нет, – сказал он. – Но Джонни Дипено мертв, а ключи от его маленького трейлера-развалюхи висят у него в шкафчике. Там перекантуюсь. Помнишь Джонни? Он водил «фрейтлайнер» номер три.
– Я не знала, что он болел.
– Он не болел. Заразилась его дочь и сгорела заживо, а он спрыгнул с моста через Пискатакву.
– Я не знала.
– Ты работала. Ты была в больнице. И домой не приходила. А я не хотел писать об этом сообщение. – Он замолчал, опустив голову; глаза прятались в тени. – И я им почти восхищаюсь. Ведь он понял: он видел все лучшее, что могла предложить ему жизнь. Уяснил, что нет смысла околачиваться тут еще хоть одну сраную минуточку. Джонни Дипено пил «будвайзер», смотрел футбол, голосовал за Дональда Трампа – хладнокровный придурок, который в жизни не читал ничего серьезнее журнала «Пентхаус», но тут он сумел сообразить. Пойду блевать, – сказал вдруг Джейкоб прежним тоном и поднялся на ноги.
Харпер прошла за ним в прихожую. Он отправился не в ванную при хозяйской спальне – видимо, та была уже под запретом, поскольку ею недавно пользовалась Харпер. Джейкоб зашел в маленький туалет под лестницей. Стоя в прихожей, Харпер слушала, как его рвет за закрытой дверью, и старалась не расплакаться. Не стоит лезть со своей тоской, нагружать его своими эмоциями. И все же хотелось, чтобы Джейкоб сказал что-нибудь ласковое, посмотрел на нее с сочувствием.
Зашумела вода в унитазе, и Харпер отступила в гостиную, чтобы дать Джейкобу пройти. Она встала у его стола, за которым он писал вечерами. Джейкоб оказался на должности заместителя начальника портсмутского Управления общественных работ почти случайно – он собирался стать романистом. Бросил колледж, чтобы писать, и с тех самых пор работал над книгой – вот уже шесть лет. Он написал 130 страниц и никому не давал почитать, даже Харпер. Назывался роман «Плуг разрушения». Харпер никогда не говорила ему, что название ей не нравится.
Джейкоб вышел из туалета и остановился у порога гостиной. Он где-то нашел свою бейсболку с надписью «фрейтлайнер» – Харпер всегда считала, что он носит ее для смеха, как бруклинские хипстеры носят кепки «Джон Дир». Если еще носят. И если вправду носили когда-нибудь.
Налитые кровью глаза под козырьком смотрели мутно. Харпер подумала, что Джейкоб, возможно, плакал в туалете, и ей стало чуть легче.
– Тебе придется подождать, – сказал он.
Она не поняла и посмотрела на него вопросительно.
– Через сколько дней мы будем точно знать, заразился ли я? – спросил он.
– Через восемь недель, – ответила она. – Если ничего не появится к концу октября, то ничего и нет.
– Хорошо. Восемь недель. По-моему, это фарс – мы оба понимаем, что раз ты больна, то и я заражен, – но подождем восемь недель. И если мы оба больны, сделаем все вместе, как договаривались. – Он помолчал, уставившись на свои ноги, потом кивнул: – А если я здоров, я буду с тобой, когда ты сделаешь это.
– Что мы сделаем вместе?
Он посмотрел на нее с непритворным удивлением:
– Убьем себя. Господи. Мы же говорили об этом. О том, что будем делать, если заразимся. Мы согласились, что лучше всего – просто заснуть. Чем ждать, пока сгорим.
Харпер почувствовала в горле такой тугой комок, что уже не знала, сможет ли произнести хоть слово. Однако смогла:
– Но я беременна.
– Теперь ты точно не сможешь родить.
Харпер сама поразилась: впервые тупая сердитая уверенность Джейкоба обидела ее.
– Нет, ты не прав, – сказала она. – Я не специалист, но все же больше тебя знаю об этих спорах. Есть исследования – серьезные исследования, – в которых показано, что зараза не может преодолеть плацентарный барьер. Споры проникают везде, в мозг, в легкие… всюду, но не туда.
– Хрень собачья. Нет таких исследований. Они просто хотят оправдаться за трату бумаги, на которой напечатан отчет. Центр контроля заболеваний в Атланте – кучка пепла. Никто больше не изучает эту сволочь. Время науки прошло. Настало время прятаться и надеяться, что эта дрянь сожжет сама себя прежде, чем испепелит весь мир. – Он сухо рассмеялся своей шутке.
– Но ееизучают. Все еще. В Бельгии. В Аргентине. Ладно, не веришь мне, и не надо. Поверь вот чему. В июле мы в больнице приняли здорового ребенка у инфицированной роженицы. В отделении педиатрии устроили праздник. Мы ели растаявшее вишневое мороженое и все по очереди держали ребенка. – Харпер не стала говорить, что медицинский персонал проводил с ребенком куда больше времени, чем его мать. Врач не позволял ей даже прикасаться к сыну и вынес его из палаты, а она кричала и звала его, просила показать еще хоть разок.
Лицо Джейкоба дрогнуло. Губы сжались в белую линию.
– И что? В этом дерьме – сколько еще протянет человек? При лучшем прогнозе? После того, как появятся полоски?
– У всех по-разному. Есть люди, которые еще живы с самого начала эпидемии. Я могу протянуть…
– Три месяца? Четыре? Сколько в среднем? Вряд ли в среднем хотьпару месяцев. А ты узнала, что беременна, только десять дней назад. – Он недоверчиво покачал головой. – И чем ты можешь нам помочь?
– Ты про что? – Ей было тяжело уловить ход его мыслей.
– Чем ты можешь нам помочь? Ты говорила, что принесешь эту штуку – которую мне стоматолог давал, когда канал просверлил.
– Викодин.
– Его же можно растолочь?
Ее пояс развязался, и платье распахнулось, но уже не было сил поправлять, даром что она не хотела тревожить Джейкоба видом зараженного тела.
– Можно. Наверное, самый безболезненный способ покончить с собой. Таблеток двадцать викодина – и все.
– Так мы и сделаем. Если у обоих будет чешуя.
– Но у меня нет викодина. И не было никогда.
– Почему? Мы же это обсуждали. Ты сказала, что достанешь. Что украдешь немного из больницы, и если мы заболеем, то будем пить вино, слушать музыку, а потом примем таблетки – и в путь.
– Я забыла прихватить их по дороге из больницы. Слишком торопилась, чтобы не сгореть заживо. – И все же, подумала она, получается, что избежать этого не удалось.
– Ты притащила домой драконью чешую, но не удосужилась принести что-нибудь для нас. И в довершение всего забеременела. Господи, Харпер. Ну и месяц ты нам устроила. – Он сухо рассмеялся, словно залаял. Потом сказал: – Может, я смогу чем-нибудь разжиться для этого дела. Если нужно, пушку добуду. У Дипено по всему сраному пикапу приляпаны наклейки Стрелковой ассоциации. Наверняка там есть что-нибудь.
– Джейкоб. Я не собираюсь убивать себя, – сказала Харпер. – О чем бы мы ни говорили до того, как я забеременела, теперь все это не имеет значения. У меня драконья чешуя, но у меня и ребенок в утробе. Ты не считаешь, что это все меняет?
– Да хрен там. Это еще даже не ребенок. Это кучка бессмысленных клеток. И потом, я же знаю тебя. Если бы с ним было что-то не так, ты бы сделала аборт. Ради бога, ты же работала в этой чертовой больнице. Каждое утро ты входила туда, а люди кричали, что ты детоубийца.
– С ребенком все в норме, и в любом случае я бы не стала… это не значит, что я бы…
– Я считаю, испечься в утробе – не совсем нормально. Не согласна?
Джейкоб обхватил себя руками. Харпер видела, как он дрожит.
– Давай подождем. Посмотрим, подцепил ли я тоже эту хрень, – сказал он наконец. – Может быть, в следующие восемь недель мы вернемся к тому, с чего начали. Может быть, ты будешь смотреть на вещи уже не так эгоистично.
Хотя Харпер и велела Джейкобу уезжать из дома, на самом деле она не хотела его отпускать. Надеялась, что он решит остаться неподалеку: к примеру, будет ночевать в подвале. Страшно представить, что она останется один на один с болезнью; она так нуждалась в его спокойствии, его уравновешенности, пусть даже он больше не будет обнимать ее.
Но что-то изменилось за последние шестьдесят секунд. Теперь она была готова к тому, что он уйдет. Так будет лучше для нихобоих, подумала Харпер, а она останется в темном тихом доме, в одиночестве – чтобы подумать, или не думать, а молча сидеть, или плакать, или заниматься чем придется – не видя его ужаса и сердитого отвращения.
Он сказал:
– Я поеду на велосипеде до управления. Возьму ключи от трейлера Джонни Дипено из его шкафчика. Вечером позвоню.
– Не тревожься, если я не отвечу. Может быть, отключу телефон, когда пойду спать. – Она вдруг рассмеялась горьким смехом. – А вдруг я проснусь, а все это был дурной сон.
– Ага. Будем надеяться, миладевочка. Только если это дурной сон, он снится нам обоим. – Тут он улыбнулся как-то нервно – и на мгновение снова стал ее Джейком, ее старым другом.
Он уже шел к двери, когда она сказала:
– Не говори никому.
Он остановился, держась за задвижку.
– Хорошо. Не скажу.
– Не хочу в Конкорд. Я слышала много рассказов о тамошних нравах.
– Ага. Говорят, это лагерь смерти.
– Ты не веришь?
– Верю, конечно. Туда попадают зараженные. И всех их ждет смерть. Вот и получается лагерь смерти. По определению. – Он раскрыл дверь навстречу жаркому, дымному дню. – Я не отправлю тебя туда. В этом мы заодно. Я не отдам тебя какому-то безликому учреждению. Сами справимся.
Харпер подумала, что Джейкоб хотел ее утешить такими словами, но она почему-то не утешилась.
Он спустился по ступенькам на дорожку, ведущую к гаражу, и скрылся из виду. Дверь он оставил открытой, словно ждал, что Харпер выйдет и будет смотреть ему вслед. Будто так положено. Может, и положено. Харпер завязала пояс платья, прошла через небольшую прихожую и встала в дверях. Джейкоб вынес велосипед на плече к дороге. Не оглядываясь.
Харпер подняла голову и посмотрела на Портсмут. Грязное небо придавило белую колокольню Северной Церкви. Дым теперь постоянно висел над городом. Харпер где-то читала, что 12 процентов Нью-Гемпшира горит, но не могла в это поверить. Конечно, это еще неплохо, по сравнению с Мэном. В местных новостях теперь только и говорили, что о Мэне. Пожар, вспыхнувший в Канаде, уже добрался до магистрали I-95, разрезав штат пополам выжженной пустошью почти в сотню миль в самой широкой точке. Потушить это мог бы дождь, но жар сводил на нет все попытки погоды. Синоптик Национального общественного радио сказал, что дождь испаряется, как плевок на раскаленной печи.
В небо поднимались бурые, грязные кольца дыма над музеем «Стробери Бэнк». Теперь все время что-нибудь горело: дом, магазин, машина, человек. Поразительно, сколько дыма может дать человеческое тело, охваченное огнем.
Стоя на пороге, Харпер видела дорогу до кладбища на Южной улице. По кладбищу, по узкой аллее медленно катилась машина, словно водитель выбирал место на забитой парковке. Вот только стекло на пассажирском окне было опущено, и оттуда вырывалось пламя. Салон машины был охвачен огнем, и Харпер не могла разглядеть человека за рулем.
Она следила за тем, как автомобиль скатился с дороги в траву и застыл, уткнувшись в могильный камень. Только тут Харпер спохватилась и вспомнила, что вышла посмотреть, как уезжает Джейкоб. Она поискала его глазами, но уже не нашла.
Сентябрь
8Через два дня ее левая рука стала похожа на лист нотной бумаги. Четкие черные линии оборачивались вокруг предплечья, тонкие, как паутина, и словно покрытые золотыми нотами. Харпер каждые несколько минут подтягивала рукав, чтобы взглянуть на партитуру. К концу следующей недели вся рука была покрыта драконьей чешуей от запястья до плеча.
Однажды она стянула с себя блузку и посмотрелась в зеркало на шкафу; она увидела прямо над бедрами черно-золотую татуировку, похожую на пояс. Справившись с приступом тошноты, Харпер все же призналась себе, что вышло довольно симпатично.
Иногда она раздевалась до белья и рассматривала при свечах разукрашенную кожу. Спала она не много, и эти осмотры обычно происходили вскоре после полуночи. Точно так же, как в колеблющемся пламени можно разглядеть лицо, а в узорах на деревянной доске – чью-то фигуру, она видела намеки на образы, спрятанные в «чешуе».
Обычно в это же время Джейкоб звонил из трейлера мертвеца – ему тоже не спалось.
– Решил проверить, – говорил он. – Узнать, как ты день провела.
– Болталась по дому. Доела последние макароны. Пыталась не превратиться в кучку пепла. А как ты?
– Жарко. Тут жарко. Все время жарко.
– Открой окошко. На улице прохладно. Я все окна открыла, и мне хорошо.
– Да я тоже все открыл и все равно жарюсь. Как в духовке.
Ей не нравилось, с какой злостью он говорил об этом и как зациклился, воспринимая жару как личное оскорбление.
Харпер старалась отвлечь его, рассказывая о себе спокойным, беззаботным тоном.
– У меня появился завиток из чешуи на внутренней стороне левой руки; похож на открытый зонтик. Зонтик, уносимый ветром. Может, у чешуи есть художественный вкус? Может, она реагирует на то, что у человека в подсознании, и пытается нарисовать на коже то, что может ему понравиться?
– Не хочу говорить о хрени, которая тебя покрывает. Меня трясет, как только подумаю об этой мерзости на твоей коже.
– Приятно слышать. Спасибо.
Он резко, сердито выдохнул:
– Извини. Я ведь… я ведь вовсе не бессострадательный.
Харпер рассмеялась – удивив не только Джейкоба, но и саму себя. Старый добрый Джейкоб иногда так причудливо подбирал слова. «Бессострадательный». В колледже его специализацией была философия – пока он не бросил учебу, – и он по старой привычке иногда шерстил словари в поисках правильного слова, которое необъяснимым образом оказывалось неправильным. И часто он поправлял правописание у Харпер.
И почему, лениво подумала Харпер, нужно было заразиться, чтобы заметить, что брак трещит по швам.
Он снова начал:
– Прости. В самом деле. Я просто закипаю. Трудно даже соображать.
Сквозняк пронесся по комнате, лизнув Харпер прохладой по голому животу. Она не представляла, как Джейкобу может быть жарко, где бы он ни находился.
– Мне подумалось – не начала ли драконья чешуя рисовать зонтик Мэри Поппинс на моей руке. Знаешь, сколько раз я смотрела «Мэри Поппинс»?
– Драконья чешуя не реагирует на твое подсознание. Это ты сама реагируешь. Ты видишь то, что готова увидеть.
– Разумно, – согласилась она. – Но знаешь что? В больнице лежал садовник, так у него на ноге были рисунки – совсем как ползучие лианы. Можно было разглядеть крохотные листочки. Все говорили, что похоже на плющ. Как будто драконья чешуя в рисунке выразила суть дела всей его жизни.
– Она всегда так выглядит. Похоже на терновые ветки. Не хочу об этом говорить.
– Да, возможно, в моих мозгах ее еще нет, так что она не может знать обо мне все. Она добирается до мозга несколько недель. Мы пока на стадии знакомства.
– Господи, – сказал Джейкоб. – Я тут заживо сгорю.
– Увы, ты обратился за сочувствием не по адресу, – ответила Харпер.
9Ночи через две она налила себе бокал красного вина и прочитала первую страницу книги Джейкоба. Харпер решила: если роман окажется неплох, то в следующем телефонном разговоре она признается, что прочитала немного, и расскажет, как ей понравилось. Он не рассердится, что она нарушила обещание не трогать рукопись без разрешения. У нее смертельная болезнь. Правила можно изменить.
Хватило одной страницы, чтобы понять, что ничего хорошего там нет; Харпер перестала читать и снова почувствовала себя нехорошо, словно чем-то обидела Джейкоба.
Немного погодя, после второго бокала – два ребенку не повредят, – Харпер прочитала тридцать страниц. Тут пришлось остановиться. Невозможно было читать дальше и по-прежнему любить Джейкоба. Честно говоря, и тридцати-то оказалось многовато – стоило остановиться страницы три назад.
Главный герой романа, бывший студент-философ Дж., разочаровался в бесперспективной карьере в Управлении общественных работ и бесперспективном браке со смешливой поверхностной блондинкой, которая не знала правописания, читала подростковые романы из-за умственной неготовности к серьезной литературе и была неспособна понять переживания мужа. Чтобы смягчить разочарование, Дж. заводит серию случайных романов; женщин Харпер узнала без труда: подруги по колледжу, учительницы начальной школы, бывший тренер. Харпер решила поначалу, что все эти приключения – выдумка, но ложь, которую Дж. скармливал жене – где он пропадал и чем занимался, пока на самом деле был с другой женщиной, – слово в слово совпадала с реальными разговорами Харпер и Джейкоба.
Однако больше всего ее поразили даже не клинически подробные отчеты о любовных похождениях. Гораздо отвратительнее было презрение главного героя.
Он ненавидел мужчин, которые водили грузовики Управления. Ненавидел их жирные рожи, жирных жен и жирных детей. Ненавидел то, как они копят целый год, чтобы купить к футбольному матчу билеты на самые дорогие места. Как радуются несколько недель после игры и как рассказывают об этой игре, будто речь идет о битве при Фермопилах.
Он ненавидел всех подруг жены – своих друзей у Дж. не было – за то, что они не знают латыни, пьют дешевое пиво, а не специальное домашнее, и растят следующее поколение перекормленных, избалованных людей-манекенов.
К жене он относился не с ненавистью, но с любовью, какую обычно мужчина может испытывать к игривому щенку. Ее готовность без колебаний принять любое мнение и суждение мужа одновременно и разочаровывала его, и немного забавляла. Все, что он заявлял, она немедленно принимала за чистую монету. Он даже устроил из этого игру. Если она готовилась к приему гостей целую неделю, потом он говорил, что никому не понравилось – хотя вечеринка была грандиозная, – и она принималась плакать, соглашалась с ним и бежала покупать книги о том, как правильно устраивать вечеринки. Нет, он не испытывал ненависти. Но жалел ее и жалел себя – из-за того, что был к ней прикован. И еще у нее глаза на мокром месте, что для него, как ни странно, означало поверхностность чувств. Женщина, которая плачет над клипами Общества защиты животных, вряд ли с той же яростью будет выступать в защиту человека в наш жестокий век.
Вот что содержалось в книге – язвительный гнев Джейкоба и жалость к себе – и написано было плохо. Бесконечно тянулись абзацы, бесконечно тянулись предложения. Иногда ему требовалось слов тридцать, чтобы добраться до глагола. Чуть ли не на каждой странице он норовил втиснуть строчку на греческом, французском или немецком. Там, где Харпер понимала эти афоризмы, ей казалось, что вполне можно было написать то же самое по-английски.
Харпер не могла не вспомнить сказку о Синей Бороде. Она не вытерпела, пошла и заглянула в запретную комнату, которую ей не полагалось видеть. И нашла за запертой дверью не трупы, а позор. Даже ненависть было бы легче простить. Когда ненавидишь человека, значит, он хотя бы стоит твоей страсти.
Джейкоб никогда не говорил прямо, о чем его книга, хотя иногда бросал изящные намеки: «об ужасах обыденной жизни» или «о человеке, потерпевшем душевное кораблекрушение». Но они часто, отдыхая в постели после секса, подолгу беседовали о том, какой станет их жизнь, когда роман напечатают. Джейкоб надеялся, что денег хватит, чтобы купить пристанище на Манхэттене (Харпер не понимала, почему бы не назвать это просто «квартирой», но верила, что разница есть). Она с восторженным придыханием мечтала о том, как здорово он будет выступать на радио: остроумно, и талантливо, и скромно; надеялась, что его позовут на Национальное общественное радио. Они говорили о том, что придется купить, с какими знаменитостями встретиться, и все это оказалось грустным и дешевым обманом. Жаль, что она свято верила, будто он обладает блестящим умом, но еще хуже оказалось то, что он и сам в это верил – безо всяких оснований.
И ее поражало, что он, написав такую ужасную книгу, оставлял ее на видугодами. Он был уверен, что Харпер не прочтет, потому что он запретил, и не сомневался в ее послушании. Вся ее самооценка строилась на том, чтобы делать то, что он хочет, и вести себя так, как он скажет. Конечно, он был прав. Роман не был бы столь ужасен, если бы не содержал значительную долю правды. Харпер открыла «Плуг разрушения» только потому, что умирала.
Харпер сложила рукопись обратно на стол аккуратной хрустящей стопкой, подровняв уголки. Пачка с чистой белой титульной страницей и чистым белым обрезом выглядела невинно, как свежезастеленная постель в шикарном отеле. Люди вытворяют неописуемые безобразия в гостиничных постелях.
Подумав, она придавила стопку бумаги коробкой кухонных спичек, использовав ее как пресс-папье. Если драконья чешуя задымится и начнет чесаться, пусть спички будут под рукой. Если ей суждено сгореть, будет справедливо, что сначала сгорит эта сраная книга.
10В следующий раз он позвонил почти в час ночи, но она еще не спала, работала над своей книгой для ребенка, которая начиналась так:
«Привет! Это твоя мама, в виде книги. Вот как я выглядела, пока не была книгой».
Прямо под надписью Харпер приклеила свою карточку – отец сфотографировал, когда ей было девятнадцать и она работала инструктором по стрельбе из лука в Эксетерском управлении парков. На фотографии – долговязая девчонка со светлыми волосами, торчащими ушками, костлявыми мальчишескими коленками и царапинами на внутренней стороне предплечья из-за несчастных случаев с тетивой. Впрочем, девчонка симпатичная. Солнце на фотке светило из-за ее спины, окрашивая волосы золотом. Джейкоб говорил, что на фото – ангел-подросток.
Под карточкой Харпер прилепила лентой серебристый отражающий квадрат – вырезала из рекламы в журнале – и написала: «Мы похожи?»
У нее была куча идей – что должно быть в этой книге. Рецепты. Полезные советы. Хотя бы одна игра. Тексты ее любимых песен, которые она пела бы малышу: «Люби меня», «Мои любимые вещи», «Капли дождя падают мне на голову».
Не должно быть никаких девчачьих драм – если получится. Работая школьной медсестрой, она всегда стремилась походить на Мэри Поппинс: старалась сохранить доброжелательное спокойствие, уверенность, терпимость к играм, но при этом – и убежденность, что лекарство проскочит с ложечкой сахара. Если детям казалось, что она может вдруг запеть или пустить фейерверк из зонтика, она не спорила.
Она хотела, чтобы книга для ребенка была пронизана подобным настроением. Вопрос только в том, чего хочет ребенок от матери; ответ – пластырь для царапин, колыбельная на ночь, доброта, что-нибудь сладенькое после школы, кто-нибудь, кто поможет с уроками и кого можно обнять. Харпер еще не придумала, как научить книгу обниматься, зато прикрепила степлером к обратной стороне обложки дюжину пластырей и добавила четыре влажные салфетки в упаковке. Эта книга – «Подручная мама» – станет отличным подспорьем.
Когда зазвонил телефон, Харпер сидела перед телевизором – он работал непрерывно и не отключался уже полгода, не считая тех случаев, когда пропадало электричество. Сейчас электричество было, и Харпер устроилась перед экраном, хотя, занятая книгой, не обращала на телевизор внимания.
Впрочем, смотреть было нечего.FOX продолжали вещание, но уже из Бостона, а не из Нью-Йорка. NBC выходили из Орландо. CNN вещали из Атланты, но вечерние новости вел человек по имени Джим Джо Картер, баптистский священник, и рассказывал он все время о людях, которых уберег от заразы Иисус. И еще оставались HSB – Патриотическое вещание, передавали или местные новостные программы, или помехи. HSB вещали с базы Куантико в штате Вирджиния. Столица, Вашингтон, по-прежнему горела. Как и Манхэттен. У Харпер был включен канал FOX. Зазвонил телефон. Она подняла трубку и поняла, что это Джейкоб, еще до того, как он заговорил. Он странно, чуть придушенно дышал и сначала просто молчал.
– Джейкоб, – сказала она. – Джейкоб, поговори со мной. Скажи что-нибудь.
– У тебя включен телевизор?
Харпер отложила ручку.
– Что случилось?
Харпер не знала, как вести себя, когда он позвонит. Она боялась, что не сумеет сдержать возмущение. Если Джейкоб услышит враждебность в ее голосе, то захочет узнать причину, и придется рассказать. Она никогда не умела от него что-то утаивать. А говорить о книге не хотелось. Не хотелось даже думать. Она беременна, в ее теле поселился огнеопасный грибок, и еще она узнала, что горит Венеция и теперь ей уже не поехать смотреть на город из гондолы. При всех напастях ждать от нее литературной критики его дерьмового романа – это чересчур.
Но Джейкоб рассмеялся – грубо и невесело, – и этот звук заставил ее забыть о возмущении. По крайней мере, пока. Кто-то в голове спокойным, профессиональным тоном произнес: «Истерика». Господи, уж этого она насмотрелась за последние полгода.

