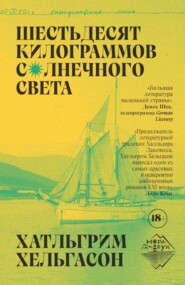скачать книгу бесплатно
– Что сделал Гест?
– Он забрался на стол и допил кофе из твоей чашки, – объяснила Малла, как следует утирая кофейную бороду ребенку, которого держала на руках.
– Кофа – нефкусна! – сказал Гест и помотал головой, а вся семья рассмеялась счастливым смехом, в котором также слышалась радость по поводу самой способности рассмеяться. До того здесь не смеялись годами.
Вначале торговец воспринимал этого грязного ребенка лишь как побочное следствие полного взыскания долга со своего должника – что было исключительно важно, просто необходимо, – а иначе что же начнется в стране, если все начнут сбегать от больших долгов и наказаний в другие, менее важные части света? И ладно бы еще только должники – так ведь и воры, и убийцы – убийцы пасторов! Из этого негодяя нужно бы извлечь как можно больше пользы, прежде чем его примет тюрьма: сислюманн говорил, что дело будет рассмотрено к осени.
Когда нищий мальчишка, сын убийцы, Гест Эйливссон, впервые оказался у него на руках несколько недель назад на Лужице, господин Эдвальд Копп даже не стал бы засчитывать его в качестве первой выплаты вместо пресловутых 99 форелей: тогда, в лодке, идущей в гавань, он и держал его так, как щеголь держит рваный угольный мешок. И все же это тотчас затронуло в нем необычную струнку, тон которой был жадным и ровно в той же степени – отеческим. Каким-то непостижимым образом мальчик мгновенно установил с ним контакт, светлым, как волна, майским вечером его большие серо-голубые глаза тотчас крепко присосались к его собственным карим зрачкам. Однако на верхней полке в сознании Коппа уже лежало решение в том духе, что ребенка он пристроит в семью приказчика Эгмюнда. Эгмюнд сделал бы ради него что угодно, а его жена Раннвейг по сути была матерью-наседкой, и один лишний рот не сильно разорил бы это обтерханное, но в остальном отличное гнездышко.
И все же нельзя было отрицать: в этом ребенке было что-то особенное – как он смотрел на тебя, как улыбался, сверкая глазками, и как он отнесся к исчезновению своего отца, с выдержкой, напоминающей реакцию прагматичного политика, которому вообще-то жаль законопроекта, отклоненного парламентом, но он решает, что лучше забыть его и обратиться к следующему делу. Каким-то подобным образом Гест и обратился к пышноусому кареглазому человеку, который пах как кухонный дым, только как-то по-другому, и сидел под ним в лодке сислюманна. Тогда Копп в конце концов усадил мальчика – этот мешок с углем – к себе на колено, и оттуда мальчик взирал на него снизу вверх, пока блюститель порядка перевозил их с сислюманном через Лужицу. В глазах ребенка не было отчаяния, только надежда. Однако каким-то неуловимым образом было ясно, что мальчик вполне отдает себе отчет, что больше не увидит своего папу. Ребенок принял эту кончину отца со спокойствием старца: будь что будет! Того, кто не изведал в жизни ничего, и того, кто изведал все, объединяет бесстрашие, доступное лишь в крайних точках жизненного пути. А в середине поля люди бредут вперед, в состязании горя и радости, по колено в грязи, и отмечают победы и поражения горьким плачем или раскатистым хохотом.
Похоже, двухлетний мальчуган почувствовал, что ему уготована лучшая жизнь под этой темной навощенной бородой, чем под знакомыми седеющими клочьями волос.
Новая глава, новое приключение!
По крайней мере, он поднял сильный рев, когда красивый, знатный и пышноусый Копп попытался передать его носатому береговому мальчишке, чтобы тот добежал с ним до Эгмюндова дома. При этом ребенок крепко схватил торговца за бороду и не отпускал. Вот откуда, черт возьми, у такого маленького такая хватка? Торговец морщился от боли и хотел бы поскорее отделаться от этого грязного малявки, сына убийцы.
Но через некоторое время тот же мальчишка-носатик с тем же малявкой стоял на высоком крыльце дома торговца и сообщал, что у Эгмюнда дома никого не было, во всяком случае, никого старше семи лет: у них там младший обжегся, и родители повели его к врачу. Копп кое-как согласился, хотя и фыркнул, и взял этого Геста к себе на одну ночь, сказав, что наутро его отведет туда Малла. Но едва ношу перенесли через порог, тут же почувствовал: мальчуган пустит в этом доме корни так же быстро, как кошка выпускает когти. Так и вышло: через несколько секунд прискакали его дочери и давай нахваливать мальчика, качать его на руках и смеяться. Торговец стоял поодаль и наблюдал, как Сигрид и Теодора растворяются в этом большом белом широком детском личике с такими большими серо-голубыми вопрошающими глазками, которые зажглись словно две сияющие цветные сказочные луны на темном небосклоне этого дома и подняли их души, словно прилив. Гест появился здесь как раз в нужный момент, именно он и был нужен этой семье – скукоистребительный комочек радости, который никому не желал зла, а себе желал всего.
У супругов Коппов родились четыре дочери, две из которых умерли еще в колыбели, а две выросли. Торговцу, конечно же, хотелось сына. В ливерпульском порту он много лет назад видел вывеску: “Langley & Sons” – и пообещал себе, что такая же надпись однажды встретит всех приплывающих во фьорд: «Копп & сыновья» – написанная громадными черными буквами на фасаде большого склада, который он задумал построить на самой оконечности косы. Но прибавлений в его семействе, очевидно, больше не предвиделось: схоронив двух детей, фру Ундина отлучила его от своего ложа.
Ее тело, судя по всему, не было расположено к дальнейшему плодоношению. В возрасте 35 лет она увяла словно растение. В этом было что-то ненормальное; два «тик-так» смерти тронули ее морозом и бледностью. Ее формы, прежде вызывавшие зависть, превратились в скрипучие прутья корзины. Она перестала чувствовать аппетит: к еде, к мужчине, вообще к чему бы то ни было. В отличие от нее, супруг с годами, напротив, все ширился и сейчас накопил себе на брюхе порядочную прослойку – а все благодаря своему суровому подходу к бедноте. Хотя он был на добрый десяток лет старше жены, в нем было больше молодого задора, больше жажды жизни. Копп был человеком в расцвете сил. Торговля и рыбный промысел шли хорошо, планы большей частью осуществлялись, уважение к нему по-прежнему росло, что он и сам чувствовал, когда гулял по городу и ловил на себе то тут, то там взгляды, даже от самых юных барышень. Единственным, что омрачало его жизнь, было состояние супруги, ее безрадостность и молчание. Казалось, смерть объявила ее своей собственностью, но решила оставить на потом.
Супруги больше не соприкасались друг с другом, и виною тому был не только горестный холод, исходивший от жены. У Коппа не осталось к ней ни малейшего физического влечения, сколько бы он ни искал в самых дальних закоулках своего сознания. Его душа уподобляла ее бедренные кости углам стола, ребра – стиральной доске, грудь – краю полки. Его подсознание сейчас заполняло другое тело. Он порой слышал знаменитую строчку «Та единственная мягкость, что плоти твердость придает» и видел перед собой будоражащие контуры бывшей экономки, пышнотелой Октавии Пьетюрсдоттир с острова Хнисей, которую он обрюхатил на чердаке своей лавки и услал прочь, пока ее положение не стало заметным. О, какое тело, какой шар наслаждений, даже в свое отсутствие оно зачаровывало его – через моря и страны. Экономка отправилась на остров рожать, но потом ее вновь отбросило с него, ребенка она отдала, а потом скрылась из виду на Западе. Копп разыскал этого ребенка – девочку – и отдал на воспитание верным Эгмюнду и Раннвейг – это часом не она тогда обожглась? Зато, из чистой любви, ему удалось удерживать фру Ундину в неведении относительно внебрачного ребенка. У Коппа было еще двое таких, в разных концах фьорда, и обе – дочери. А теперь, значит, появился и мальчик, малец, паренек – сын?
Не успел Гест провести в доме и суток – к неописуемой радости дочерей семейства – как торговец начал подумывать оставить его себе. Его разум, быстрый в финансовых делах, уже принялся составлять фразы для Эйлива, к его возвращению из первого рейса в акулопромышленном сезоне, в счет отработки форельного долга. «Я также могу предложить тебе обеспечивать мальчика. И тогда мы в расчете». Но, конечно же, ему не стоило беспокоиться, ведь по осени этого долговязика ушлют в датскую тюрьму.
Во время утреннего мочеиспускания торговец дивился тому абсолютно нелогичному обстоятельству, что он так крепко привязался к этому сыну преступника. Но едва он вновь вошел и посмотрел на щеки юного Геста, все его сомнения улетучились: было ясно видно, что в этой головушке – свет, а не мрак. Однако поделиться своей идеей насчет сына с женой Копп не решался. Фру Ундина в основном обреталась на верхнем этаже дома, где скользила по половицам как привидение, бормоча обрывки библейских текстов, а Геста только мельком видела на руках у экономки Маульфрид, когда та водворила его в кухню перед началом обеда в столовой.
– Мама, Гест с утра кофе у папы выпил!
– Кто что ест с утра?
– Да нет же! Гест! Мальчик!
– Да? Его Гест зовут?
– Ну мама. Ты же… Вы же это знаете! И с тех пор у него понос не прекращается! Кофейного цвета! Ха-ха-ха!
– Тедда. Ну не за столом же! – сделал замечание отец.
Воцарилось молчание, нарушаемое лишь стуком ложек, достигающих дна в супе, чиркающих по фарфору с железным звуком, и громким чавканьем мальчика, доносящимся из кухни. Затем фру оставила свою ложку в ополовиненной тарелке, вытерла рот салфеткой, коснувшись лишь самой вершиной белоснежного треугольника той трубочки, в которую она вытянула свои сухие запекшиеся губы, и произнесла сильно подытоживающим тоном:
– А кто его мать?
– Это вы о чем? – послышалось в ответ из-под усов.
– Кто его мать?