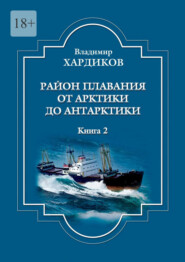скачать книгу бесплатно
Так что наши «малыши» были гигантами по сравнению с военными кораблями не такого уж далекого прошлого.
Вот эти работяги и были первыми. За ними последовал черед уже разномастных судов, следовавших за полярный круг и Берингов пролив: в Певек, Тикси, колымские речные порты, Черский, или, как его называют по-другому, Зеленый Мыс, и многие другие богом забытые места.
Один из уже упомянутых «Пионеров» «Коля Мяготин», вопреки сложившейся традиции, изрядно задержался, работая на перевозке круглого леса на Японию, что было более чем странно, хотя в предварительной заявке северного завоза он и был заявлен. Перевозка круглого леса на твиндечном маленьком судне сама по себе является нонсенсом. Возможности лесовоза такого же размера примерно в два раза выше и менее трудоемки. Его трюмы не имеют твиндечных перекрытий, и докеры как при погрузке, так и при выгрузке затрачивают намного меньше усилий, экономя время обработки судна у причалов, когда следующие вынуждены простаивать из-за таких задержек. При этом лесовоз принимает на палубу до 40% от всего груза, в отличие от обычного многоцелевого судна, принимающего в разы меньше. Его остойчивость и балластные танки для того и созданы, чтобы обеспечить максимальную грузоподъемность конкретного груза. Работа и рентабельность работы твиндечного универсала на таких перевозках не может быть эффективной и рентабельной, но у зрелого социализма свои законы, и посчитать реальную рентабельность при существовавшей методике переводных рублей не смог бы, наверное, и сам Адам Смит.
Скорее всего, сильно поджимали сроки выполнения очередного японского лесного контракта, не хватало нужного тоннажа, да и санкции по его невыполнению были тоже неслабыми, вот и вынуждены были поставить «Пионерчика» под несвойственные ему перевозки. В этой ситуации доволен был лишь его экипаж: домашние рейсы – что может быть лучше, да еще и подработка по приготовлению грузовых трюмов после каждого рейса давала ощутимую прибавку к основной заработной плате.
Тем не менее в августе дошел черед и до «Коли Мяготина», и он стал под погрузку разнородного груза: металл, стройматериалы и т. д. под палящим солнцем во Владивостоке. Уже пять лет судном командовал Валентин Цикунов, сорокалетний невысокий крепыш, везде успевающий жизнерадостный живчик. Он привык к своему судну, был на нем настоящим хозяином, и все судовые проблемы были его личными. В пароходстве он также был на хорошем счету: экипаж не доставлял проблем отделу кадров, служба мореплавания претензий не имела, а управление эксплуатации всегда знало на кого положиться. Экипажи на малышах в основном состояли из молодых пацанов, еще не избалованных Гонконгами и Сингапурами, в отличие от «сорокотов» – так называли на пароходском сленге мореходов, перешагнувших порог сорокалетия. Юнцы только-только стали обладателями паспортов моряка и с большим любопытством открывали для себя каждую страну захода. Романтика рождала любознательность и интересы первооткрывателей. Закончилось японское домашнее плавание, и многие впервые намеревались пересечь северный полярный круг, Берингов пролив и ступить на самое начало Северного пути. С изменением направления работы судна сразу же началась обычная стандартная чехарда: не желающие идти на север в самое летнее время, да еще теряющие значительную часть заработной платы, всяческими способами пытались списаться с судна: кто-то использовал свои связи в кадрах, кто-то принес медицинские липовые справки, да мало ли найдется и других причин. Так или иначе, почти половина экипажа поменялась: пришли новые, в своем большинстве с еще не открытыми визами, чтобы заработать положительные характеристики для последующего визирования. Справедливости ради надо сказать, что в основном сбежали «сорокоты» и приближенные к ним. Все закономерно, недаром говорят: «Лучше северный берег Крыма, чем Южный Сахалин». Трудно осуждать людей за это. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.
Конечным пунктом выгрузки была Колыма и ее самый большой речной порт Зеленый Мыс, как бы в насмешку названный, как и африканская островная республика с географическим названием Острова Зеленого Мыса и государством Кабо-Верде на них. Среднегодовая температура там и там примерно одинакова в цифрах, но цифры эти с разными знаками.
Обычные судовые хлопоты с погрузкой: ругань со стивидорами и их начальством по способам и методам крепления. Одним нужно побыстрее и с меньшими усилиями закидать судно, а дальше хоть потоп, а вторым нужно безопасно пройти два океана с не самыми простыми штормовыми широтами. Вот и проявляется основной философский термин «единство и борьба противоположностей» в полной мере.
Снабжение получено и разнесено, продукты тоже, включая порошковый картофель и консервы, консервы, консервы. Все новобранцы проинструктированы и распределены по вахтам и рабочим бригадам. Боцман Василий еще долго будет ворчать, что заявку не выполнили и многого не хватает.
В двадцатых числах августа вышли из Владивостока, хотя и поздновато уже было – в Арктике режим погоды, ветров и ледообразования уже начинает перестраиваться на зимний лад. Погода благоприятствовала, благо июль—август лучшие месяцы в году – повторяемость штормов минимальная.
Все десять дней перехода пролетели быстро: вахта за вахтой, кинофильмы, вечером предваряемые короткими лекциями, учебные судовые тревоги, судовая учеба, и лишь постепенное понижение температуры напоминало о движении на север.
За мысом Дежнева сильнее стали ощущаться отрицательные температуры, давно забытый лед, становившийся все более сплоченным, и временами налетавшие клочья густого тумана, заслонявшие чукотский берег, явно указывали на движение к штормовым широтам. Пройдя Уэлен, получили указание певекского штаба ледовых операций не пытаться форсировать лед, а следовать в указанную точку, где формируется караван судов для последующей проводки в западном направлении. Начинается настоящая Арктика. В указанной точке уже находилось несколько судов Дальневосточного и Приморского пароходств.
Полярный день еще полностью не сдал свои полномочия, и ночи были еще непродолжительными, но день уже быстро убывал.
Утром, оглашая зычными гудками окружающие ледяные поля, подошли два ледокола: линейный «Адмирал Макаров» и «Капитан Хлебников». На большой скорости прошли вдоль всех собравшихся судов; с линейного ледокола прозвучали инструкции о формировании каравана, порядковых номерах следования судов, дистанции между ними и с другой важной информацией.
А дальше как обычно: дистанция 1—2 кабельтова (200—350 метров), полный ход. Ближайшими к лидировавшему линейному и следовавшему за ним «Хлебникову» выстраивались более современные суда с наиболее высоким ледовым классом, чтобы исключить повреждения корпуса.
Мощность линейщика 36 тыс. лошадей, а «Хлебникова» все-таки 24,6 тыс. на полном ходу. На удивление быстро, за трое с небольшим суток, проскочили до Певека, минуя самый опасный в ледовом отношении пролив Лонга между островом Врангеля и материком, хотя временами попадались и серьезные перемычки, когда ледокол останавливал караван, находил уязвимое место и несколькими челночными ударами пробивал брешь. В проливе Лонга случались сжатия, оба ледокола в этом случае брали на «усы» следовавшие за ними суда и поочередно вытаскивали их в более разреженное место, и затем все следовало в прежней последовательности: напряженные глаза капитанов, не отходящих от тубусов радаров, особенно напряженных во время снежных заносов и полос тумана и тщательно контролирующих дистанцию до впереди идущего судна. Серовато-водянистое небо и бескрайние ледовые поля дополняли и без того мрачную картину, иногда лишь разноображенную лежащими на льдинах нерпами или изредка встречающимися темно-коричневыми моржами на желтоватых от их экскрементов лежбищах. Зверье, видимо, успевшее привыкнуть к постоянным караванам, не спешило уходить под воду, лишь лениво поворачивая головы с бусинками-глазами вслед проходящему каравану.
На рейде Певека ледоколы распустили караван, предоставив каждому выбрать себе якорное место среди разреженного льда Чаунской губы в ожидании дальнейших распоряжений штаба арктических операций и задач ледоколов. По просочившейся информации, сразу же за Певеком наблюдались сплоченные поля тяжелых паковых льдов, и самостоятельное плавание исключалось. Нашему «Пионеру» до устья Колымы оставалось всего-то сто миль – две вахты по чистой воде, но как говаривал еще Суворов: «Чисто было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Так получилось и у капитана Цикунова – «близок локоть, да не укусишь».
Вот и не находил себе места капитан, чувствуя нарастающую тревогу и беспокойство на всем протяжении двух таких медленно текущих суток, которые ему пришлось простоять на рейде в ожидании начала ледокольной проводки. Близилась середина сентября, и пора бы уже прощаться с Арктикой, тем более с таким прогнозом и эти самые два потерянных дня могут очень дорого стоить.
«Пионеры» – довольно удачные суда, построенные немцами, имеющие приличный ледовый класс и показавшие себя с хорошей стороны при плавании во льдах, да и управляемость при различных вариантах загрузки тоже не ударяет в грязь лицом.
Вечером следующего дня поступило указание штаба «Капитану Хлебникову» взять под проводку до устья Колымы цикуновский «Пионер» следующим утром. Вечером того же дня судно было уже на баре Колымы и с наступлением прилива самостоятельно с речным лоцманом на борту направилось вверх по реке, где еще в сотне миль находился арктический Зеленый Мыс.
Грузовые операции проходили споро и деловито, сезонные докеры, завербованные в западных портах страны, работали на редкость слаженно и профессионально. Уложились всего-то за неделю, выгрузив разнообразный груз изо всех четырех трюмов и успев погрузить 2000 тонн металлолома на Японию. Ограничение осадки на баре Колымы не позволяло взять больше.
Погрузка металлолома на Японию была лакомым куском для капитанов всех судов, заходящих в эти забытые богом места: экипажи воспринимали ее как «дар», возмещающий их пребывание на далеком Севере, и заход в Японию вкупе с «подфлажной» валютой всегда рассматривался как капитанский приз. Интриги добавляло то, что в течение года от навигации до навигации накапливались лишь три такие отправки по 2000 тонн, и отдел пароходства, занимающийся арктическим завозом, как мог манипулировал японской шкатулкой, создавая нездоровую конкуренцию среди капитанов всех малых судов: металлолом жаждали получить все, но до последнего момента никто в этом уверен не был.
Валентин Цикунов удостоился такой чести по чистой случайности, хотя и не был особо приближен к телу главного «жреца», распределяющего дары. В самом конце погрузки планируемого на Зеленый Мыс груза выяснилось, что в порт прибыл дополнительный груз назначением на ту же Колыму и отправить его в эту навигацию уже не представляется возможным, «Коля Мягков» был последним судном, следующим туда. Путем долгих уговоров капитана все-таки убедили взять эти самые дополнительные 1500 тонн, хотя он прекрасно понимал, что судно грузилось с тем, чтобы подойти к бару реки с осадкой, не превышающей проходную. С принятием же дополнительного груза осадка значительно превысит допустимую, что приведет к необходимости распаузки (отгрузки части груза) речными мелкосидящими судами на рейде Колымы и создаст лишние проблемы для певекского штаба. Все-таки, несмотря на грядущие неприятности и сложности, он принял груз взамен на обещание погрузки одной из партий японского лома.
Тяжелого разговора и объяснений с начальником арктического штаба в Певеке избежать не удалось, и его горький осадок еще долго оставался в душе Цикунова, но такова уж капитанская доля: вершки и корешки, как в толстовской сказке, настолько перепутаны, что зачастую разобрать их по достоинству просто невозможно.
Уже вовсю пуржило, температуры были стойко отрицательными, ледовые забереги быстро расширялись, грозя очень скоро сковать своим панцирем знаменитую своим недавним зловещим прошлым реку.
Суточный переход до Певека, где предстояла догрузка судна пустыми контейнерами в твиндеки, до Провидения прошел по чистой воде, и казалось, что самое трудное уже позади и Арктика остается за кормой. На судне царили оживление и приподнятое настроение, впереди ждала Япония, как желанная награда за арктический рейс. Среди плавсостава однотипных судов всегда существовало негласное соперничество и сравнение выгодных и невыгодных рейсов их судов, что автоматически переносилось на их капитанов: вот этот капитан может добиться хороших рейсов, а этот не очень; естественно, что под хорошими рейсами понимались заграничные.
Никаких предчувствий грядущих опасностей и в помине не было у всего экипажа, включая капитана. Впереди был Певек с кратковременной стоянкой и погрузкой пустых контейнеров в твиндеки всех трюмов. Фактически судно не выбирало даже половины своей грузоподъемности, в чем были свои плюсы и минусы. В Певеке ждали мощные ледоколы, способные обеспечить безопасное плавание вплоть до чистой воды Берингова пролива с последующим заходом в Провидения до полной загрузки металлоломом и выгрузкой пустых контейнеров.
В Певеке Цикунов в числе других капитанов был приглашен на совещание в штаб арктических операций Восточного сектора. На инструктаже начальник штаба подробно проинформировал о текущей и прогнозируемой ледовой обстановке на трассе от Певека до Берингова пролива. Из его информации становилось совершенно очевидно, что последняя тысяча миль Арктики окажется самой трудной, с непредсказуемыми последствиями.
Айонский ледяной массив, формирующий летнюю ледовую обстановку в Восточном секторе Арктики, в обычные годы выносимый ветрами южных направлений на восток в канадский сектор Арктики, из-за слабых ветров остался на своем месте в нашем секторе. С наступлением осени начинают работать ветры северных направлений и приносят в Восточный сектор паковые многолетние льды, отрываемые от приполярного массива, к которым добавились и мощные льды из района Новосибирских островов. И вся эта свадьба, перемешиваясь между собой и ломая все ранние стереотипы и препятствия, устремилась на восток, в пролив Лонга, который и проливом-то назвать трудно с длиной около 130 километров и шириной до 150 километров. Казалось бы, никаких препятствий для прохождения мощнейших ледовых масс он не может учинить в принципе, но у природы есть свои законы, привычки, особенности и нюансы, непонятные человеку и неизведанные. Посредине пролива с материковой части немного выступает мыс Биллингса, который и является главным действующим субъектом в развернувшейся драме. Многомиллиардным массам льда, находящимся в бесконечной убийственной войне друг с другом, становится тесно в немного сужающемся горле, и, налезая друг на друга, гонимые попутными ветрами и течениями, они начинают сжиматься, уплотняясь и налезая пластами на своих собратьев. При этом толщина льда в считаные дни нарастает до десятков метров, тот превращается в громадные торосы, но все еще сохраняет движение, и если периферийный лед с обеих сторон все-таки краями своего припая успевает зацепиться за береговую отмель, то образуется ледовая река с еще большой скоростью и несокрушимостью, форсировать которую не в силах никакой самый современный ледокол. Дойдя же до мыса Биллингса, самой узкой точки пролива, к тому же немного изменяющего общее направление движения льда, ледяные поля почти прекращают свой безжалостный дрейф и начинают складироваться в «этажерку», на глазах вырастая в высоту. Происходит закупорка широкого горла, исполняющего роль бутылочного горлышка, и надежда на форсирование умирает, разве что в редчайших случаях может смениться или, на худой конец, утихнуть преобладающий северный борей, что сулит какую-то минимальную надежду на некоторое разрежение сжатого, как в черной дыре, льда. И тогда какой-то шанс на проводку остается еще у линейных ледоколов.
Северные ветры работали с середины сентября, и возможность более-менее безопасного форсирования пролива имела место до начала октября, но к 15 октября, когда проходило совещание, все проходы на восток были уже прочно закупорены. Всю предшествующую неделю ветры северных направлений словно сорвались с цепи и привели к полному блокированию движения судов в восточной Арктике. Ко времени подхода «Коли Мяготина» к Певеку на сутки-двое пошло некоторое разрежение. Во время предшествующего натиска ледовой стихии множество судов получили серьезные повреждения, а такой же близнец, как и наш «Коля», по имени «Нина Сагайдак» был раздавлен льдами и затонул в злосчастном проливе Лонга в немногим более ста миль западнее мыса Шмидта. К счастью, жертв, не случилось, экипаж был спасен вертолетами ледоколов.
В настоящее время в Восточном секторе находилось около 150 транспортных судов различных ведомств и двадцать ледоколов, включая четыре атомных вместе с их первенцем «Лениным», три линейных типа «Ермак», четыре линейных меньшей мощности типа «Москва» и десяток других дизель-электрических, но вполне серьезных. В связи с тем, что ветер значительно ослабил свою разрушительную работу, штаб принял решение выводить суда, стоящие на рейде Певека, в восточном направлении, довести их до мыса Шмидта, чтобы до начала усиления северного ветра успеть пройти самую узкую часть пролива Лонга – мыс Биллингса. После мыса Шмидта ледовая обстановка хотя и казалась непреодолимой, но дальнейшие возможности с использованием мощных ледоколов выглядели перспективными.
Любое кратковременное изменение направления ветра с последующим разрежением давало хорошие шансы на благоприятный исход. Мыс Шмидта фактически находился на восточной границе пролива Лонга, и протащить суда до него – это уже было не менее половины успеха. Тем не менее штаб морских операций принял решение выводить суда в восточном направлении. В противном случае оставался лишь западный вариант, который, помимо ледовых проблем, сулил множество других, ибо неподготовленные суда восточных пароходств вынуждены на многие месяцы удаляться от своих баз, срывая все запланированные планы перевозок на своих бассейнах.
Проводку обеспечивали линейный «Адмирал Макаров» и немногим меньший дизель-электрический «Капитан Хлебников». «Коля Мяготин» шел пятым в караване, впереди него четыре судна примерно такого же тоннажа, затем шел второй ледокол, и за ним еще два небольших судна. Замыкал караван дизель-электрический «Капитан Готский» по прозвищу «броненосец» – так называли на пароходском сленге всю небольшую серию этих ледокольных судов приличного тоннажа и возраста голландской постройки.
До мыса Биллингса оставалось всего-то 150 миль, и вначале все шло хорошо, ледоколы споро расправлялись со льдом, оставляя после себя приличный канал, и караван шустро бежал, выдавая 8—10 узлов – очень даже приличную скорость при плавании в сплоченном льду. Однако вскорости ветер засвежел, и началось сжатие, участились остановки судов, уже не способных форсировать быстро затягивающийся льдом канал.
Через сутки после выхода каравана из Певека, 17 октября, последовало усиление северного ветра до 20—23 метров в секунду, и без того короткий полярный день превратился в сплошные сумерки из-за непрерывных снежных зарядов и пурги, видимость уменьшилась до почти полной тьмы: иногда с мостика не видно было даже бака своего судна.
Лед становился все сплоченнее, и все шесть судов каравана уже не могли следовать за ледоколами, постоянно упираясь в громадные осколочные обломки, мгновенно закрывающие канал чистой воды за кормой ледокола. Капитан «Адмирала Макарова» принял решение протаскивать суда по одному двумя ледоколами через самое опасное место пролива Лонга – меридиан мыса Билингса – хотя бы миль на двадцать восточнее, чтобы миновать самое опасное место.
Первые четыре судна, шедшие впереди «Коли Мяготина», с громадным трудом удалось протащить через все танталовы муки полосы сжатия, они были буквально вырваны из ледового плена. В начале суток 18 октября ледоколы начали проводку «Коли Мяготина», идя тандемом: впереди линейный ледокол, за ним «Хлебников», и вплотную за ними – наш «Пионер». При таком способе проводки у капитана судна лишь одно преимущество: ему не нужно держать дистанцию до кормы впереди идущего ледокола, тот сам следит за ней и в случае опасного сближения всегда сможет резко увеличить скорость, да и мощный кормовой кранец надежно предохраняет его корму даже в случае навала сзади идущего судна.
Цикунов не спал уже вторую ночь и все напряжение экстремального плавания ощущал всеми клетками своего организма, он прекрасно понимал нахождение на острие лезвия, а также то, что оно не может долго продолжаться и кульминация может разразиться в любую минуту. Благоприятный исход в обозримом будущем не просматривался, что лишний раз подтверждалось резкими отрывистыми командами ведущего ледокола, который как никто другой осознавал все ухудшающуюся ледовую обстановку. Но капитан обязан оставаться капитаном, все находящиеся на мостике не замечали каких-либо изменений в его поведении: внешне он оставался таким, каким его привык видеть весь экипаж, и люди также успокаивались, глядя на него.
За несколько часов с превеликим трудом прошли лишь несколько миль, в дополнение к сжатию прибавилась еще и «ледовая река» – подвижка льда в восточном направлении, когда все суда, включая и ледоколы, не могут пошевельнуться, как бы они ни старались, и вынуждены плыть по течению этой своеобразной реки, не имея ни малейшей возможности избавиться от ее удушающих объятий. Спустя три часа после начала проводки, убедившись, что «Коля Мяготин» не может двигаться самостоятельно, «Адмирал Макаров» взял его «на усы», т. е. короткий буксир, когда штевень судна входит в вырез мягкого кранца в корме ледокола и при этом крепится специальными тросами за неподвижные конструкции на баке ведомого судна. Второй ледокол занял место ведущего, и малый караван в течение трех часов пытался возобновить движение, пока всех троих не прижало к береговому припаю, сидящему на многолетних стамухах, и вся связка не потеряла ход. Через шесть часов «Капитан Хлебников» все-таки смог отскочить от припая, но линейный ледокол, имея приличный довесок по корме, все еще оставался крепко прижатым к приземленному припаю, крепко державшемуся своим глубоководным телом за дно пролива.
Ледокол, не переставая, работал полными ходами на три своих винта, используя полную мощь своих 36 тысяч лошадиных сил, при этом все равно оставаясь неподвижным. Для «Коли Мяготина» подобная демонстрация мощи линейного ледокола едва не стала трагической: огромные ледяные глыбы, вырывавшиеся из-под винтов ледокола, чугунными ядрами бомбардировали днище судна, всплывая с оглушительными гулом в районах второго и третьего трюмов и машинного отделения. Положение усугублялось тем, что осадка ледокола была под десять метров, а «Пионера» – всего-то 4,5 метра. Громадные ядра льда, вылетавшие из-под ледокола, интенсивно разрушали днище судна вместе с набором. Короткий буксир был отдан, но ледокол оставался неподвижным, не в состоянии отойти от своей невольной жертвы еще на протяжении восьми часов и продолжая разрушение судна.
Вскоре на «Пионере» обнаружили поступление забортной воды во второй трюм, и начал расти крен, за два часа достигший 15 градусов. Вместе с ним появился и дифферент на нос. Капитан немедленно приказал производить замеры воды в носовых трюмах и контролировать состояние водонепроницаемых переборок между первым, вторым и третьим трюмами. Снежные заряды прекратились, но ветер не стихал. Что-либо предпринять в такой ситуации было невозможно, кроме контроля за развитием дальнейшей обстановки.
Экипаж был собран в столовой команды и проинформирован о создавшейся ситуации с указанием, чтобы в кратчайшее время забрали документы, ценные вещи, соответствующую одежду и были готовы по первому сигналу оставить судно.
Капитан опасался возникновения паники, что может быть опаснее в такой экстраординарной ситуации, но, вглядываясь в окружающие его лица, он не уловил ни малейшего намека на испуг, более того, даже притихшие балагуры и вечно недовольные и брюзжащие критиканы, которые есть на каждом судне, оставив обычные колкости и подначки, внимательно слушали капитана. И он, как никто другой глубоко осознававший смертельную опасность, нависшую над столь дорогим и родным для него судном и окружающими его людьми, почувствовал благодарность к этим ставшим близкими людям, совсем недавно таким колючим и ершистым. Большинство из них были молодыми, еще не вполне осознающими чувство опасности, принимающими ее как что-то отдаленное и не относящееся к ним. Молодежь всегда склонна отождествлять себя с бессмертием, якобы жизнь бесконечна, и способна усматривать в опаснейших жизненных ситуациях лишь приключенческий смысл, придающий пресноте и жизненной рутине определенный драйв. Общая беда сплотила весь экипаж, и дальнейшая судьба судна в большой мере зависела от его настроя и профессионализма.
Немедленно были проинформированы оба ледокола, штаб арктических операций и пароходство о повреждении корпуса и принимаемых мерах. При этом сообщалось, что характер и размер повреждений определить невозможно из-за наличия груза в трюмах.
Не успел радист передать всю информацию, касающуюся судовых повреждений и прогнозов их дальнейшего развития, как эфир задрожал от многочисленных рекомендаций начальства всех рангов и должностей с категорическими требованиями «доложить», «гарантировать исполнение», «подтвердить», и все это в императивном приказном, безапелляционном стиле махровой советской бюрократии: находясь за многие тысячи миль от развернувшейся драмы, в любой момент могущей обернуться трагедией, начальство всех рангов в полной своей правоте наставляло капитана, как жить, работать и что делать. Капитану не хватило бы и 24 часов в сутки, чтобы отвечать на каждое высокое указание, а о борьбе за живучесть тяжело раненного судна можно было вообще забыть. Под давлением высокого министерского начальства штаб восточных операций был вынужден выделить в качестве обеспечивающего линейный «Макаров», который должен был оставаться с раненым судном до конца (плохого или хорошего, не имело значения). Что значило для штаба вывести в разгар тяжелейшей операции, когда половина из полутора сотен судов, попавших в ледяную ловушку, стонала и взывала о помощи, одного из основных игроков – линейный ледокол, можно было только предполагать.
Непогода не унималась: ветер 23—25 метров в секунду, постоянные снежные заряды, перемешанные со знаменитой чукотской пургой, когда видимость падает до нулевых значений и конца края этой свистопляске не видно, – и все это удовольствие вдобавок сдобрено тридцатиградусным морозом. Громадный ледокол, находящийся в каких-то пятистах метрах, просматривался лишь временами, несмотря на его мощные постоянно включенные прожекторы, не способные прорваться через снежную круговерть. В таком положении простояли четверо суток, ожидая у моря погоды. Единственным позитивом оставалось то, что крен и дифферент судна не увеличивались и все механизмы продолжали работать, следовательно, водонепроницаемые переборки в трюмах и в машинном отделении выдерживали тысячетонный напор воды второго трюма. Как показали расчеты, в трюме находилось более двух тысяч тонн забортной воды. Тем тяжелее капитану было ощущать собственное бессилие в борьбе со стихией и невозможностью в условиях непредсказуемого ледяного шторма приступить к детальному обследованию, попытавшись оценить реальный размер полученных повреждений с последующими мерами по улучшению состояния судна: заделке пробоин, откатке морской воды, заполнившей второй трюм, или, как принято говорить на морском языке, начать меры по спрямлению судна.
При первой же возможности боцман соорудил деревянную сходню с фальшборта левого борта на лед, что позволило осмотреть повреждение корпуса с внешней стороны. Крен был таков, что палуба левого борта находилась на одном уровне с верхней кромкой льда, который и прижал «Колю» к сидевшему на грунте припаю. Виден был лишь фальшборт, возвышающийся на метровую высоту над уровнем ледовой кромки. Корма также резко возвышалась надо льдом, а вместе с нею на поверхность вылезли перо руля и две лопасти винта.
По результатам внешнего осмотра вырисовывалась следующая картина: небольшое поле пакового льда, своей формой напоминающее полумесяц, увлеченное ледовой рекой, дрейфовало по течению, и, к своему несчастью, наш «Пионер» как раз и попал в эту выемку всем своим корпусом. Острые окончания полумесяца, не выдержав сильнейшего давления, частично раскрошились, а само поле вошло своей неровной выпуклостью в борт судна по всей длине второго трюма на протяжении пятнадцати метров, сдвинув при этом оторванный от палубного настила борт судна на целый метр внутрь, т. е. налицо была пробоина длиной пятнадцать метров. В результате разрыва обшивки с внешней стороны борта образовалась метровой ширины ступенька, по которой можно было ходить. Судно было зажато между береговым припаем и паковым льдом, этим и объяснялось его стабильное состояние: не увеличивающиеся крен и дифферент.
Фактически сложилась ситуация, при которой поле пакового льда толщиной 8—10 метров, прижав судно к припаю и продавив борт своею частью, зашло под теплоход и приподняло его над водой. В результате «Коля» оказался в подвешенном состоянии, и при разрежении ему предстояло опуститься метров на пять, и чем закончится такой трюк, вряд ли предсказал бы даже дельфийский оракул. Положение было удручающее, если не хуже. Перспективный прогноз обещал некоторое разрежение ледовых тисков не ранее чем через неделю. И все это время будущее «Коли» висело на волоске и было совершенно неопределенно, его судьба зависела от суммарных последствий ожидаемого разрежения льдов и способности самого судна противостоять критическим разрушениям корпуса: найдет ли в себе силы смертельно больной сопротивляться своему недугу, или, проще говоря, выдержат ли напор воды смежные водонепроницаемые переборки. Это и был его единственный шанс на спасение.
В свете короткого полярного дня вырисовывалась безрадостная картина: бледно-серый лед, уходящий на многие километры к линии горизонта и сливающийся с таким же унылым серым небосводом, вдалеке серые сопки, покрытые снегом, создававшие иллюзию какого-то абстрактного внеземного пространства, при котором земная твердь оставалась где-то за пределами сознания. Посреди этого мрачно-белого однообразия находились линейный ледокол и «Коля Мяготин» с задранной кормой.
В связи с полной неопределенностью ситуации и непредсказуемым поворотом ее дальнейшего развития было принято решение эвакуировать половину экипажа на ледокол, оставив на борту лишь аварийную партию, способную бороться за живучесть судна. Как долго может выдержать льдина все 6000 тонн веса судна и забортной воды в его трюме, не было известно никому. Трюм был заполнен водой, и предпринять какие-либо действия по спрямлению судна не представлялось никакой возможности. Штабом было принято решение снять оставшуюся часть экипажа на второй прибывший ледокол «Капитан Хлебников» до начала ослабления сжатия, чтобы уже потом окончательно оценить судовые повреждения и возможности спасения обреченного судна.
Ледовая обстановка не подавала никаких признаков улучшения: северо-западные ветры не стали слабее, и пролив Лонга по-прежнему был крепко-накрепко закупорен прочной пробкой. Даже мощнейший атомный ледокол того времени «Леонид Брежнев» потерял во льду лопасть винта, и снятие всего экипажа с борта аварийного судна было единственно правильным решением.
Капитан, радист и старший механик покинули судно с последним вертолетом, когда погода снова стала стремительно ухудшаться, почти полностью ослепив оба ледокола и многострадального «Пионера».
Капитан Цикунов, не отдыхавший и не спавший уже несколько суток, мгновенно отключился в каюте, выделенной ему на ледоколе, едва успев принять душ. Все попытки разбудить его постоянными вопросами и требованиями начальства всех уровней были бесполезны, и его вынуждены были оставить на какое-то время. Лишь спустя четырнадцать часов он более-менее пришел в себя, и все началось сначала, хотя что-либо добавить к прежней информации он не мог. Сейчас оставалось только ждать. Оставшись наедине со своими мыслями, он многократно прокручивал кадр за кадром запечатленную навсегда ситуацию в ее развитии, стараясь найти видимые зацепки или причины, позволявшие ее избежать или, на худой конец, уменьшить результаты разрушений. Он почти физически ощущал свою вину, хотя при всем своем самобичевании не мог ее найти даже под микроскопом. Но такова уж суть нормального человека, не боящегося брать ответственность на себя в критические жизненные минуты, и сохранение в себе способности сомневаться есть великий двигатель прогресса и реальной оценки прошедших событий.
С болью покидая свое судно, экипаж надеялся вернуться обратно, не допуская и мысли, что этого не произойдет, тем более что судно было «живое»: оставлен в работе дизель-генератор с трехдневным запасом топлива, работало отопление кают и внешнее палубное освещение. В это время в Арктике идет переход к полярной ночи, и световой день стремительно сокращается, не превышая 4—5 часов в сутки. Поведение судна должно было тщательным образом контролироваться, чтобы определить тот самый момент, когда начнется его сползание с материковой ледяной подушки на чистую воду, и тогда любое промедление могло стоить жизни судну. Постоянные снежные заряды вкупе с короткими световыми часами значительно осложняли наблюдение, и только палубное освещение было тем самым лучом во мраке, способным на своевременное предупреждение в изменении поведения.
Пробуждение капитана после долгих бессонных и крайне напряженных дней в каюте ледокола было давно забытым светлым и радостным, как это часто бывает в детстве, но минутой позже вернулись все тревоги недавних бессонных суток с перемешанными днями и ночами. Разбудил стучавший в дверь его собственный старпом, который оставался в числе двенадцати последних членов экипажа, обеспечивающих борьбу за живучесть и контроль состояния судна до момента окончательной эвакуации. Еще тогда Цикунов обратил внимание, что четверо, включая старпома и завпрода, тащат по льду от борта судна в сторону вертолета, который должен был перебросить их на ледокол, громадный мешок, похожий на матрасовку, набитый какими-то твердыми угловатыми предметами, но не придал этому значения, т. к. совсем недавно было получено указание снять с судна все ценные приборы, оборудование и снабжение, включая Большую советскую энциклопедию и другие ценные книги (в основном произведения классиков марксизма-ленинизма). Капитан и подумал, что подчиненные выполняют очередное ценное указание, стараясь сохранить как можно большее количество материальных ценностей. Но вошедший старпом совершенно неожиданно спросил, не желает ли капитан выпить рюмку коньяку или водки под хорошую закуску. Цикунов сильно удивился, принимая слова старпома за шутку, и, решив подыграть ему, ответил, что с удовольствием.
К великому удивлению капитана, через несколько минут раздался повторный стук, и снова вошел старпом в сопровождении буфетчицы с прекрасно сервированным подносом. На вопрос, откуда такая скатерть-самобранка, старпом подробнейшим образом объяснил, что, получив команду об эвакуации ценностей, они с завпродом, аккуратно обернув каждую бутылку и другие «ценности» из капитанских представительских, уложили их в большой матрасный чехол, и хотя пилот вертолета был против тяжелого груза, но после небольшого дара в коньячном эквиваленте проблема была решена и представительские перекочевали на ледокол. Разрешения у капитана не спросили по причине его полной занятости и издерганности, в том состоянии он вряд ли бы дал добро на их эвакуацию.
Как оказалось, их молчаливое решение было единственно правильным и оправданным.
К 24 октября северный ветер начал стихать, и уже на следующий день появились все увеличивающиеся мелкие трещины в окружающем напрессованном льду. Настал момент истины: все зависело от дальнейшего поведения аварийного судна, когда разожмутся ледовые объятия. Фактически судно было выжато из воды, и кормовая часть находилась в полувисячем состоянии, опираясь лишь на льдину. При подвижке ледяного поля «Коля» должен был упасть с высоты 4—5 метров, что и случилось ранним утром после ослабления ледовых объятий. Его экипаж вместе с капитаном, находящийся на «Хлебникове», увидел резкое падение кормы, сопровождаемое тучей брызг и почти полным погружением в воду таким образом, что кормовая палуба полностью ушла под воду с большим креном на левый борт. Многим казалось, что судно уже не встанет, и тридцатиградусный крен, после некоторого раздумья, будет нарастать до полного затопления судна, но «Пионер» оказался на самом деле «всем ребятам пример» – своим левым бортом он оперся о льдину и спустя несколько минут повалился уже на правый борт: две тысячи тонн воды, свободно плескавшейся в трюме, намного увеличили кренящий момент, но и в этом случае он также оперся о льдину уже другим бортом, несмотря на многие тонны морской трюмной воды, так хотевшей его утопить. Экипажи двух судов с ужасом и надеждой наблюдали за, казалось, агонией, но колебания продолжались еще около часа, и амплитуда их постепенно уменьшалась, и наконец судно застыло с креном около двадцати градусов с полутораметровым дифферентом на нос. Первый раунд борьбы не на жизнь, а на смерть «Коля» выиграл. Далее дело было за его спасателями – смогут ли они помочь тяжелораненому, который, хотя и с полутораметровым дифферентом на нос, но находился на плаву, водонепроницаемые переборки удерживали две тысячи тонн забортной воды в трюме, и все механизмы работали: тяга к жизни была неимоверной. Но оставлять судно или начинать спасательные работы среди ледяного поля, в любой момент грозящего расплющить «Колю», было бесполезно. Необходимо было произвести ледовую разведку для отыскания возможной полыньи в ближайших окрестностях. Спустя несколько часов вертолет нашел примерно в десятке миль подходящее разводье размерами 200 метров на 150, единственное среди безбрежных ледяных полей. Было решено вытащить раненое судно в эту «лужу» для проведения водолазного осмотра. В течение трех часов «Капитан Хлебников» и подошедший ему на помощь «Ермак» пробили кратчайший канал к этому озерцу, казавшемуся чудом или оазисом среди полей тяжелых паковых льдов. В тот же день они бережно привели «Колю» в этот спокойный оазис и притулили к ледовой стене.
С ледоколов была возвращена аварийная партия и доставлены водолазы с необходимым оборудованием. Осмотр подводной части оптимизма не добавил: шесть носовых танков были повреждены, и лишь палуба трюмов предохраняла их от дальнейшего затопления. Водолазы после частичной выгрузки металлолома спустились в затопленный трюм и обследовали внутренние повреждения: семиметровая глубокая вмятина, разорваны и деформированы все шпангоуты
на борту, а ведь это почти рельсы, в борту зияющая дыра длиной 2,5 метра и шириной 0,5 метра. Ежечасно через нее поступало более двух тысяч тонн воды, хотя более поздние расчеты показали, что вливалось более шести, и никакие насосы перекачать море не способны, нужно было в первую очередь минимизировать объем забортной воды, проникающей в трюм, т. е. завести пластырь и уменьшить пробоины, но в условиях ледового сжатия пластырь завести невозможно.
В ледовых условиях, когда со всех сторон поджимает многометровый многолетний лед, готовый в любой момент раздавить и поглотить аварийное судно, борьба за его спасение, рискуя при этом жизнью десятка людей, находившихся в трюме, становилась абсурдной.
Но природа, видимо, все же сжалилась над своей жертвой, оставив шанс на жизнь. Ветер стих, хотя все прекрасно осознавали, что такой покой долго не продлится и нужно успеть каким-то образом залатать огромные дыры. В открытом море с даже небольшим волнением теплоход будет обречен: смежные переборки не выдержат динамических ударов тысяч тонн трюмной воды, не говоря уже о движении в ледовых условиях.
На судно вернулись двенадцать человек экипажа во главе с капитаном для окончательного обследования и принятия решения о дальнейшей судьбе «Коли». Разгорелись нешуточные споры: штаб предложил оставить судно в вырубленной ледоколами припайной нише, что равносильно гибели: вряд ли оно выдержит зимовку с вечно текущими льдами.
Капитан предложил, используя неожиданно спокойную «лужу», поставить в трюме цементный ящик.
В ходе обсуждения капитану дважды на судно звонил министр морского флота Гуженко, хотя его компетентность, как окончившего эксплуатационный факультет Одесского института инженеров морского транспорта, была под большим сомнением. В итоге был принят капитанский вариант, тем более что весь Восточный сектор Арктики был парализован северо-западными ветрами.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: