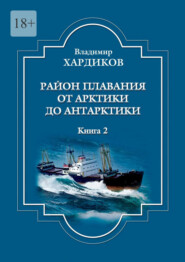скачать книгу бесплатно
Бухта тоже была вотчиной «Дальстроя». В те времена там ходила поговорка: «Где кончается власть Сталина, там начинается власть Никишова». На черной трубе отцовского парохода была эмблема «Дальстроя»: белый флаг с косицами, а вдоль белого поля голубая извилистая полоска, что символизировало реку Колыму, текущую среди белых снегов, как конечную и основную цель «Дальстроя». Отец часто брал с собой на судно своего сына Петра-младшего. Петр был еще совсем мал в то время, поэтому и многое стерлось из памяти, но остались некоторые эпизоды. Однажды отец с сыном шли по причалу на свой пароход, и в это время шла погрузка заключенных на судно в полном окружении вооруженных автоматчиков. К борту была приставлена большая сходня на больших металлических колесах. Людей грузили в трюмы. Для арестантов были сделаны туалеты (гальюны) оригинальной конструкции: узкий вылет из досок за борт – очень экономично и просто.
Пароход «Феликс Дзержинский»
«Наш дом стоял в Находке недалеко от нефтебазы, из окна открывался замечательный вид на вход в бухту. Напротив второго окна возвышались две горы: Брат и Сестра. Все окрестности были как на ладони, а слева вдали маячило что-то темно-серое, разве что в бинокль можно было разглядеть, – это был лагпункт или концлагерь, кому как нравится. Оттуда почти постоянно слышался злобный лай собак. Даже в нашем дворе бегали два таких списанных охранника, и дело свое они знали, двор был на замке. Наверное, в один весенний день 1953 года, когда я еще спал, меня разбудил посторонний шум. Выглянул во двор и увидел грузовик с откинутыми бортами – совершенно необычное зрелище для двора. Встал и пошел в разведку, ибо дома никого не было, все были во дворе. Открыл дверь в мастерскую и увидел винтовку, укрепленную на подставке над верстаком. Но тут же мама подхватила меня, и я снова оказался в кровати. С нами жил брат мамы, он закончил войну узником Бухенвальда. Обычная история: воевал, попал в плен. Помню, что у него была травмирована нога, хромал сильно. Почему застрелился, можно только догадываться. Это все, что осталось в памяти о тех далеких годах».
Для этих перевозок использовались твиндечные суда, как свои, «дальстроевские», так и Дальневосточных пароходств. В твиндеке сколачивались двухъярусные нары, по краям ставилось пару бочек для естественных отходов – вот и все удобства. В трюмах же перевозились грузы, после погрузки которых твиндеки перекрывались, и дело оставалось только за нарами. Иногда же, когда поток заключенных был большим и суда не справлялись с их перевозкой, нары воздвигали и в самих трюмах. Трудно представить, что пережили люди во время десятидневного плавания в штормовых условиях в холодных и темных задраенных трюмах, да еще с таким же скопищем народа над головами.
Тем не менее в 1957 году «Дальстрой» был упразднен. Сыграл свою роль доклад Хрущева о культе личности на XX съезде КПСС в 1956 году. Кого-то посадили за слишком уж очевидные злоупотребления, кого-то уволили, кто-то сам покончил с собой, но система в целом осталась практически неизменной: мордовороты охраны, привыкшие глумиться над людьми, сторожевые овчарки-церберы, натасканные на людей в арестантском одеянии, большинство офицеров охраны из бывших ведомств Берии, хотя и поменявших принадлежность к всесильному НКВД на Министерство внутренних дел, но от перестановки выпитых бутылок число пьяных не меняется. Разница была лишь в том, что до этого они совершали преступления в открытую, не опасаясь преследования, а сейчас вынуждены были оглядываться, т. к. формально законы Страны Советов распространились и на эту, прежде неуязвимую для остальной страны, закрытую территорию империи. На какое-то время охрана из бывшего ГУЛАГа притихла, напуганная шумными разоблачениями, но вскоре испуг прошел, и все пошло по-старому. Всего-то и нужно было выслужить свой сильно укороченный, по сравнению с другими военными ведомствами, стаж и затем уйти на заслуженный отдых с персональной пенсией и многочисленными наградами, коими мог похвастаться редкий фронтовик, прошедший всю войну. Ну и, конечно же, выступать по памятным датам в школах и пионерских лагерях, рассказывая придуманные легенды о своих «подвигах», в которые многие из них и сами почти поверили, а потом умереть в своих пуховых постелях с чувством полностью выполненного перед Родиной долга и быть похороненными под залпы воинского салюта.
В 1961 году двадцатилетний Валя Цикунов после окончания Сахалинской мореходки был направлен третьим помощником капитана на пароход со странным названием «Анаклия» Сахалинского морского пароходства, который был получен в зачет германских репараций при разделе немецкого торгового флота и работал на прозаическом угле, оставляя за собой клубы черного, как смола, дыма. От качества угля сильно зависели его скорость и послевахтенная усталость кочегаров, несущих свои вахты в самом горячем цеху. Судно досталось в компании еще двух его близнецов и братьев, работавших в Бразилии по перевозке грузов по самой большой реке мира, Амазонке. Наверное, царство многомесячной зимы и холодных морских льдов им досталось в качестве компенсации за бразильскую жару. Всю тройку новобранцев флота российского отремонтировали в Китае, включили в состав Сахалинского пароходства, и они начали работать между портами Дальнего Востока.
На судне была средняя надстройка: два трюма впереди надстройки и третий позади. Первый и второй твиндеки были оборудованы для перевозки людей, хотя «оборудованы» будет слишком громко сказано. Нары и два гальюна (туалета) – вот и все оборудование.
В конце ноября 1962 года капитан получил указание пароходства идти в Ванино и взять там генеральный груз (в упаковке) и определенное количество людей в зависимости от возможностей твиндеков. Подробности обещали оговорить с приходом в порт погрузки. Но экипаж, прошедший суровую школу выживания, быстро смекнул, что везти придется заключенных, и терялся в догадках: куда именно пойдет судно?
Ноябрь – не лучшее время для переходов в дальневосточных морях. Почти не прекращающиеся штормы со снежными зарядами, выматывающая душу качка, не оставляющая времени для сна и отдыха. В твиндеках носовых трюмов картина неизмеримо хуже: глухие и мощные удары волн сотрясают весь корпус, но именно носовые трюмы первыми принимают эти удары, сбрасывая людей с плоских нар и разбрасывая по всему твиндеку в полной кромешной тьме, создавая полную иллюзию ежеминутной гибели и кораблекрушения, ставя их на грань сумасшествия, что не было редкостью во время переселения смертных душ из дальневосточных портов на новые северные районы их обитания. Нередко люди, выдержавшие многомесячные пытки и не проронившие ни слова при самых изощренных допросах, не выдерживали и нескольких часов душераздирающей морской качки, намеренно разбивая себе головы о металлические конструкции твиндека, или просто сходили с ума. С точки зрения безопасности заключенных, конечно, гораздо удобнее для них было оборудовать кормовые твиндеки – в трюмах позади надстройки. Тогда бы влияние погодных факторов значительно снизилось, но об удобствах для контингента думать никому не полагалось, а вот для удобства охраны всегда пожалуйста. Носовые трюмы хорошо просматривались не только с мостика, но и из иллюминаторов кают верхнего яруса надстройки, и охрана, находясь в тепле и защищенная от морозного колючего ветра, спокойно контролировала носовые твиндеки и лючки из них, тщательно задраенные и закрытые на замки. Все колымские этапы не избежали пытки морем, на протяжении многих дней находясь, по собственным разумениям, между жизнью и смертью в глубинах Охотского или Берингова морей. И еще совсем недавно казавшаяся проклятой Колыма с ее сказочными богатствами уже представлялась им берегом надежды, до которого они считали часы и минуты, делая зарубки на металле судовых бортов. Заключенные, даже те, которые получили по 25 лет, все равно хранили в душе лучик надежды, недаром русская пословица гласит: «Надежда умирает последней», – что совершенно созвучно с латинским выражением: «Пока живу, надеюсь». Народная неиссякаемая тяга к жизни живет во всех нациях и народностях и отражена в их устном и письменном творчестве почти синхронно одинаково. Но пусть этим занимаются лингвисты, хотя здесь ни убавить, ни прибавить.
Молодой Валя Цикунов был самым юным среди всего экипажа, и любопытство, в данном случае скорее добродетель, чем порок молодости, не давало ему покоя, ставя все новые вопросы, казалось бы, давно знакомые, но увиденные воочию, а не услышанные из третьих уст. По его словам, оно перло из него, как тесто на дрожжах. Вот он и приставал к старпому, убеленному жизнью и много видавшему мужчине за пятьдесят, а иногда и к капитану, который только что освободился из лагеря, где просидел шесть лет за посадку судна на мель. Посадки на мель в туманных дальневосточных водах, и еще вдобавок на очень плохо оборудованном побережье, на безрадарных коммерческих судах были сущим наказанием господним, и, наверное, ни одному капитану не удалось избежать их. Каждая из них грозила тюремным заключением, и тяжесть наказания напрямую зависела от нанесенного ущерба. Хотя по своей сути это всего лишь навигационная ошибка, которая рано или поздно обязательно случается. А поскольку береговая линия дальневосточных морей сильно изрезана, со множеством островов и островков, и подводных банок, то судно без радара в сезон туманов, когда они длятся неделями, можно сравнить с бегом с завязанными глазами вдоль пропасти. Ну а дальше сплошная рутинная техника, отработанная десятилетиями в подвалах НКВД, – намеренная посадка, чтобы причинить вред советскому строю, работа на иностранные разведки и т. д. После многодневных допросов с истязаниями каждый подписывал свой оговор, даже если его обвиняли в покушении на вождя или создании террористических групп с целью свержения советской власти. Самым характерным примером служит гибель парохода «Индигирка», доверху набитого заключенными, который в условиях тумана и жестокого девятибального шторма в декабре 1939 года в проливе Лаперуза налетел на подводные камни и затонул, имея на борту более тысячи человек, из которых погибло не менее восьмисот, включая женщин и детей. Судно следовало из бухты Нагаево (Магадан) во Владивосток. Японцы, которые находились в состоянии войны с СССР после событий Халхин-Гола, спасли 427 человек. Капитан Лапшин по приговору суда за преступную халатность и за связь с японцами и работу на них был расстрелян. Его помощники отделались различными тюремными сроками. Начальник конвоя из своих десяти лет отсидел всего четыре и потом снова работал в системе ГУЛАГа. Эта статья уголовного права была отменена только в семидесятых, а во многих цивилизованных странах не применялась вовсе.
Получив радиограмму с очередным рейсовым заданием, офицеры судна в кают-компании под руководством капитана, как обычно, обсуждали детали предстоящего рейса и подготовку к нему. Валя, будучи самым молодым и неискушенным, с открытым ртом слушал выступающих, которые пришли к одному и тому же выводу, что в Ванино неизбежна погрузка заключенных, и, по всей вероятности, путь их будет лежать до их конечного пункта назначения где-то на севере Охотского моря. А поскольку они были уже хорошо пожившими и знающими порядки особого района, да и к тому же большинство из них уже испробовало нары и казенный клейкий непропеченный хлеб, их вывод был неоспорим.
С приходом в Ванино все подтвердилось, и после погрузки трюмов судну предписывалась перешвартоваться на третий пирс и взять этап в количестве около двухсот заключенных. Цикунов до сих пор удивляется, почему единственный в порту пирс назывался третьим – других-то не было. Перешвартовка не заставила себя долго ждать, и утром следующего дня началась погрузка этапа. Перед его прибытием трюмы тщательно были осмотрены прибывшим воинским подразделением с натасканными сытыми овчарками, тщательно проверялись лазы и их закрытие в оба твиндека. Особых замечаний не было, тем более что этап сопровождала более чем многочисленная охрана с собаками и пятью офицерами, да и переход, если не задержит очередной циклон, не должен оказаться продолжительным.
После них на судно пожаловали чекисты, сопровождающие арестантов. Они потребовали приготовить пять кают для офицеров и пятнадцать мест обитания для солдат и нескольких собак-овчарок.
Все было выполнено, и к началу следующего дня судно было готово к приему спецконтингента. По информации капитана, судну предстояло везти «политических», часть из которых были жертвами Новочеркасской трагедии.
В 1962 году на Новочеркасском электровагоностроительном заводе работало двенадцать тысяч человек. Городок на 150 тысяч был студенческим и промышленным. Всегда здесь ощущались проблемы с поставкой продовольствия и необходимого ширпотреба, но за ворота недовольство не выходило. В этом же году неожиданно для всех рабочие расценки снизили на 30%, что означало повышение рабочей нормы выработки на эти же самые цифры. И по простому совпадению, на следующий день правительство Хрущева объявило о повышении цен на ряд товаров, включая продовольственные, на 35%, что в сумме уменьшало покупательную способность почти вдвое, тем более что до этого цены только снижались. Эти волюнтаристические меры и вызвали сильное недовольство рабочих. А последней каплей, которая привела к массовым протестам, стало выступление первого секретаря Ростовского обкома партии, который, стоя перед толпой в несколько тысяч человек, заявил, что если вам не хватает на пирожки с мясом, то покупайте пирожки с ливером. После этого рабочие захватили здание горкома партии, милиция не препятствовала этому, даже направленные на разрешение конфликта войсковые подразделения местного гарнизона переходили на их сторону. Характерно то, что рабочие не выступали против советской власти: они всего лишь требовали улучшения жилищных условий и продовольственного снабжения. На следующий день шеститысячная толпа была окружена прибывшими войсками, и когда была отдана первая команда стрелять в народ, среди которого было много женщин и детей, то офицер, которому она предназначалась, выстрелил в воздух, а вторую пулю отправил себе в голову. Но это была лишь отсрочка, и первые автоматные очереди прозвучали поверх голов по деревьям, с которых, как яблоки, посыпались местные огольцы, забравшиеся повыше, чтобы видеть всю картину, не отдавая себе отчета о возможных последствиях из-за своего малолетства. Сколько их было ранено и убито, не знает никто, тем более что позднее было официально объявлено, что самой молодой жертве было шестнадцать лет. Затем дошла очередь и толпы, расстрелянной в упор.
Вечером следующего дня на площади, где произошло советское «Кровавое воскресение», местными властями были устроены танцы. И иначе, как танцами на гробах, это назвать нельзя. По большому счету скрыть трагедию было невозможно, и власти официально объявили, что погибло 26 человек и несколько десятков ранено. Естественно, что эти цифры были многократно занижены. А потом продолжались многочисленные суды над зачинщиками акции, хотя она была поистине стихийной, но оправдать неслыханную жестокость нужно было созданием большого сонма антисоветчиков с приличным стажем всей организации. Их отлавливали по всей стране, как участников, так и не имеющих к ней никакого отношения. Вот таких «политических» предстояло везти к месту их многолетнего отбывания современной каторги.
Погрузка этапа проводилась у третьего пирса, там же, где всегда грузили заключенных, которых везли дальше на Север. Она проводилась быстро и организованно. Начиная с начала 30-х годов, когда пошли первые этапы на Колыму и Чукотку, этот процесс был отработан «интеллектуалами» из НКВД до мелочей и синхронной слаженности. Все свободное пространство от пирса до трюмов было заполнено охранниками, чекисты стояли через каждые 2—3 метра, рычащие псы на пирсе и у входа в твиндек, винтовки охраны на боевом взводе с патроном в казеннике, готовые к выстрелу. Для острастки или для большего порядка идущих людей били прикладами или, как это называли охранники, «подгоняли». Если кто-то спотыкался и падал, то ему доставалось гораздо больше, но люди уже, видимо, привыкли к такому обращению и даже не закрывались, собаки же ловили каждый жест зэков, готовые ежесекундно наброситься на каждого, на кого укажет проводник и хозяин. Погрузка всего этапа была закончена к обеду, и около 14.00 судно отошло от причала и направилось на выход из Ванинской бухты. Обогнув мыс, повернули на север и вышли в Охотское море, которое сразу же напомнило о своем крутом нраве. Под прикрытием острова Сахалин, значительно снижающим условия непогоды, проследовали до полуострова Шмидта – северной оконечности острова. А дальше курс судна пролегал в северную часть Охотского моря к острову Спафарьева, где планировалось выгрузить генеральный груз из трюмов и там же погрузить сельдь в бочках на Владивосток. Касательно партии заключенных информации не было, лишь то, что капитан получит указания на этот счет позже.
Расстояние от Ванино до острова Спафарьева всего-то 750 миль, что для нормального судна покрывается не более чем за 2,5 суток, но не в Охотском море и не в преддверии зимы. Пароход «Анаклия» при хорошей погоде и качественном угле больше 10 узлов выжать не мог даже с помощью всех механиков и кочегаров. Высунувшись из-под прикрытия Сахалина в штормовое Охотское море с набегающими белыми от срывающейся с гребней пены четырехметровыми волнами, судно стало зарываться, и мириады брызг разбивающихся о штевень волн щедро орошали не только носовые трюмы, но долетали и до надстройки. Картина вроде и не такая уж из ряда вон выходящая где-нибудь в районе тропика Рака, но не в центре Охотского моря при отрицательной наружной температуре, когда брызги уже на лету частично превращаются в лед, и бак судна начинает приобретать серовато-белые причудливые формы от замерзающей воды. Носовым трюмам и палубам тоже достается, но в меньшей степени. Бак все-таки частично прикрывает их своим водоразделом от обледенения. Морская практика рекомендует начать немедленное скалывание нарастающего льда, чтобы предотвратить потерю остойчивости и последующее опрокидывание судна, но как это сделать практически в условиях 25-градусной качки, при шквалистом ветре в 20 метров в секунду и скользкой ото льда палубе? И хотя это в большей степени относится к малым рыболовецким судам и для больших менее опасно, если это не лесовоз, идущий с караваном леса на палубе, «Анаклия» тоже далеко не гигант, но и Охотское море – это не северная часть Тихого океана в зимнюю пору. Многие из заключенных, равно как и из охраны, сразу же укачались. Из твиндека непрерывно слышались малоприятные звуки, предвещающие очередной приступ рвоты, плач и просто крики испуганных людей, замурованных в холодной темноте «оборудованного» твиндека, куда сверху нет-нет да и поступала понемногу соленая забортная вода, хотя люк и был тщательно укрыт двухслойным брезентом. При этом партии заключенных еще повезло, что их поместили не в первом, а во втором твиндеке, где удары волн уже частично погашены носовой частью судна и отчасти первым твиндеком первого трюма, и не в глубинах трюма, а все-таки поближе к выходу, и никто уже не может плюнуть вниз на их головы или сделать нечто более пакостное, что было скорее обыденностью, чем редкостью на судах, перевозящих этапы для «Дальстроя».
По мере удаления от Сахалина и приближения к западному побережью Охотского моря погода начала налаживаться, циклон уже проскочил, а очередной еще не подошел.
Заключенные под охраной были заперты во втором твиндеке, и лишь дежурные выходили несколько раз в день, чтобы взять на камбузе кипяток для чая на всех. Экипажу вступать в контакт с ними строго запрещалось, и чекистская охрана ни в коем случае этого не допускала. Несколько вооруженных конвоиров постоянно находились в твиндеке, наблюдая за своими подопечными, меняясь в определенное время. Иногда оттуда доносились нечеловеческие крики избиваемых людей – это охрана устраивала показательные побоища за малейшие проступки и с целью острастки всего этапа: запугать, сделать их совершенно неспособными к малейшему сопротивлению. И это происходило ежедневно по нескольку раз. Утром, на второй день после выхода, заключенные выволокли избитого человека, не подающего признаков жизни, с кровавым месивом вместо лица. Он пролежал на палубе около часа, пока боцман с матросами готовили его последнее ложе из трех досок и куска брезента. Когда все было готово, несчастного замотали в брезент, привязали к доскам, подвязали туда же мешок с кирпичами для утяжеления и, водрузив на фальшборт всю конструкцию, столкнули за борт. Поскольку это было на вахте третьего помощника, которая длилась с 08.00 до 12.00, Валентин дрожащей рукой от увиденного воочию записал в судовом журнале, согласно требованиям Устава, его фамилию, год рождения, номер статьи, место рождения и где проживал. Что переживал молоденький третий помощник, наблюдая краем глаза за такой обычной и тривиальной в те годы процедурой по захоронению убитого, может быть, ни в чем не повинного человека, он не рассказывал никому, молчит до сих пор. Можно лишь догадываться о состоянии его душевного сумбура, когда реальная действительность напрочь расходится с официальными заявлениями руководителей страны и средств массовой информации. Наверняка с того самого часа в нем стали происходить изменения, еще совсем неприметные для него самого: нарастающее недоверие к системе, критицизм, ну и, конечно же, желание добраться до истины, почти как у Гамлета. С приходом в пункт назначения чекисты потребовали от Цикунова выписку из судового журнала на умершего как официальное подтверждение причины его недоставки в конечный пункт.
Наконец, на третий день рейса капитан получил указание о выгрузке заключенных в поселке Иня, недалеко от Охотска, где был большой пересыльный лагерь. Через четверо суток судно добралось до Ини, отдав якорь недалеко от устья неизвестной речушки.
На следующий день из речки вышла деревянная баржа, и двумя рейсами всех заключенных вывезли на берег. Во время оформления документов на перевозку партии заключенных Валентин разговорился с офицером, который и занимался вместе с ним этими бумагами. Он-то и поведал третьему помощнику о Новочеркасском расстреле 2 июня 1962 года, ошеломив того еще больше. С его слов, имело место массовое выступление людей против советской власти, которое закончилось массовым расстрелом и посадками на длительные сроки. Тех, кому присудили длительные сроки, разделили на мелкие группы и отправляли в самые дальние лагеря, откуда не было возврата. Он упомянул об указании руководства их ведомства об уничтожении этой категории людей без лишнего шума, благо предлогов для этого охрана могла найти предостаточно.
За время четырехдневного перехода из Ванино до Ини было еще два случая захоронения в море, и всего за четверо суток этап поредел на три человека.
Валентин полюбопытствовал у офицера, как они отчитываются о потере людей в рейсе. Тот, как о само собой разумеющемся, ответил, что у них есть норма на убыль. Вдумайтесь – нормы на убыль… Т. е. человеческое естество сравнивают с кулем муки, ящиком спелых фруктов, да мало ли с чем другим, что хорошо знакомо работникам прилавка. На судне не было врача, и для них достаточно одной выписки из судового журнала. Причину они могли нарисовать любую по собственному усмотрению, хотя все трое погибших были убиты той же охраной или уголовниками, которых подмешивали к политическим, так как все они работали на «кума», так на их жаргоне называли офицера, которому они «стучали» обо всех разговорах политических заключенных, получая за это свои небольшие приоритеты и крохи тюремного удовольствия, те же 30 сребренников Иуды Искариота за выдачу Христа первосвященникам.
С последним случаем предания человеческого тела морю произошел такой казус: судно прошло Сахалин и Шантарские острова, и с утра вокруг появились косатки – известные мелкие зубатые киты-убийцы. Боцман Федор Трифонович, пожилой крепыш за пятьдесят, поднявшись на мостик, чтобы получить старпомовские указания на рабочий день, посмотрел вокруг судна и сказал, что, наверное, опять покойник будет. И как в воду глядел: через час из твиндека на палубу вытащили еще одного убитого. Когда его готовили к последнему акту похоронной церемонии, косатки подошли вплотную к борту, и как только доски наклонили и труп сполз за борт, они, как по команде, нырнули за свертком, и вскоре все было кончено. Картина жуткая, но она стала обыденной и уже никого сильно не напрягала, наша советская действительность с самой демократической конституцией в мире.
После прощания с заключенными и их сопровождением, вздохнув свободнее, направились к острову Спафарьева, где быстро выгрузились и погрузили бочки с сельдью на Владивосток.
Так и закончилась эпопея с перевозкой заключенных, осужденных по политическим статьям и отправленных на верную смерть очередным вождем, осудившим культ личности предыдущего, но научившимся у него изощренному макиавеллизму и избавлению от опасных соперников, пока очередь не дошла и до него самого.
А за окнами шел 1962 год, шестой год после развенчания культа личности Сталина, пятый год со времени расформирования «Дальстроя». Что изменилось по большому счету – ничего, разве что коротенькая хрущевская оттепель, вызванная этими событиями, самим же им и перекрытая. А дальше по старому проторенному пути: ползучий клановый захват единоличной власти, борьба с неугодными с использованием старых, хорошо обкатанных средств и обученного контингента исполнителей, кучки прихлебателей и фаворитов, и так виток за витком. Куда же мы идем и когда это чертово колесо закончится, сломается или надоест всем?
P.S.
Из рассказа старого капитана-моряка: «Мы приехали в Америку получать судно типа „Либерти“, которые они наловчились собирать из блоков на своих верфях всего лишь за неделю. Я был в то время юнгой. Привезли к пароходу, стоит загруженный, под парами. Все готово к отходу. И первым делом наши выбрасывали с мостика кофейник с горячим кофе и вешали замок на провизионные камеры».
Рыбалка в бухте Русской
Конец шестидесятых – начало семидесятых годов прошлого столетия. Сказка, провозглашенная КПСС, похоже, подходила к концу и медленно хирела: многим становилось ясно, что первую стадию коммунизма к 1980 году построить не удастся, хотя по официальным источникам развитой социализм был уже построен, но народ умудрился этого не заметить – ему требовались более приземленные вещи: жилье, еда, медицина и средства от зарплаты до зарплаты. Об этом свидетельствовали снижение темпов развития, заданные Косыгинской реформой, начинающиеся проблемы с продуктами и ширпотребом, нарастающие очереди в магазинах из ожидающих, когда что-нибудь дефицитное выбросят на прилавок. Реформа забуксовала, а затем уж вовсе скатилась на нет, будто и не было поломано столько перьев в период ее обсуждения в верхних слоях власти. Ее попросту потихоньку свернули, ибо по-старому жить было как-то более привычно, да и результаты ее были лишь в прогнозах, а поднимать сознание людей на порядок выше было вовсе не в интересах правящей верхушки, да еще и опасно – а вдруг они захотят большего. Разбудить вулкан, на котором сидишь, было вполне возможно, а дальше-то что? Утихомирить же его гораздо сложнее, да и результат непредсказуем, так что лучше вернуться к старому и проверенному лозунгу, столь знакомому и умиротворяющему почти все громадное население страны, к тому же безотказно работающему уже два десятилетия: «Лишь бы не было войны». Страна медленно вползала в стагнацию, что грозило не только дальнейшим отставанием от развитых стран, но и растущим недовольством населения, рыскающего по пустеющим полкам магазинов, еще совсем недавно ломящихся от довольно скудного советского, но все же изобилия. Прирост населения в те годы был ощутимым, и стагнация не замедлила сразу же ухудшить, как тогда говорилось, «растущие потребности населения». Страна была закрыта от тлетворного влияния загнивающего Запада, и большинство населения слепо верило в нашу лучшую, по сравнению с буржуинами, жизнь с отдельными недостатками. Особенно опираясь на социалистические краеугольные постулаты: бесплатное жилье, образование и медицину. Но время шло, а качество жизни не улучшалось, и возникало все больше вопросов – почему? Конечно, в первую очередь, это происки капиталистического окружения, всячески пытавшегося нам помешать строить светлое будущее, вследствие чего страна вынуждена была бросать громадные средства на оборону. Поддержка же множества сиюминутных режимов в Африке, Азии и Латинской Америке, не говоря уже о «братских странах» народной демократии, воспринималась как само собой разумеющееся.
Но голь на выдумки хитра: в обстановке всеобщего дефицита начал бурными темпами развиваться бартер, ну и, конечно же, сопутствующие ему коррупция и подпольные заведения цеховиков, быстро сообразивших, что в этой мутной воде можно хорошо поживиться, и именно с их легкой руки в обиходе крепко и быстро укрепилось слово «достать» с совершенно другим смыслом, отличным от словаря Владимира Даля.
Не избежал этого и морской флот: труднее стало с запасными частями и выбором продуктов. Пароходские службы технического обеспечения зачастую и сами не знали, что покоится на их бесконечных складах, отказывая в заявках судов не по причине отсутствия запрашиваемого, а по банальному незнанию своего же ассортимента. Но экипажам судов от этого было не легче, и механики вынуждены были во время стоянок в портах обращаться к своим коллегам за какой-либо нужной деталью, предлагая взамен что-нибудь равноценное. Немало случаев было, когда искомые дефицитные детали находились на судне совершенно другого типа и были ему нужны, как зайцу колокольчик во время охотничьей травли с собаками.
С продуктами получалась несколько иная история: по мере нарастания дефицита у работников системы «Торгмортранс», снабжающей суда, появлялся все больший соблазн урвать львиную долю дефицитных продуктов и пустить их «налево» или распределить среди нужных людей, чем они без зазрения совести и пользовались, оставляя суда на голодном пайке. Не секрет, что возле «Торгмортранса» кормилось много нужных людей. Особенно это касалось капитанских представительских, для получения которых завпрод или артельщик заранее готовили «подарки» иноземного производства кладовщикам и другим особам, приближенным к запретным яствам, иногда соглашаясь подписать счет-фактуру на гораздо большее количество. Естественно, разница шла в карман тому же кладовщику, а завпроды списывали недостающие килограммы за счет своего же экипажа. Потому зачастую приходилось наблюдать в порту при одновременной стоянке нескольких судов, как начиналась бартерная торговля между судами и их представителями, отвечающими за материальные ценности: старпомы, боцманы, артельщики и механики всех разрядов действовали по принципу: «А вдруг твой неликвид окажется моим дефицитом или наоборот?» Главное, что зачастую это срабатывало по указанным выше причинам.
Но все-таки универсальным мерилом любого товарообмена в портах Дальнего Востока являлась соленая красная рыба или лосось разных пород, как кому угодно, от которых зависела его реальная цена.
Валентин Цикунов работал старпомом на пароходе типа «Донбасс», куда он был направлен в январе 1970 года. Судно находилось в ремонте в Петропавловско-Камчатском судоремонтном заводе, и на пароход пришлось лететь через Хабаровск: к сожалению, прямых рейсов тогда еще не было. Работал наш старпом в Сахалинском пароходстве и проживал в известном островном городке Корсаков, где получил квартиру от родной компании. Прилетев в Петропавловск, к своему огорчению, узнал, что до выхода из ремонта еще как минимум два месяца. Зима, сильные снега и морозы: по этим причинам ремонтные работы на палубе не проводились, а шли только в машинном отделении, и окончание ремонта зависело лишь от погоды. С великой грустью и сожалением принял дела у своего предшественника и включился в ремонтно-производственный процесс. В обычной заводской суете прошел морозно-ветреный февраль, а в марте уже потеплело, да и настроение переменилось к весеннему. К концу апреля завод наконец вытолкнул судно из своих, казалось, бесконечных объятий с большими и малыми недоделками – «успеете в рейсе доделать». Получив полный комплект документов Регистра, вышли в первый послеремонтный рейс.
К сожалению, паровики имели одну очень важную неприятную особенность: на ходу им требуется большое количество пресной воды, и ее расход составлял 30 тонн ежедневно, а всего запаса питьевой и мытьевой пресной воды 1200 тонн хватает на сорок суток. Казалось, что это совсем немало, но, учитывая неразвитую инфраструктуру Сахалина, Камчатки и островных территорий и постоянные проблемы с водоснабжением, включая отсутствие водовозных барж, долгие стоянки в самых отдаленных уголках, где воды не хватает даже для собственных нужд, но не по причине ее отсутствия, а из-за невозможности доставки к потребителям, сорок суток пролетали очень быстро, и старые-новые водяные проблемы возникали вновь. На судне имелись еще и балластные танки на 800 тонн, в которые брали воду при условии, если они не оказывались замазученными, что всегда было на совести механиков, по обычаю частенько путавших клапаны и добавлявших ложку дегтя в бочку с медом.
На выходе из ремонта в Петропавловске и в заводе пресной воды не оказалось в связи с сильнейшими снегопадами, и город сидел на голодном пайке, на суда выдавали лишь по 30 тонн, чтобы хватило дойти до открытого водозабора бухты Русской, в 100 милях от Петропавловска, где суда могли взять неограниченное количество чистейшей воды, вытекавшей из озера Роас, расположенного метров на сто выше береговой линии. Из озера была проведена металлическая труба метровой ширины, заканчивающаяся на давно списанном пароходе «Рылеев», стоящем бортом у самого берега вместо стационарного причала. Для надежности и пущей гарантии от сильных ветров и штормовых явлений все его трюмы были заполнены камнем местных горных пород, и он в самом деле по надежности не уступал стационарному причалу, и наверняка стоит там до сих пор. На его палубу положили конец трубы, приварив на нее несколько соединительных гаек, чтобы можно было давать воду одновременно нескольким судам, таким образом вопрос с пополнением воды для проходящих судов был закрыт. Сооружение всего каскада организовал и исполнил Петропавловский торговый порт, получая при этом неплохие дивиденды и не вкладывая практически никаких дополнительных затрат. Обслуживал весь каскад один отставной матрос, обязанности которого заключались лишь в оформлении квитанций за взятое количество воды, подтвержденное печатью судна и подписью старпома.
Странно, но Петропавловск, окруженный действующими вулканами и бесчисленными гейзерами горячей воды, очень сильно смахивает на Исландию, население которой почти в три раза больше камчатского. Пресная вода, как и горячая, в Исландии подается прямотоком из гейзеров, проходя весь путь с вулканов, уходит в океан и не требует никаких подкачивающих станций для ее возвращения, попутно обогревая многочисленные объекты Рейкьявика и всей страны, не говоря уже о снабжении обычной пресной водой. И все это обходится им почти бесплатно, ибо стоимость вложений не превышает стоимости труб и работ по их монтированию. За всю историю страны на ее территорию не было ввезено ни одного килограмма угля для котельных, как на Камчатке. Отсюда и копеечная стоимость электроэнергии, здоровая экология и такое же здоровое население. На Камчатке же дармовая энергия природы не используется вовсе, и пароходы с углем постоянные гости в Петропавловском порту. Уголь, привезенный сюда, обходится в кругленькие суммы, превышая в несколько раз его реальную стоимость. Экономия на одном лишь угле по исландскому методу позволила бы Камчатке выйти на совершенно другой, более высокий уровень развития, оздоровив весь громадный регион, убрав сотни дымящих котельных и превратив его в действительно привлекательнейший уголок Земли с неповторимым своеобразием, привлекательнейшим для туристов всего мира. Но пока это всего лишь из области фантазий, которые вряд ли сбудутся в обозримом будущем. Слишком уж много поборников завоза угля, имеющих свой шкурный интерес.
Извлекая немалую прибыль из Русского водозабора, Петропавловский порт и не вздумал позаботиться о элементарной безопасности судов во время швартовки кормой к «Рылееву», требующей умения и навыков даже опытных капитанов (а всего лишь и нужно-то: один маленький буксирчик типа РБТ на 150 лошадиных сил для помощи судам при швартовке и подаче швартовых на «Рылеев»), переложив швартовку кормой к причалу на страх и риск капитанов судов. Многие из них набили себе шишки за прошедшие годы: хватало и развороченных бортов, заваленных планширей и посадок на мель, да мало ли чего видел старый «Рылеев».
Главной надеждой на благополучную швартовку были стоящие у водозабора суда, которые окажут помощь в принятии первого кормового швартова на причал, и затем страдающее от жажды вновь прибывшее судно уже самостоятельно подтягивается к «Рылееву» и заводит дополнительные швартовы, чтобы надежно пристроиться к причалу на все время принятия воды. После окончания швартовки судовой плотник присоединял судовые шланги из пустующих танков пресной воды к свободным гайкам Ротта, и начинался прием воды, который занимал несколько часов в зависимости от ее количества и проложенных шланговых линий в пустующие танки. «Донбасс» вышел из Питера вечером, уже к 24.00 прибыл в бухту Русскую и стал на якорь до утра. На рассвете, убедившись, что возле «Рылеева» стоят несколько судов, договорились по радиостанции об их помощи по принятию первого швартова и начали маневры кормой с отдачей якоря.
Капитан, 45-летний здоровяк, работал на судне уже три года, опытный и грамотный судоводитель, начал первый заход, отдал правый якорь, и судно двинулось кормой к причалу, но почти у цели сильный порыв ветра отнес корму в сторону – и заход оказался пустым. Повторили операцию еще несколько раз, но все пять попыток оказались бесполезными: в последний момент порыв ветра сбивает корму с курса, и она увиливает под ветер, не позволяя даже самому искусному матросу добросить выброску. В этот момент и проявляется самая негативная особенность паровых судов – подача хода с очень большой задержкой после реверсирования машинного телеграфа на мостике с переднего хода на задний, т. е. с момента передергивания ручки телеграфа на мостике до запуска паровой машины проходит несколько минут, и ситуация за эти минуты коренным образом меняется – и уже нужно давать другой ход. Вскоре после обеда, промучившись три часа в безрезультатных попытках, капитан спустился в каюту погреться, а старпому наказал потренироваться. Но Цикунов в течение всех пяти неудачных попыток уже давно понял ошибку капитана, которая проявлялась в излишней осторожности, когда корма теряет ход на достаточно большом расстоянии до причала, не позволяющем добросить выброску. Требовалось лишь немного повременить с остановкой заднего хода, тем более что движение назад всегда можно было затормозить отданным якорем, в противном случае корма теряла ход и становилась неуправляемой, чем не замедлил воспользоваться очередной порыв ветра, унося ее с нужного курса в сторону от причала. Все предпринимаемые попытки несли одну и ту же ошибку. Получив карт-бланш, старпом все сделал как нужно и с первого захода поставил судно к «Рылееву», и через полчаса, будучи крепко привязаны, начали прием воды. Капитан позвонил на мостик и поинтересовался наступившей тишиной. Старпом ответил, что судно уже у причала и начали прием воды. Тот удивился, не скрывая одобрения, но ничего более не добавил. Воду брали сразу четырьмя шлангами в несколько танков, чтобы к утру закончить и сразу же идти в рейс. Впереди ожидала неприветливая Охотоморская экспедиция, где рыбаки отрывались на минтае, превращая его в различную продукцию: филе, икру, фарш в бочках для корма зверей в многочисленных зверосовхозах, разбросанных по всей стране, остальное перерабатывали в рыбную муку как добавку к корму домашних животных и тех же обитателей звероферм. Нужно было взять полный груз минтаевого фарша в деревянных бочках на Находку. Швартовки в открытом море при свежем волнении и пятибальном ветре, да еще на паровике с его минутными реверсами, не самое приятное занятие в жизни, и сколько при этом было наломано дров, неведомо никому. Обычные мелкие столкновения с повреждениями фальшбортов, согнутых шлюпбалок и палуб надстройки в расчет не принимались, а считались обыденным делом, которые капитаны старались исправить своими силами еще до прихода в порт выгрузки. Сложнее было при нарушении водонепроницаемости корпуса, т. е. получении пробоин: здесь уже без акта о повреждении не обойтись, да и без представителя Регистра тоже. Служба мореплавания, получив акт, если не обрадует приказом о наказании, то «зуб» на тебя все равно оставит и при первой же возможности припомнит.
К вечеру после швартовки к старпому заявился старшина пограничной заставы для обсуждения взаимовыгодного обмена товарными ценностями – ему требовались солярка, масло для движка, который обеспечивал им свет и работу радиостанции и киноустановки, картофель и другие мелочи. Взамен этого он предложил бочку соленой кеты и три банки красной икры. После окончания переговоров и завершения сделки он привел своих бойцов, которые и забрали просимое, погрузив все в шлюпку, а на обратном пути доставили 120-литровую бочку кеты и три трехлитровых банки с лососевой икрой. На этом бартер был закончен, и знакомство со старшиной – тоже.
Но старшина успел рассказать интересные подробности о рыбалке в летнее время, когда лососевые идут на нерест с июля по сентябрь. Бухта Русская по форме напоминает кишку длиной две мили и шириной около полумили, и в эту кишку впадает небольшая речушка, куда и заходит красная рыба. Рыбачить в это время гражданским лицам категорически запрещается, и исключение составляют только пограничники, для того они там и находятся. Им разрешают добывать красную рыбу для своих нужд, да и кто им может запретить, если они и есть полные хозяева местных речушек и окрестностей. Застава человек на тридцать – два офицера, один старшина и человек двадцать солдат. Вертолет рыбоохраны дважды в день в сезон хода лососевых совершает облеты побережья Камчатки от Петропавловска до мыса Лопатка – самой южной оконечности полуострова – и гоняет браконьеров. Поэтому, если нужно порыбачить, необходимо связаться с начальником заставы и за определенную мзду заранее договориться о времени и месте. Он-то за эту самую мзду и организует успешную рыбалку, посылая своих бойцов в устье речушки, где они и ловят рыбу, имея богатый опыт на этом поприще. Похоже, что вся их служба проходит за столь ответственным делом: в нерестовый сезон заниматься промышленным рыболовством, а в межсезонье готовить и чинить рыболовные снасти. Забирает же рыбу тот, кто ее заказывал. Размер мзды четко определен и очерчен и скорее напоминает установленную таксу в следующем количестве и качестве: пять бочек солярки для движка, бочку машинного масла, доски, гвозди и прочие атрибуты строительных материалов. Пограничники знают, когда прилетает вертолет, поддерживая с ним связь, и потому проколов не бывает со стопроцентной гарантией.
Валентин распрощался со старшиной как с хорошим другом, пообещав при первой же возможности зайти сюда снова. На этом и расстались, а утром, заполнив все имеемые судовые емкости, снялись в свой Охотоморский нелегкий рейс.
Прошло шесть лет, Валентин давно уже работал в Дальневосточном пароходстве капитаном на своем «малыше» типа «Пионер» «Коля Мяготин». Как обычно, в начале июля возвратившись из южных широт, загрузились горюче-смазочными материалами в бочках на колымский Зеленый Мыс. Итак, судно стало под погрузку ГСМ на Первой речке Владивостока у нефтебазы. Погрузка была рейдовой с плашкоутов и барж и продолжалась как обычно, две недели. Незадолго до окончания завезли продукты и снабжение, оставалось взять только воду, но здесь поджидала совершенно не предусмотренная неувязка: воды в порту не оказалось, и нужно было идти либо в Славянку, либо в бухту Успения возле Находки. Групповой диспетчер, перечисляя все возможные варианты, невольно подсказал, что можно зайти и в бухту Русскую под Петропавловском, наполнить все пустующие балластные и водяные танки, а потом раздать ее судам на трассе Северного морского пути, у которых возникнут проблемы, потому что взять ее там негде, разве что немного у ледоколов. Цикунов сразу же вспомнил свой давний разговор со старшиной-пограничником и, подумав: «А чем черт не шутит?», c энтузиазмом, столь свойственным ему, горячо поддержал последнее предложение о заходе в Русскую. В свою очередь уведомил боцмана и старпома о предполагаемом заходе, который займет около суток. И по секрету добавил боцману, чтобы тот достал несколько деревянных бочек под рыбу, а старпому наказал выписать в «Торгмортрансе» пару мешков крупной соли под засолку. Вскоре все было исполнено, и через сутки судно снялось из Владивостока в свой очередной, столь знакомый рейс на Зеленый Мыс с заходом в бухту Русская.
Через четверо суток подошли к бухте, благо летняя погода не чинила никаких препятствий – как раз лучшее время, когда летний муссон идет на убыль, а до зимнего еще далеко. Валентин связался по радиостанции с дежурным по заставе, предупредив, что идет на бункеровку, и поинтересовался, служит ли еще тот самый старшина, и ему подтвердили – служит и после швартовки к «Рылееву» придет на борт «Коли Мяготина».
Как и планировали, через пару часов после швартовки, когда начали принимать воду, появился старый знакомый Валентина – старшина с погранзаставы. Прошедшие шесть лет не прошли для него бесследно, и выглядел он уже не таким бравым. Поговорив о всяком-разном для налаживания взаимопонимания, спустя много лет, прошедших с их первой встречи, договорились встретиться на следующий день и обговорить все детали рыбалки. Поскольку на судне вся палуба была заставлена бочками с соляркой и бензином, старшина сразу поставил условие – десять бочек солярки, две бочки бензина и одну бочку машинного масла и, кроме того, деревянных досок из-под сепарационного материала, поскольку он решил построить сарай для поросят. Не промах был тот старшина и сразу «брал быка за рога», если предоставлялась такая возможность. На следующее утро спустили судовую шлюпку для подвозки рыбы, а капитан пошел на заставу. Старшина взял человек десять своих бойцов, и они направились к устью речушки, где лежал невод, которым и хотели поймать «золотую рыбку». Горбуша большими косяками шла на нерест. Первый же замет оказался полным, и бойцы с трудом вытащили тяжеленный невод, в котором оказалось около трех тонн отборной красной рыбы. Солдаты погрузили весь улов в шлюпку, и боцман отвез его на судно, где выгрузили на палубу в заранее приготовленный брезентовый чан размером 5х5 метров и пошли за вторым уловом. Пока боцман отвозил на судно первый улов, бойцы сделали еще один замет, и невод снова вернулся полным. И вновь загруженная рабочая шлюпка, почти до краев набитая серебристыми рыбинами, последовала на судно. Выгрузили ее в тот же чан. На этом рыбалку решили завершить. Все предполагаемые судовые емкости уже были заполнены всего лишь двумя заметами.
Капитан накрыл стол в своей каюте: подошли начальник заставы – молоденький старлей – и замполит в таком же звании. Вечер удался, Валентин узнал много нового о буднях заставы, и к вечеру после окончания бункеровки судно вышло из гостеприимной бухты.
На следующий день, находясь в открытом море, старпом и стармех организовали весь экипаж на обработку рыбы, и целый день ушел на ее приготовление в нужные кондиции. Шкерили рыбу всем составом. Насолили шесть бочек рыбы и пятьдесят килограммов икры, да и заморозили в холодильнике около тонны. Потом употребляли ее в любом полюбившемся виде, а икру выдавали на завтрак. Всего приобретенного экипажу хватило на год, до следующего захода в бухту Русскую перед Арктикой. После этого захода капитан в ХЭГСе уже сам предлагал заход в Русскую за пресной водой для себя и для «того парня», ибо в Арктике на трассе пути недостаток воды являлся серьезной проблемой для многих судов, и наш «Пионер» снабдил водой не одного из жаждущих. Экипаж же от заходов на рыбное место выиграл много и получил возможность не менее полугода питаться свежей и соленой красной рыбой. А традиционный картофель на завтрак по понедельникам подавался не с сельдью, а с малосолеными розовыми ломтиками аппетитно приготовленной горбуши собственного посола, что было предметом определенной зависти экипажей других судов на трассе пути, недоумевающих, как умудрился Цикунов накопить такие запасы рыбы, сохранив ее в отличном состоянии, но секрет удачных рыбалок еще долго держался среди своих.
Селедочная страда
Закончился очередной северный завоз, и все суда малотоннажного флота пароходства, а это более двадцати «Пионеров» и «Повенцов», пройдя Берингов пролив, устремились наперегонки на юг: кто во Владивосток, кто в Находку. Арктическая навигация всем ужасно надоела, как и ее напирающие льды, отрицательные температуры, снежные заряды и строгие команды ледоколов. И сейчас, будто выпущенный на волю застоявшийся табун, они полным ходом удирали от зимы, мечтая еще прихватить немного тепла в портах Южного Приморья. Да и само плавание стало автономным, без понуканий и оглядок на следующее за тобой в караване судно, как и впередиидущее. Груза в трюмах тоже не было: из Арктики, кроме пустых бочек и ледяных ропаков, вывозить нечего. Впереди была штормовая погода Берингова и Охотского морей, и качает там по-настоящему, а посему без балласта во все водяные танки не обойдешься, успевай лишь смотреть, чтобы ледком не прихватило, но для южного направления пока никакой ледок не страшен. Всем хотелось попасть домой, увидеть детей, растущих без отцов, и измерить их сегодняшний рост, отмеченный карандашом на дверном косяке. Месяцы пролетают быстро, и, возвращаясь домой даже на день-два, заново знакомишься со своими сыном или дочерью: они уже не те, что были совсем недавно, они другие, стали взрослее и мудрее, и прежние полудетские разговоры уже не проходят, разве что случайно ловишь недоуменный взгляд: «Папа, я давно не ребенок». И когда понимаешь, что твой ребенок прав, становится стыдно до покраснения ушей, но, слава богу, такое состояние не длится долго, и спустя несколько часов окунаешься в детские проблемы и обещаешь многое, хотя и прекрасно осознаешь, что большинство обещаний выполнить не получится и никакие подарки эту брешь не заделают.
Но это будет потом, а сейчас как можно быстрее на юг, на юг. В штурманской рубке и на ходовом мостике заметно прибавляется посетителей: все хотят узнать из первоисточников, сколько еще осталось, какая погода впереди и сколько узлов показывает лаг, не «зажал» ли стармех парочку зубков, «жалея» свой главный двигатель. И хотя домой попадут не все, разве что списывающиеся, но надеется каждый: вахты, срочные авральные работы и короткая стоянка оставят большинство на судне. На всякий случай заказываются пропуска в порт для членов семей, как запасной вариант, который, скорее всего, будет основным.
Берингово море встречает колючим холодным ветром и размашистой четырехметровой волной с хлопьями белой пены на гребнях. Скорость сразу падает, и мрачнеют лица штурманов, судно начинает крениться на оба борта градусов до двадцати, и моряки, забывшие про качку за время нахождения во льдах, заново учатся ходить, крепить судовое имущество и каютную утварь, расклиниваясь на своих койках в ночное время, чтобы нивелировать влияние качки. Циклон быстро проскакивает, и наутро ветер, а вместе с ним и волна, падают, и судно вновь обретает скорость с уменьшением качки. Светлеют лица капитанов. Бородачи начинают искать острые ножницы и лезвия, чтобы распроститься с полярным наследием, оставляя на его месте молочно-белую кожу в отличие от светло-коричневого загара лба и других открытых частей лица.
Весь экипаж в курсе, что судно пойдет под погрузку овощей на ту же самую Чукотку, но южную, без Берингова пролива. И погрузка займет 2—3 дня, а там уж кому как повезет, выбор невелик: Магадан, Анадырь, Эгвекинот, Провидения… Лучшим вариантом был Магадан: не нужно вылазить в штормовое Берингово море, да и расстояние намного короче, к тому же это настоящий порт со всем оборудованием и впридачу областной город с 300-тысячным населением. Вероятность пойти на Магадан была существенно выше, чем в остальные далекие и малые порты и порт-пункты: более половины общего объема всего груза назначением именно на Магадан, ну а кому не повезет, будет ждать и надеяться на лучшее в следующем году.
Овощи самые обычные: картофель, капуста, морковь, свекла и еще кое-какие долгого хранения. Как обычно, завоз овощей на Южную Чукотку и в Магадан начинался сразу же после окончания северного завоза, чтобы к этому времени вся продукция успела накопиться в южных портах Приморья, в освободившихся складах северного завоза, поэтому традиционно ориентировались на середину октября – середину ноября, когда в Приморье еще тепло, и погрузка производилась в открытые трюмы без какой-либо тепловой изоляции и проходила быстро: два-три дня – и следующий, и очередной овощевоз уходил на Север. Львиная доля овощей уходила на Магадан, и уже в конце ноября там скапливалось до 10—15 судов на рейде. В эфире царила непрерывная какофония: все требовали немедленной постановки к причалу, ночные температуры уже достигали -20 градусов и овощам угрожало замораживание даже без холодильных камер, ибо обогрева трюмов ни у кого не было. Дежурному диспетчеру порта доставалось по полной, но он ничего сделать не мог, возможности порта были ограничены, все линии были задействованы. К тому же не хватало грузчиков: многие контрактники уже разъехались, окончив навигацию. Порт привлекал в качестве грузчиков экипажи судов и таким образом решал проблему докеров: они обладали многопрофильным умением и могли дать фору профессионалам, быстро осваиваясь в новой обстановке, и на следующий день их уже трудно было отличить от настоящих докеров. Выгрузка проводилась по методу трюм судна – автомашины, которые были оборудованы утеплителем: большими ватными одеялами-пологами на дне кузова и бортах, а загруженный кузов запахивали еще сверху.
«Коля Мяготин» со своим бессменным капитаном Валентином Цикуновым пришел в Находку в конце октября и сразу же к причалу, где погрузили 2,5 тысячи тонн овощей и направились на Магадан, куда еще не ушел «последний караван». Пятисуточный переход не отличался жестокими штормами, разве что посреди Охотского моря немного потрепало, но волнение было не более семи баллов. Зимний антициклон еще полностью не установился, и западные циклоны еще не наладили свой равномерный и регулярный бег. Самым опасным штормовым участком на всем переходе является именно пересечение Охотского моря, когда судно отрывается от Сахалина, и до самого подхода в Магадан. Охотское море даже в самые сильные зимы полностью не замерзает, оставляя неширокий проход битого льда вдоль западного берега Камчатки до Магадана, и замерзать начинает тоже у своих западных берегов в районе Охотска и Шантарских островов, постепенно наращивая лед и отодвигая его границу все дальше к востоку. В зимние месяцы – с января-февраля и по март – на этой магаданской трассе обычно дежурит ледокол: иногда линейный, но бывает и типа «Капитан Сорокин» – его дальневосточный близнец – «Капитан Хлебников». В порту и на подходах обеспечивает круглогодичную навигацию менее мощный тезка города, ледокол «Магадан».
Велико же было разочарование капитана «Коли Мяготина», когда уже на подходе к порту он увидел около пятнадцати судов, все тех же «Пионеров» и «Повенцов» с теми же овощами. Картина представлялась совершенно безрадостной и грустной, тем более что ориентировочно предстояло проболтаться на морозном рейде в ожидании постановки под выгрузку не менее десяти суток в условиях быстро набирающей темпы зимы. Но Цикунову и на этот раз немного повезло: простояли на рейде менее восьми суток, и выгрузка заняла не более трех суток с привлечением новоявленных докеров из среды экипажа.
А вот и новое рейсовое задание: следовать в Охотоморскую экспедицию под погрузку рыбной муки. Экспедиция работала рядом с Магаданом в 50—100 милях в районе островов Завьялова и Спафарьева. В разгаре сельдевая путина, но и минтай они тоже не забывали, в этом районе он всегда в изобилии и в основном перерабатывается на муку.
Старожилы помнят, как еще в семидесятые годы в Уссурийский залив и чуть ли не в Золотой Рог заходили косяки нерестящейся сельди, обычно это происходило в ноябре. И тогда сотни плавсредств, начиная от портовых буксиров и катеров самых разных конструкций и размеров и до обычных резиновых лодок, сталкиваясь и образуя кучу малу, спешили за рыбачьей удачей. Ловили исключительно на удочки с тремя—пятью голыми крючками, и если попадали на косяк, то мгновенно следовало несколько сильнейших поклевок, и вот уже почти на всех крючках сидело по килограммовой рыбине, жирной и упитанной. А вечером десятки рыбаков с полными мешками и рюкзаками за плечами, еле передвигая ноги от усталости и тяжелой ноши, пробирались домой, чтобы уже с утра заняться собственным приготовлением малосольной сельди в припасенных и приготовленных заранее деревянных бочках, изощряясь кто как может. Лучшей закуски трудно было найти.
Невольно вспоминаешь детские годы, когда в сельских магазинах, да и в городских тоже, стояла открытая бочка худосочной, уже начинавшей ржаветь селедки, и люди безо всякого сомнения брали по несколько хвостов в плотную промасленную бумагу. Главным достоинством той сельди была ее дешевизна, и жареная или вареная картошка с селедочкой часто были единственным украшением стола. Соли в нее было добавлено от души, и при такой консистенции она могла храниться годами, не портясь. Другой сельди просто не было, и народ искренне считал, что она и должна быть такой, недаром же бытовала поговорка – «море соленое, потому что селедка в нем плавает». В приморских городах продавалась уже сельдь другого качества: в пятикилограммовых металлических банках, открыв которую, сразу ощущаешь приятный аппетитный запах и видишь уложенные в рядки широкие сизоватые спинки жировой сельди, манящие к себе. Но существовало правило, неизвестно кем установленное: из Края банки не разрешалось вывозить, хотя в европейской части страны такая сельдь ценилась выше красной икры, которую люди и в глаза-то не видели. Дальневосточные отпускники, отправляясь на Запад, подо всякими предлогами через знакомых продавщиц или изрядно переплачивая снабженцам и жучкам, старались достать банку-другую такой сельди как редкое яство для родственников и знакомых. Командировочные также запасались таковыми банками, как и кетовыми балыками.
Но поскольку выгрузка производилась около середины ноября, несмотря на тепловые «пушки» в трюмах, установленные портом, оставалось много россыпи. Понятно, порт спешил обработать как можно больше судов для сохранения овощей до следующего завоза в будущем году, и лучше пожертвовать незначительной россыпью, чем полными трюмами стоящих на рейде пароходов. Нужно было как можно быстрее выгрузить очередное судно и отогнать от причала, чтобы поставить под выгрузку следующее. Оттого и подписывали «чисто» документы и накладные на груз, невзирая на ту же россыпь. Все оставшееся в трюмах предполагалось выгрузить «за борт» при зачистке трюмов под следующий груз. Когда трюмы были зачищены, россыпи оказалось: картофеля – пять тонн, капусты – около тонны и столько же свеклы и моркови.
Погрузка рыбной муки планировалась с плавучих рыбозаводов, или вкратце – плавбаз.
Подойдя к их скопищу через четыре часа после выхода из Магадана, выяснили, что первая база может принять Цикунова не ранее чем через двое суток. Как раз столько и требовалось для подготовки трюмов. В процессе зачистки грузовых помещений работает весь экипаж, разделившись на две бригады. По традиции вахту на мостике делят капитан и второй помощник, сменяясь через двенадцать часов. На первой же капитанской вахте на мостик к Валентину поднялись старпом с боцманом и начали разговор издалека о собранной россыпи овощей: может, не стоит ее выбрасывать за борт, а лучше отдать рыбакам, которые рыбачат неподалеку – несколько сейнеров и средних рыболовных траулеров. Старпом с боцманом прекрасно знали: рыбаки постоянно испытывают нехватку свежих овощей, и после спиртного самый острый дефицит – овощи, и особенно картофель. Суда-снабженцы с продуктами приходят нечасто и в первую очередь снабжают базы, на каждой из которых экипаж с рыбообработчиками составляет до шестисот человек, и после этого малому добывающему флоту достаются крохи, если все-таки достаются. Вот и вынуждены их капитаны и старпомы сидеть на подножном корме, «стреляя» овощи у проходящих судов и предлагая за них свои рыбные деликатесы в зависимости от промыслового сезона.
Капитан спросил у своих ближних помощников, каким образом они собираются провести столь благородную миссию. Судя по ответу, все давно уже было подготовлено и решено, требовалось лишь окончательное капитанское подтверждение. Картофель и прочее уже затарировали в мешки и договорились с несколькими рыбаками об обмене, и поскольку в запасе еще целых двое суток, к тому же свежие овощи грех выбрасывать, когда люди в них нуждаются, капитан дал свое окончательное «добро» на проведение рыбно-овощного бартера.
Не прошло и часа после разговора, как к борту ошвартовался первый сейнер, рыбаки, вопреки многочисленным анекдотам, представились добрыми и отзывчивыми, готовыми отдать последнюю рубашку, если потребуется. Вполне возможно, это был заранее обдуманный и спланированный ход с целью разжалобить и получить максимальную выгоду, а может быть, и нет. В их районе ловли под Магаданом было уже довольно холодно, начался сезон обледенения, и выглядели они совсем неприглядно. Бурное оживление вызвала новость о сауне на борту судна, и, по-настоящему заискивая, они попросили истопить и попариться в ней, дабы отогреть замерзшие на морозном ветру среди колючих ледяных брызг давно не мытые тела, в чем им не было отказано.
Сауна была сделана из бывшего пункта санитарной обработки всего лишь за год до настоящей встречи. Заказали пиломатериалы и плавающую ремонтную бригаду, и три человека за два месяца превратили пустующий пункт военного ведомства в прекрасную финскую баню емкостью до шести человек одновременного посещения. Рыбаки и не мечтали о таком удовольствии и парились несколько часов, тем более с настоящими березовыми вениками, заготовленными в лесу под Находкой. Боцман постоянно следил за их качеством и количеством, периодически пополняя уменьшающийся запас.
Всего лишь за одни сутки все овощи были розданы на взаимовыгодной основе и, как пишут в сказках, «вернулись сторицей» – в виде десяти бочек осенней жирной сельди, не уступающей по качеству знаменитой олюторской, да и с какой стати она должна была уступать, ведь по большому счету рыба и жирует-то в одном и том же районе, разделенном Камчатским полуостровом, который можно обогнуть, минуя мыс Лопатку, а там уже совсем недалеко и до мыса Олюторского с его знаменитой селедкой.
Вся бартерная сельдь была уже посолена и упакована в деревянные бочки. Такое количество вряд ли кому могло присниться, и теперь на судне по понедельникам каждый мог выбирать, что ему больше по нраву: красная рыба или жирная прекрасно посоленная сельдь. Впрочем, страстные любители и все желающие могли заказать солености и в другие дни.
Кроме того, рыбаки, почти в прямом смысле, завалили Цикуновский пароход живыми камчатскими крабами гигантских размеров. Их варили и жарили еще целых три недели.
Вот такая получилась рыбалка.
Невыученные уроки, или Повторение пройденного
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось вашим мудрецам.
«Гамлет», Уильям Шекспир
Арктика всегда манила людей своей неизвестностью, непредсказуемостью и тайнами белого безмолвия. Где-то на далеком севере скрывалась легендарная страна Гиперборея, населенная любимчиками богов гиперборейцами. Их жизнь состояла из одних удовольствий, и даже смерти не было в нашем понимании: люди уходили из жизни добровольно, устав от нее и пресытившись, бросаясь с высоких скал в море. Этой легенде более двух тысяч лет, и многие авторы древности, включая древних греков, сломали немало перьев, пытаясь в спорах и дискуссиях найти ключи к открытию столь загадочной тайны.
Откуда берет свои истоки эта легенда – неизвестно, но она оказалась очень живучей и вошла в фольклор многих народов, как соседствующих с арктическим побережьем, так и проживающих вдалеке от него. Многие философы, поэты и писатели Древней Греции не обошли своим вниманием загадочную страну счастья.
Но время шло, и казавшаяся бесконечной человеческая колыбель Земля постепенно сдавала свои тайны, уменьшалась в своих размерах.
Настал черед и севера, многочисленные экспедиции энтузиастов шли на верную гибель, пытаясь открыть неизведанные полуночные земли и добраться до северного, впрочем, как и до южного географического и магнитного полюсов планеты, хотя их и разделяют 400 километров паковых льдов.
Вся история открытия северного полюса состоит из множества трагедий и загубленных жизней первопроходцев и одержимых энтузиастов, тем более что правительства сопредельных стран не горели желанием вкладывать средства в бредовые начинания и затеи среди вечных льдов и голых скал, не суливших никаких выгод в будущем. «Земля Санникова» существовала лишь в умах писателей-фантастов, как красивый вымысел.
Само существование Московского царства на восточных рубежах Европы определило дальнейшую многовековую политику страны. Продвижение в южном направлении не дало таких результатов, как на восток и север: там проживало множество различных племен и народов, которые не испытывали никакого желания пускать чужеземцев на свою обжитую территорию, где каждый дюйм приходилось брать с боем, да и климатические условия предполагали массовые эпидемии, уносившие гораздо больше жизней, чем самые кровопролитные войны.
Оставался лишь путь на восток и северо-восток: в малонаселенные, а зачастую и вовсе пустынные земли, ограниченные на севере береговой линией северного вечно холодного океана. Таким образом, в течение четырех-пяти веков русские вышли на берега Тихого океана, полностью овладев арктическим побережьем вплоть до Берингова пролива. Не остановившись на этом, перепрыгнув пролив, начали колонизацию и североамериканского побережья, нынешней Аляски, но это уже совсем другая история.
Овладев громадной территорией арктического побережья Евразии, поневоле нужно было осваивать эти бесплодные неприветливые земли. Само понятие Арктика включает в себя Северный Ледовитый океан, занимающий ее центральную часть с Северным полюсом в центре, и множество прибрежных территорий и островов, ограниченных полярным кругом 66,5 градусов северной широты. Северный Ледовитый океан стоит особняком среди своих собратьев: он наименьший по площади, целиком и полностью находится в северном полушарии с географическим полюсом в центре, и потому все его берега южные. У него самые бедные флора и фауна: выжить в столь экстремальных условиях сможет далеко не каждый вид, на его южных берегах не растут вечнозеленые леса, как, впрочем, и никакие другие, большая его часть круглогодично покрыта плавающими многолетними паковыми льдами, уменьшаясь лишь коротким летом.
Главным же его достоинством оказался кратчайший путь из Европы в Азию, что и послужило мощным толчком для освоения и развития. Расстояние от Карских ворот до бухты Провидения составляет всего-то 5600 километров – несравнимо более короткое, чем при следовании южным путем. Северный морской путь на треть короче Южного пути через Суэцкий канал, при том что расходы по проходу канала для среднетоннажного судна уже давно превысили сотню тысяч долларов. Морской путь из портов Скандинавии до Японии через Суэцкий канал и вовсе вдвое длиннее Северного.
Вот и начали расти на неприветливых арктических берегах поселки и города, селения, аэродромы и другие многочисленные «точки», как и на бесчисленных островах, в изобилии рассеянных по всему северному пути. На каждом из них были люди: их нужно снабжать необходимым, кормить, строить жилища и хотя бы маломальскую инфраструктуру. Доставить же все необходимое можно только морским путем во время короткой летней навигации, редкие аэродромы никакой погоды в доставке массовых грузов не делали и в серьезный расчет не принимались.
Первое сквозное плавание по Северному морскому пути с зимовкой удалось осуществить небольшим ледокольным пароходам «Таймыр» и «Вайгач» еще в 1914—1915 годах. Впервые за одну навигацию с запада на восток прошел небольшой ледокольный пароход «Александр Сибиряков» в 1932 году под командованием капитана Воронина, но стоит добавить, что практически на финишной прямой в Чукотском море, когда до чистой воды оставались считаные мили, судно потеряло концевую часть гребного вала вместе с винтом, и казалось, что в лучшем случае можно надеяться на спасение экипажа, но ни в коей мере не судна. Оно было обречено, но последовала столь редкая и нежданная улыбка фортуны: с помощью самодельных парусов и разреженного льда пароход вышел на чистую воду в Беринговом проливе и был отбуксирован в Петропавловск-Камчатский. Эпопея ледокольного парохода «Челюскин», раздавленного льдами в Чукотском море во время зимовки в феврале 1934 года, известна всей стране, вместе с семьей летчиками-спасателями, первыми Героями Советского Союза.
Казалось бы, с тех пор прошло много времени: появились долгосрочные анализы и прогнозы ледовой обстановки по всей трассе Северного пути, мощнейшие атомные ледоколы с вертолетами ледовой разведки на борту, не говоря уже о линейных дизель-электрических ледоколах. Изменился транспортный флот: суда стали намного мощнее, да и тактика следования в ледовых условиях уже не была тайной за семью печатями. Вся трасса была разделена на Западный и Восточный секторы, выездные штабы которых во время летней навигации находились в пунктах самого пути, обеспечивая координацию движения караванов судов и ледоколов в обоих направлениях. В Западном секторе работали в основном суда Мурманского и Северного пароходств. В Восточном – Дальневосточного, Приморского, Сахалинского.
Помимо них, в Тикси находилось собственное Северо-Восточное управление флота, располагавшее небольшими судами типа «река-море», буксирами и баржами для обеспечения внутренних перевозок в бассейнах Колымы и Лены.
Штаб Восточного сектора находился в Певеке, условная граница между секторами проходила через арктический морской и речной порт Тикси.
Как показали последующие события, Арктика по-прежнему не прощает малейших ошибок, не обращая внимания ни на техническую обеспеченность, ни на тщательную организацию транспортных процессов в своей зоне.
Уже задолго метеорологические прогнозы на навигацию 1983 года выглядели далеко не оптимистично: позднее вскрытие припая и преобладающие ветры северных направлений на протяжении всего сезона не оставляли радужных надежд.
Впрочем, ничего необычного в этом не было: хорошие годы чередовались с плохими, и к их бесконечной череде все уже давно привыкли, как и к ледовым повреждениям судов в Арктике, аварии которых оформлялись по упрощенной схеме – и, как правило, капитаны при этом не наказывались.
Главная беда в этом громадном конвейерном процессе северного завоза заключалась в подготовке и накоплении грузов в портах отправления. Наверное, не было ни одного года, когда все грузы сосредотачивались в оговоренные сроки: береговым поставщикам и снабженцам было глубоко плевать на строжайшие рамки, отпущенные природой для их доставки: калитка закрывалась в конце сентября – начале октября, и Арктике были глубоко безразличны причины, по которым грузы не собирались вовремя. Задержки же были хроническими и постоянными, повторяясь из года в год. Истинную цену таких задержек можно было оценить лишь на последнем этапе доставки грузов, когда тот же малыш-«Пионерчик» с баржами и тракторами пробивался к какой-нибудь богом забытой глуши среди нагромождения паковых льдов, забивающих все возможные подходы, под напором упругого и колючего, постоянно работающего октябрьского борея (северного ветра), хотя всего лишь неделю назад здесь было тихо и зияли широкие разводья, по которым можно было беспрепятственно достичь нужной точки. Но разобраться в громадном хозяйстве тысяч поставщиков было невозможно, да никто и не задавался этой целью, поэтому ежегодно мореходы нескольких пароходств и сотен судов, проявляя недюжинное мужество и героизм, доставляли грузы северной клиентуре.
Второй причиной, препятствующей ритмичной работе судов в Арктике, являлось обычное ежегодное планирование северного завоза: чтобы сильно себя не утруждать, было принято решение (неизвестно кем) ежегодно увеличивать количество массовых грузов на десять процентов. Реальная же потребность тысяч получателей не принималась в расчет и никем не учитывалась: так было проще и удобнее для всего аппарата, для радостных рапортов и перевыполнения планов, влекущих за собой продвижения по службе, награды и премии.
Все, кто бывал в те годы в арктических портах, видели многочисленные склады строительных материалов, ржавеющих грузовиков и тысяч бочек с арктическим топливом, валяющихся под открытым северным небом. Что же говорить тогда об угольных терриконах, возвышающихся пирамидами у каждого поселка, разъедаемых и разносимых дождями, морозным холодным ветром и снежными пуржистыми вьюгами. Множество массовых грузов было не востребовано и не нужно, но отказаться или уменьшить их количество никто не имел права, это грозило, как минимум, попыткой покушения на сами основы Страны Советов. На самом же деле упорядочение доставляемых грузов в прямой зависимости от их реальной потребности позволило бы сэкономить многие миллионы, сократить сроки навигации и высвободить ряд дорогостоящих судов, избавив их экипажи от «псевдогероизма», а пароходства от бесполезного разбазаривания топливных, материальных и финансовых ресурсов.
Но это всего лишь в теории, а повседневная практика продолжала диктовать свои проверенные и обкатанные десятилетиями неписаные законы.
Навигация 1983 года началась как обычно, ничем не отличаясь от предыдущих лет: первыми следовали суда-снабженцы в районы Южной Чукотки, ставшие под погрузку уже в июне в Находке и Владивостоке. В основном это были те же самые уже хорошо нам знакомые универсальные малыши типа «Пионер». Несмотря на свои небольшие размеры, они имели четыре твиндечных трюма, позволяющих перевозить грузы различной номенклатуры, хорошие жилые условия для экипажа и возможность принять дополнительный штат, столь необходимый в снабженческих рейсах. Грузовое вооружение тоже было вполне под стать: две тяжеловесные стрелы позволяли брать на борт грузы до 30 тонн весом, что обеспечивало прием на борт и спуск на воду двух тяжелых тракторов и самоходных барж, без которых снабжение «точек» у черта на куличках было невозможно.
Называя суда типа «Пионер» малышами, мы все-таки кривим душой: при длине 106 метров, приличном ледовом классе и имеющихся на борту, кроме обычных легких грузовых стрел, двух тяжеловесных – 20 и 40 тонн грузоподъемности, как-то не с руки называть их малышами.
Для сравнения: немногим более полутораста лет тому назад экспедиция адмирала Путятина, вышедшая на парусном фрегате «Паллада» из Кронштадта в Японию для установления дипломатических и торговых отношений, насчитывающая в своем составе около пятисот человек, в течение восьмимесячного перехода вокруг Африки без кондиционеров и холодильников умещалась на семидесятитрехметровом фрегате. Да, мы не ошиблись, наибольшая длина «Паллады», как и вышедшей через год ей на смену «Дианы», составляла всего каких-то семьдесят три метра. Не менее знаменитый корвет «Оливуца», наводивший страх на иностранных, особенно американских, китобоев-браконьеров во всех дальневосточных морях, имел максимальную длину сорок метров.