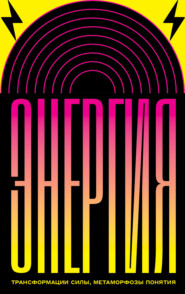
Полная версия:
Энергия. Трансформации силы, метаморфозы понятия
Именно эти интерференции интересуют теорию литературы. В литературе мимесис выступает не как абстрактный, безразлично-всеобщий эстетический императив, а как конкретный конструктивный фактор, переменный параметр текста. Литературный текст внутренне неоднороден, на его горизонтальную протяженность как бы опрокидывается сложно структурированная вертикальная ось коммуникации, образуя в нем гетерогенные отрезки или разные уровни восприятия одного и того же отрезка. Семиозис и мимесис сменяют друг друга в господствующей позиции, оттеняют друг друга взаимным контрастом, и переходы между ними образуют динамическую структуру текста, которую и переживает читатель.
Наиболее простая форма энергетической организации текста – ритм, чередование сильных (требующих повышенного расхода респираторной и/или психической энергии) и слабых элементов в протяженности речи. Эти дискретные элементы означающего – лишь зачатки знаков, еще не получившие семантического оформления; они образуют музыку стиха, которую не раз упоминали поэты, рассказывая о том, как создают свои произведения. В данном случае исходный психофизиологический процесс является не иллюзорно-сконструированным, а реальным, то есть действительно ощущается стихотворцем. Маяковский называл его «гулом» или «мычаньем»; это изначальный, еще дословесный энергетический рисунок ритма: «Ритм – это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить это нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество – это виды энергии»180.
Наряду с общим ритмическим импульсом, передаваемым от автора читателю в ходе миметической коммуникации, имеет место и более частный внутритекстуальный мимесис: сильные, энергетически выделенные элементы отзываются друг в друге, переживаются как взаимно подобные. Так, например, в поэтической рифме слова имитируют друг друга, но только на уровне произношения (по своей энергетической схеме), при непременном расподоблении их смысла. Ю. М. Лотман показал необходимость этого расподобления, отличающего богатую рифму от плоско-тавтологической181; он, однако, объяснял эти и другие звуковые повторы лишь с семиотической точки зрения, как фактор, повышающий информационную емкость текста182. Точнее будет сказать, что в рифме взаимодействуют семиозис и мимесис: с одной стороны, различие рифмующихся слов (включая различие по семантике – вплоть до антонимии), с другой стороны, энергетическая эквивалентность этих слов, встроенная в общий ритмический рисунок, где эти слова поставлены в ударную позицию. Удовольствие, доставляемое читателю или слушателю стихов звонкой, неожиданной рифмой, обусловлено не столько усложнением системы – это усложнение происходит на уровне текста как целого, а эффект удовольствия возникает в конкретной его точке, – сколько освобождением энергетического импульса от подчинения знаковым структурам. Хотя в некоторых стихах рифма может сама образовывать значимую, семантически наполненную структуру, но в общем случае она вызывает не накопление, а расточение психической энергии, затрачиваемой на восприятие и опознание рифмующихся слов вне смысловой связи между ними.
Другая обобщенная форма миметической коммуникации в литературе – остранение. Собственно, одним из его проявлений можно считать и ритм – ритмизованная речь звучит странно по сравнению с обычной, но остранение проявляется и во многих других, более локальных текстуальных эффектах. Русские формалисты, сформулировавшие это понятие, опирались на энергетические представления о работе текста183. Средствами остранения речи служат фигуры – нестандартные, отклоняющиеся от нормы способы выразить некоторый смысл; фигура замедляет чтение, не позволяет с ходу опознать значение, заставляет работать над своей дешифровкой – эта работа и есть работа мимесиса. Каждая фигура – это не только семантическая, но и энергетическая аномалия, нарушение равновесия, за которым следует обратный, также энергетический процесс – редукция фигуры, возвращение к норме: «отклонение от отклонения, отрицание, неприятие, забвение, упразднение отклонения»184. Некоторые фигуры – особенно нарративные, усложняющие и замедляющие ход повествования (то, что в формалистской поэтике называлось работой «сюжета» над «фабулой»), – развертывают этот процесс в синтагматике текста, другие, например различные тропы, концентрируют его в отдельных точках текста.
Миметический и одновременно энергетический характер носит еще один прием, широко применяемый и изучаемый в современной литературе, – чужая речь. Формы ее различны, от обычной цитаты до косвенной речи, пародии, сказа185 и далее, вплоть до «полифонической» конструкции, обнаруженной М. М. Бахтиным в прозе Достоевского. Чужая, то есть по определению имитируемая, мимируемая речь всегда создает перебой в плавном течении текста – иными словами, представляет собой особого рода фигуру – и заставляет читателя переживать силовое столкновение двух дискурсов, борьбу двух чужеродных сознаний. Коммуникативный мимесис материалистичен, на место гармонии и духовного синтеза, которые обычно предполагаются при мимесисе репрезентативном, он ставит сдвиг, недиалектический конфликт случайно-исторических существ.
В повествовательных текстах, излагающих события, которые происходят с персонажами, мимесис может удваиваться, получать еще одно, дополнительное иллюзорное опосредование: читатель сопереживает не только автору, но и герою. Современная теория рецепции изучает этот эффект под названием фикционального погружения: реципиент воспринимает вымышленный мир художественного произведения или компьютерной игры как реальный мир, где находится он сам. Для достижения такого эффекта обыкновенно и служит герой – особая миметическая фигура текста, переключатель фикционального погружения. С ним условно ассоциируются аффективные комплексы, которые в реальном процессе коммуникации отрываются от конкретного субъекта и мигрируют в интерсубъективном пространстве, воспроизводятся при посредстве героя от автора к читателю. Жиль Делёз отличал такие номадические, никому не принадлежащие реакции от собственно психологических, происходящих в душе конкретного человека: «Перцепт или аффект постижимы лишь как автономные, самодостаточные существа, уже ничем не обязанные тем, кто их испытывает или испытывал раньше…»186
Как и в других случаях, при фикциональном погружении мимесис имеет место только на фоне семиозиса и во взаимодействии с ним; они могут чередоваться более или менее крупными сегментами текста. Так, в эротических повествованиях эпизоды, распаляющие чувственность читателей и приглашающие их «погружаться» в воображаемые события и мысленно подражать персонажам, перемежаются нейтральными повествовательными связками. Последние, например, у маркиза де Сада развертываются в длинные философические диалоги и монологи, выполняющие рамочную функция: они ограничивают и оттеняют эротический разгул упорядоченностью риторического дискурса187.
Ниже мы рассмотрим подробнее иной пример повествовательного мимесиса, где разные его формы и аспекты совмещаются в пределах небольшого текстуального сегмента.
В романе Василия Гроссмана «За правое дело» (1949, первая книга дилогии «Жизнь и судьба») есть короткий, проходной эпизод – гибель водителя грузовика во время немецкой бомбежки Сталинграда: «Водитель ехал вверх, слушая, как пыхтит мотор.
Вдруг возник нарастающий вой бомбы, он прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с ужасной тоской подумал: „Хана“ – и перестал существовать»188.
Аффективное сопереживание герою задается первоначально с помощью музыкального мимесиса, выражаемого внешними слуховыми ощущениями: сначала это напряженная работа двигателя, поднимающего машину вверх по склону (водитель перед этим только что занимался его починкой), а затем диссонирующий, заглушающий ее «вой» падающей бомбы. Кульминационным миметическим эффектом служит предсмертное слово «хана» – фрагмент чужой речи, грубое, просторечное междометие, выражающее неосмысленный ужас; в отличие от внешних звуков оно, собственно, и не произнесено, не выражено звучащей речью, а лишь «подумано», как нерасчленимый психический рефлекс, телесный трепет, передающийся потрясенному читателю. Наконец, в финале фразы этот сдавленный предсмертный вскрик, энергетический взрыв, непосредственно предшествующий взрыву бомбы, резко сменяется по контрасту подчеркнуто не-миметичным, бесстрастно-знаковым сообщением «…и перестал существовать»: самая объективная, абстрактная форма сообщения о чьей-либо смерти. Происходящая при этом смена повествовательной точки зрения – с передачи ощущений и внутренней речи погибающего человека на внешнюю констатацию его гибели – сигнализирует о переключении перцептивного режима, о переходе от мимесиса к семиозису. Василий Гроссман сознавал силу такого приема; во второй книге своего военного романа, вообще изобилующего сценами гибели людей, он еще раз воспользовался им на грани автоплагиата, описывая смерть еврейского мальчика в нацистской газовой камере: «…мальчик не понял, что стало темно в глазах, гулко, пустынно в сердце, скучно, слепо в мозгу. Его убили, и он перестал быть»189.
Между тем эпизод гибели шофера имел и другое продолжение, уже в восприятии людей, читавших роман Гроссмана. Как известно, этот роман – даже первая его книга, в целом следовавшая литературным нормам сталинской эпохи и, в отличие от второй книги, изданная на родине автора при его жизни, – имел трудную публикационную историю, и частным ее проявлением стала судьба рассматриваемого здесь отрывка. «За правое дело» было впервые напечатано в «Новом мире» в 1952 году, а издано отдельным томом в Воениздате в 1954‐м, и вот в этом первом книжном издании рассказ о смерти водителя выглядел иначе: «Водитель ехал вверх, слушая, как пыхтит мотор.
Вдруг он услышал нарастающий вой бомбы, прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, и перестал существовать»190.
Как легко заметить, здесь исключен центральный миметический эффект, пароксизм смертного страха: «…с ужасной тоской подумал: „Хана“». Это, несомненно, редакционная купюра: вычеркнутые слова присутствовали в публикациях текста, выходивших ранее и позднее. Мотивы правки вряд ли были зафиксированы в каких-либо документах; если бы можно было спросить о них у самого редактора191, он, вероятно, сказал бы что-нибудь об «излишнем натурализме» или же «эстетизации смерти», которыми-де страдала данная фраза. Критика упрекала роман Гроссмана (начиная еще с подготовки первой журнальной публикации) в идеологических недостатках, в неверной интерпретации хода войны и т. д.192, но в рефлекторной реакции гибнущего человека не было вообще никакого идеологического смысла, и такой стихийный порыв аффективности, очевидно, был сочтен подозрительным. Редактор почуял здесь превышение меры «выразительности», допустимой в литературе соцреализма, – чистый мимесис, непокорный смысловым конвенциям официальной советской словесности, – и не преминул его цензурировать.
С другой стороны, еще в конце 1940‐х или самом начале 1950‐х годов, до публикации, Василий Гроссман читал главы из романа своим друзьям – писателям Андрею Платонову и Семену Липкину (последний в дальнейшем сыграл важную роль в спасении и издании второй книги романа – переправил за границу экземпляр ее рукописи, арестованной КГБ). По воспоминаниям Липкина, эпизод гибели шофера и его предсмертных переживаний произвел особое впечатление на Платонова: «Когда Гроссман читал нам главы из романа „За правое дело“, Платонов тоже не высказывался, а повторял после чтения запавшие ему в душу выражения, например: „Отставить матерки!“ – или „«Хана» – и перестал существовать“, – это относится к фразе о водителе…»193
Подобно воениздатскому редактору, вычеркнувшему сомнительные слова из романа, Андрей Платонов чутко среагировал на их миметический эффект – но среагировал положительно, сам начал воспроизводить, проговаривать эти слова, извлекая их из структурно-семантического контекста. Действительно, такой эффект был созвучен собственному творчеству Платонова, где он не раз экспериментировал с аналогичными приемами, в том числе при описании смерти людей194. Мимесис способен перешагивать границы текста, превращаясь в навязчивый мотив для его читателей или слушателей; в такой способности к стихийному распространению – его сила и потенциальная опасность, которую по-своему ощутила и редакционная цензура.
Хотя проанализированный выше пример выбран во многом случайно, тематически он специфичен для коммуникативного мимесиса, выражающего внутреннюю жизнь тела. Энергия, в данном случае психофизиологическая энергия предельного, смертельного опыта, выступает не в связанно-структурированном, а в свободно-стихийном виде, и оттого систематически проявляется в насилии и разрушении (а также в эротическом возбуждении, смехе и иных нефункциональных аффектах). Действенность такого мимесиса коренится в древних жертвенных обрядах, когда вещи, животные и люди уничтожались «ни для чего», единственно с целью вызвать коллективное чувство причастности сакральной энергии, выделяющейся при жертвоприношении195. В истории эпизода из романа Василия Гроссмана присутствуют различные составляющие этого социокультурного комплекса: завороженное переживание – не эстетизация, а скорее сакрализация – момента чужой насильственной смерти, попытки властных инстанций сдерживать, замалчивать такие небезопасные мотивы, наконец непроизвольное повторение «запавших в душу» миметических текстов, которые легче всего, посредством психического заражения, передаются от одного человека к другому. Все эти факторы описываются как энергетические процессы: напряженное внимание, цензурное сопротивление («противо-подражание», contre-imitation, как называл такие процессы еще Габриель Тард в конце XIX века)196, резонансное воспроизведение импульса.
Эффекты коммуникативного энергетического мимесиса используются в литературе и искусстве всех эпох, но их наиболее сознательная разработка, освобожденная от чужеродных мотивировок, стала фактом культуры первой половины ХХ века, включая русскую литературу революционного периода. Их теорию создавали русские формалисты; их работу описывал и пытался систематизировать Владимир Маяковский; их широко применял Андрей Платонов, до конца жизни сохранивший повышенную чуткость к подобным эффектам. Опытом предшественников пытался пользоваться, уже значительно позже и в иной обстановке, Василий Гроссман, – но его попытка наткнулась на противодействие соцреалистической цензуры, подавлявшей и вытеснявшей из публичной сферы «слишком тяжелые» (то есть слишком миметичные, слишком телесные) переживания.
В заключение следует еще раз напомнить, что мимесис, проявляющийся в энергетических эффектах текста, – очень специфический мимесис, отличный от того, что традиционно обозначается этим термином. Он независим от конкретного субъекта и конкретного объекта, которому (или идеальной сущности которого) «подражал» классический художник или поэт, и в тенденции принимает форму безличной коммуникации, когда читатель или слушатель текста «подражает» своими внутренними реакциями процессу, у которого могло и не быть конкретного источника или же этот процесс «бродил», перемещался между разными реальными и вымышленными субъектами (например, между автором и героем). Иными словами, в литературе возможен «беспредметный» мимесис, самостоятельная работа наведенного, искусственно запрограммированного энергетического события.
Это целостное, нерасчленимое событие доводится до читателя через посредство членораздельной речи, дискретной знаковой структуры; как правило, оно и внутри текста помещается в знаковом контексте, выступая как предельное выражение, неразложимый остаток, который уже не поддается семиотической интерпретации. Люди повторяют его друг за другом – но повторяют окказионально и безотчетно, в отличие от систематического повторения кодифицированных знаков, например языковых. Мимесис – это особо интенсивный, неустойчивый момент в рецептивной структуре текста, который поддерживается семиозисом, но и выходит за его структурные рамки. Его исследование не противостоит семиотическому изучению искусства и литературы – оно его дополняет, выявляя в текстах культуры точки повышенной напряженности, энергетические процессы, которые и транслируются, и сдерживаются знаковыми механизмами.
РАЗДЕЛ 2
Носители энергии
Кристоф Азендорф
Потоки и лучи. Медленное исчезновение материи около 1900 года 197
Глава Х. Лучи«Кому известен этот доктор Шребер?» – вопрошал в 1884 году заголовок одной из саксонских газет после провала на выборах в рейхстаг доктора Даниэля Пауля Шребера, бывшего в то время директором земельного суда в Хемнице. Имя Шребера знакомо сегодня благодаря «шребергартен» – земельным участкам, выдаваемым городским жителям, – они связаны с распространением чрезвычайно популярной в свое время оздоровительной гимнастики, которую разрабатывал и испытывал на собственных детях отец кандидата в депутаты. Это была система сурового физического воспитания, включающая среди всего прочего использование замысловатых оков, призванных скорректировать осанку при письме. Его сын, кандидат в депутаты Шребер, перенес, очевидно, вследствие перенапряжения в ходе предвыборной борьбы, первый психотический приступ и на протяжении полугода после этого лечился от ипохондрии. В 1893 году он добился должности президента сената, за этим последовал второй психотический приступ и пребывание в клинике с 1893 по 1902 год. Ему был поставлен диагноз «паранойя». Проведя несколько лет в кругу семьи, он вновь оказался в 1907 году в психиатрической клинике из‐за третьего приступа и оставался там до самой смерти в 1911‐м, при этом нового диагноза поставлено не было198.
Таков биографический контекст. В 1903 году Шребер опубликовал «Мемуары больного, страдающего нервной болезнью», изложение системы его безумных идей, о котором здесь и пойдет речь. Несмотря на то что семья автора пыталась, скупив большую часть тиража, утаить существование этого сочинения, и без того не пользовавшегося большим спросом, рецепция текста, продолжающаяся до сих пор, началась уже в 1911 году с появлением работы Зигмунда Фрейда, в которой было высказано предположение о том, что причиной второго психотического приступа, которому и обязаны своим появлением «Мемуары», послужила атака гомосексуального либидо. Впоследствии Жак Лакан, использовав структурно-лингвистический метод, исследовал на примере Шребера саму возможность понимания психоза как таковую. Делёз и Гваттари отходят в «Анти-Эдипе» от классической психоаналитической интерпретации и рассматривают случай Шребера в контексте анализа капитализма. Баумайер указывает на отпечаток политических разногласий того времени в безумии Шребера, в то время как Канетти независимо от психоанализа исследует параноика как «образ власть предержащего»199. Рассматривая случай Шребера, очевидно репрезентативный для многих интерпретационных моделей, нельзя не сделать попытку прочтения, соотносящую «Мемуары» с концепциями восприятия действительности, характерными для времени создания текста.
Шребер предполагает, что человеческая душа содержится в нервах тела; обобщенно можно сказать, что он понимает жизнь как нервную деятельность. Внешние впечатления возбуждают нервы и заставляют их вибрировать; они наделены способностью удерживать полученные впечатления (память), а также обладают силой приводить в движение мускулы. Нервы организуют, направляют и упорядочивают всю деятельность организма. Бог, напротив, говорит Шребер, «является изначально только нервом, не телом»: божественные нервы, таким образом, бестелесны, но в остальном принципиально не отличаются от человеческих, разве что своим неограниченным количеством. Однако они могут, не будучи связанными с телом, перемещаться во всевозможные вещи и – тут содержится центральное понятие системы Шребера – «в этой функции они называются лучами»200.
Лучи, происходящие от Солнца или иных удаленных космических тел, приходят не по прямой линии, а «описывают некую петлю или параболу»201, то есть приходят не оттуда, где находится Солнце, что еще больше подчеркивает их бестелесно-вездесущий характер. Субъект воспринимает их как сверхчувственный феномен или же с помощью органов зрения. Шребер описывает в обоих случаях лучи, попадающие на его голову, как «длинные нити из каких-то чрезвычайно удаленных мест»; духовному оку они представляются «извивающимися нитями», которые через закрытые глаза проникают в нервную систему и создают там свое подобие. Если держать глаза открытыми, то лучи-нити устремляются с «одного или нескольких мест» одновременно, а также издалека из‐за горизонта к голове либо прочь от нее.
Все вместе это напоминает систему коммуникации, лучи являются для Шребера помимо всего прочего носителями голосов202. Тот факт, что их периодически сообщаемые послания не могут воспринимать другие люди, а только он один, побуждает его сделать примечательное сравнение с системой передачи электрической энергии: «…протянутые к моей голове нити лучей подобны телефонным проводам, так что те и без того не слишком громкие призывы о помощи, которые раздаются, судя по всему, на весьма значительном расстоянии, могу уловить лишь я, точно так же как только адресат, подключенный к телефонной связи, может услышать слова, произносимые по телефону, но не какое-либо третье лицо»203.
Отличие лучей от электрических токов, передаваемых по проводам, состоит, однако, в том, что они обходятся без материальных носителей – они действуют исключительно благодаря «силе притяжения»204 субъекта, то есть благодаря своего рода магнетизму. И они приводят, растворяясь в силу магнетизма в теле, «к окончанию самостоятельного существования соответствующих нервов, что представляет собой нечто подобное тому, чем для человека является смерть». В этом заключается основное значение лучей, «притока божественных нервов»205: они лишают субъекта возможности самоопределения, делают его объектом влияния.
Постоянство является сущностным признаком воздействия лучей, которому субъект не может противостоять. Это воздействие проявляется в форме, обозначенной Шребером как «мыслительное принуждение» (Denkzwang), в постоянном побуждении к действиям, которое исходит от лучей, контактирующих с человеком. «Мыслительное принуждение» подразумевает – и тут напрашивается параллель с современным миром труда, – что значение имеет не результат мышления, подобный продукту труда, а постоянство процесса. Одной из инстанций, вдохновляющих Шребера, является фигура его отца, абсолютизировавшего и словно автоматизировавшего повторение жестких воспитательных максим. На этот голос накладываются другие голоса, которые «более или менее равнодушно» обращаются к нему, желая знать, что он думает206.
Особым вариантом «мыслительного принуждения» является «система недоговаривания»: лучи бессчетное количество раз приводят нервы в состояние вибрации, которое порождает слова, но при этом всегда не достает какого-то элемента мысли, и Шреберу приходится восполнять его207. Язык принимает характер постоянно движущегося механизма, он становится незаконченным продуктом, который субъекту необходимо, словно на конвейере, дополнять. Такой механический характер языка находит выражение еще в одном дьявольском обстоятельстве: вынужденном, навязанном извне, темпе труда208 (в данном случае речь идет о его замедлении): лучи произвольно растягивают во времени свои побуждения или указания, передача коротких предложений, состоящих из четырех – пяти слов, может продолжаться до минуты.
«Мыслительное принуждение» во всех его формах является для Шребера «нарушением исконных прав человека», оно не дает ему «защитить неприкосновенность моей головы и дать отпор чужому вторжению. Но это и невозможно по отношению к лучам, поскольку я не в состоянии воспрепятствовать их воздействию на мои нервы, основанному на божественной чудесной силе»209. Мыслительное принуждение обозначает для Шребера конец его гражданской и бюргерской автономии, оно может быть истолковано как параноидная метафора изменившейся формы общественных отношений.
Другой формой чужого воздействия является для Шребера «направление взгляда»210, то есть обращенность глаз в определенном направлении. Только рядовой солдат в буржуазном мире может принимать команды вроде «равнение на середину», не чувствуя себя параноиком, – для Шребера же это симптом дистанционного управления со стороны лучей, которые заставляют его обращать внимание на определенные вещи. При этом лучи вполне могут выступать помощниками: в то время как персонажа романа Фридриха Теодора Фишера «Еще один» («Auch Einer»), – психическое состояние которого обнаруживает немалое сходство с тем, которое описывает Шребер, – постоянно угнетает «коварство объекта», он отчаянно ищет предметы и верит в их заговор против себя211, Шребер приходит к выводу, что его взгляд благодаря чуду «движения глаз» обращается к искомому предмету.



