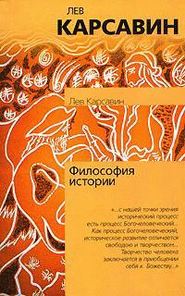 Полная версия
Полная версияФилософия истории
27
Рассмотрение семьи, рода, сословия и класса естественно приводит к высшей, индивидуализирующейся в них личности – к народу. Однако, прежде чем остановиться на анализе понятия народа, удобнее, по некоторым соображениям, выяснить природу высшей личности – культуры. Термин «культура» двусмысленен. – Культурою мы называем и некоторую систему качествований той либо иной индивидуальности: мы говорим о культуре народа, даже о культуре сословия, и самое качествующую индивидуальность, высшую, чем народ. В последнем смысле мы употребляем термин культура, когда говорим о культуре данной эпохи, одинаково свойственной многим ее народам, о европейской, русской, античной, индийской культурах. Несомненно, было бы удобнее провести и какое-либо терминологическое различие; но вообще лучше не вводить новых терминов, пока не появится в том крайней необходимости.
Понятие культуры необходимо предполагает некоторый субъект ее, подобно всякой исторической индивидуальности извне очерчиваемый лишь приблизительно. Так, субъектом античной культуры (т. е., в конце концов, ею самой) является человечество, жившее в бассейне Средиземноморья и преимущественно индивидуализировавшееся в греческом и римском народах; субъектом европейской культуры – человечество, географически преимущественно сосредоточившееся в Западной Европе и индивидуализировавшееся в европейских народах. Мы необходимо заключаем к всеединому субъекту европейской культуры от взаимодействия европейских народов, от общности в их качествованиях и развитии (§ 17), от смутно очерчивающегося в прошлом культурного, еще не дифференцировавшегося по народам единства.
Всякая культура – индивидуализация человечества, всеединого во всех их, и надорганическая индивидуальность. Во всякой есть свое «личное», только ей и свойственное, определяющее ее в ряду других культур. Это «личное» – его можно назвать идеею культуры – не определимо абстрактно: оно раскрывается в конкретном всеединстве индивидуализаций – качествований и индивидуальностей – данной культуры и только чрез них символически познается.
В своей специфичности всякая культура должна выразить все человечество; и человечество может быть совершенно выраженным лишь в том случае, если все оно стало каждою свою культурою и всеми ими, т. е. если каждая из них и растворила в себе все другие и во всех других растворилась. Эмпирически этот процесс, конечно, целиком не совершается: все культуры в своем становлении лишь бесконечно приближаются к идеалу.
Из данного определения культуры следует, что культуры друг для друга абсолютно недоступны. Одно качествование не может стать другим. Но этот энергично защищаемый Шпенглером тезис нуждается в более точной формулировке (§ 17). Субъект данной культуры, например – европейской, никак не может быть субъектом культуры другой, например – античной. Он, становясь собою, может качествовать только по-своему и не может качествовать чужими качествованиями. Но он в определенности своей, как европейский, только индивидуализация высшего, объемлющего и его и античную культуру, их в себе включающего. Он – момент этого высшего субъекта, т. е. и его индивидуализация и его стяженное всеединство. Он не отделен от (себя, как) высшего субъекта никакою перегородкою, не оторван от него: сразу и определенно-актуально европейский и всеедино-стяженный. В качестве европейского он актуально выражает себя; в качестве стяженного он выражает себя убледненно-ослабленно – в «воспоминании», в «пережитках», «остатках» некоторых других индивидуальностей-культур. Они актуальны всецело (воспоминание их другими моментами тоже есть некоторая актуальность), как другие моменты.
Мне, как русскому или европейцу, недоступна и непонятна культура индийская. Но я не только русский или европеец. – Я могу «перевоплощаться» в индуса и тем постигать его качествование. И не случайно, а полно глубокого смысла, что изучающий, например, античность человек, «погружающийся» в нее, часто, в конце концов, становится для нас непонятным, поражает нас непривычным образом мыслей, кажется наивным или чудаком. При всей взаимной недоступности культур в любой культурной эпохе возможно постижение иных, но не потому, что она культура, а потому, что она не только данная культура.
Мы не наблюдаем катастрофической смены культур друг другом, что по-видимому, необходимо, раз совершенное бытие всякой требует небытия других. Напротив, полное исчезновение какой-нибудь культуры – явление чрезвычайно редкое, а, может быть, и небывалое. Каждая, после видимой своей гибели, переживает себя в том, что связано с ее вещественными остатками, в традициях ее, продолжающих свое существование в лоне других культур, в памяти – знании их о ней. Для исторического процесса характерно сосуществование ряда культур, иногда в полном расцвете, не только их смена. Заслуживает внимания даже некоторая одновременность в разных культурах одного и того же (по разному, конечно, индивидуализуемого) качествования человечества. – Заратуштра, Будда, Конфуций и Лао-цзы, а в античном мире – Пифагор, Анаксагор, Гераклит почти современники.
Во всевременном единстве развития содержатся все культуры со всею полнотой достигнутой ими эмпирически актуализованности и усовершенности. В нем всякая культура и зарождается, и раскрывается, и погибает, уступая место другим культурам, другим качествованиям-индивидуальностям высшего субъекта. Во всеединстве развития прошлое, настоящее и будущее культуры по степени актуализованности своей не различны. Но оно вовсе не складочное место, куда сбрасывается прошлое и где уже есть настоящее, и не какое-то частично удвояющее эмпирию бытие. Эмпирическое становление – момент всеединого развития, недоступного для него только в его эмпирической умаленности.
Исходя из идеи всеединства и учитывая незавершенность и несовершенство эмпирии, мы должны ожидать в эмпирическом развитии культуры (как, разумеется, и всякой иной индивидуальности) во 1-х) возникновения ее из ничто, т. е. неуловимого и эмпирически необъяснимого (ср. § 5, 7) возникновения в лоне других культур, во 2-х) ее становления в стяженное многоединство ее моментов, качествований и индивидуальностей (народов), в 3-х) вытеснения ею других качествований в противостоящих ей индивидуальностях, т. е. растворения ею в себе иных культур, и в 4-х) ее погибания, т. е. ее растворения в других культурах.
И в самом деле, всякая культура зарождается в лоне другой или других, уже существующих, вырастает из потенциального своего единства с ними в высшей личности, не обязательно в человечестве, ибо между человечеством и культурою (в выясняемом нами смысле) могут существовать еще и «промежуточные», высшие, чем культура, но низшие, чем человечество, личности. Культура проявляется как новый, неведомый аспект уже сущего в других аспектах, как новая личность наряду с другими личностями. Мы никогда не можем с точностью указать, когда культура появляется, когда уже родилась новая личность. Когда возникли наиболее эмпирически нам известные европейская и русская культура или культура американская? Несомненно, в IX–XI веках в пределах между Средиземным морем и Эльбою, от Адриатики, верховьев Дуная, границ Баварии и Саксонии на Запад уже существует европейская культура. Но многие черты ее усматриваются ранее: в VI–VII: в Лонгобардской Италии, в королевстве висиготов, в державе франков. И как определить, как назвать ее носителя? – При попытках определения мы сразу же наталкиваемся на его индивидуализации: на личности зарождающихся народов. Всеединый субъект их эмпирически никогда отдельно не существовал и все же – самая настоящая реальность. И что это за народ французы, счастливые создатели воспеваемого уже «Песнью о Роланде» «le doux royaume de France»?[43] Где географические границы Франции?
В развитии своем всякая культура, раскрываясь и индивидуализуясь, неудержимо стремится к расширению. Она по-своему преображает, «делает собою» окружающую среду, она «осваивает» породившие ее культуры и те, которые ее окружают, – убивает иные культурные личности и заменяет их собою. Так, европейская культура, зарождаясь и в германском народе, делает его и своею индивидуализацией, но убивает в нем другую личность, ранее в нем индивидуализовавшуюся. Неверно, будто экспансивность свойственна только поздним стадиям культурного развития (цивилизации): в разные периоды культуры расширение ее носит только разный характер, по-разному обнаруживается. С самых начал своих Рим растет в завоеваниях, поглощая и осваивая италийцев, греков, этрусков. Европейская культура раскрывается в освоении ею кельтского, романского, германского населения Европы, не будучи ни кельтскою, ни романскою, ни германской. И полным непониманием самого существа проблем проникнуты попытки историков, до сих пор не прекращающиеся, «вывести» европейскую культуру из германского или романского начала. Они обладают видимостью убедительности лишь потому, что именем «германского» или «романского», сами того не замечая, называют «исконно-европейское». Но не лучше и примирительные гипотезы, выводящие европейскую культуру из «взаимодействия» романизма и германизма. Какой, подумаешь, химический анализ! – Да ведь и в химическом анализе из свойств элементов и их взаимодействия a priori не вывести свойств сложного тела.
Раскрыв себя, культура поникает, теряет единство, разлагается и вытесняется новою или новыми. Однако не следует придавать чрезмерное значение этой схеме. То, что наблюдается в целом культуры, наблюдается и в каждом из ее моментов. Всякое мгновение исторического бытия являет собою своеобразное скрещение культур: всегда каждая из них в одном отношении утверждает себя, осваивая иные, в другом – гибнет, ими осваиваемая. Когда русский человек отрекается от православия и переходит в католичество, а затем неизбежно утрачивает и прочие русские качествования, – в нем умирает русская культура и рождается европейская. Не следует также мыслить конкретный исторический процесс, как интегральный эмпирически. Конечно, он все время обогащается появлением нового. Но зато в нем все время наблюдается и вытеснение новым старого. В нем эмпирически возникают некоторые абсолютно-значимые ценности; но в нем исчезают другие, столь же абсолютно-значимые. В некотором смысле можно говорить про обогащение абсолютного Бытия историей. Но необходимо помнить, что всеединое бытие не только становится, а и есть уже, что становление – момент Всеединства.
Историческое развитие, в умаленности времени выражая порядок всевременности (§ 6), совершается в одном направлении – от прошлого к будущему. Каждая последующая по времени культура может преображать в себе предшествующие, но как будто не наоборот: предшествующей последующие недоступны. Это не совсем так. – Поскольку в настоящем «переживает» себя, скажем, античная культура, настоящее является самою античностью. И если наша культура, «антикизируя», выражает в себе античное, то и античная в этом самом акте нашей культуры себя «модернизирует» и делает собою современность. Странное дело! – Никому и в голову не приходит, будто Венера Милосская в Лувре не есть та самая Венера, которая была и в древности. Но всякий почему-то предполагает, будто повторенное мною слово в слово и понятое мною доказательство Эвклида есть какое-то новое, какая-то копия настоящего. А принципиально нет различия между теоремою Эвклида и любым духовным моментом античности. И то, что в моем сознании он «обрастает» многим «европейским» или не познается целиком, ничем не отличается от того, что Венера Милосская поставлена в малопригодное для античной богини помещение, а время похитило у нее руки. Античность реально, хотя и ущербленно, живет в настоящем, раскрывает в нем новые свои качествования, прежде неведомые. И тут нет ничего загадочного, ибо, культура – всевременное единство, не ограниченное временем и пространством своего расцвета.
Таким образом, всякая культура взаимодействует (и всегда несовершенно, но несовершенно она и раскрывается) не только с «предшествующими» и «одновременными», а и с «последующими», живет не только в прошлом и «преимущественно своем» настоящем, а и в будущем. «Естественное» заключение сводится к тому, что в данный временный момент своего развития культура в индивидуализациях своих опознает прошлые и современные, не опознает будущих. Она, подобно индивидууму, «помнит», но не «предвосхищает». Однако и здесь (ср. § 6) я бы не решился утверждать абсолютную невозможность для данной культуры предвосхищать будущее. Если мы обратимся к исторической действительности, мы найдем в прошлых культурах явления и людей нашей, предвосхищения современности. И понятно, что будучи связаны с восхождением от ограниченности культур к их всеединству, от временного бытия к всевременному, подобные «предвосхищения» сказываются преимущественно в области религиозного, философского и научного творчества. Так как всякая культура раскрывается преимущественно в определенный период времени, эти антиципации обычно кажутся современникам ничем не обоснованными «откровениями» или «фантазиями». Так для античности в пору ее расцвета кажутся курьезами учения о центральности солнца, иррациональном числе, бесконечности и т. д. И то же самое в пределах развития самой культуры. – Понятны ли современникам учение о бесконечности Николая Кузанского, в наши дни возрожденное Г. Кантором, истинно-христианский (а вовсе не пантеистический) характер системы Эриугены и многое другое? Недаром величайшие гении находят себе признание лишь после смерти, иногда в других культурах.
Выдвигаемая нами теория нисколько не угрожает весьма важному для конкретной исторической науки различению между жизнью культуры в себе и тем, что не совсем точно можно назвать жизнью культуры в других культурах. Только в первом случае перед нами относительно полное раскрытие культуры, изобразимое как реальное систематическое всеединство. В других культурах культура живет как бы фрагментарно, индивидуализуясь в отдельных качествованиях, в отдельных индивидуумах, редко – в коллективной индивидуальности. Кроме того, во всех этих случаях культура актуализируется преимущественно теми своими качествованиями, которые наиболее близки пронизываемым ею культурам. Ибо мы должны допустить некоторое иерархическое соотношение культур, объясняющее отчасти и их хронологический и пространственный порядок.
28
В идеале всякая культура является всеединством индивидуализуемых ею качествований высшей личности, выраженным и прочими культурами, но из иного центра, из иного «преимущественного» качествования (ср. § 21, 19). В силу эмпирического несовершенства всякая культура выражает «заданное ей», «идеальное» всеединство ее качествований неполно. Она актуализирует преимущественно «сродные» ей качествования высшей личности. Связанная со средою, она до известной степени умаляется в «орган» высшей личности. Поэтому у всякой эмпирической культуры есть свои «излюбленные», «типичные» моменты-качествования и индивидуальности. Так можно согласиться с тем, что для западно-европейской культуры характерны архитектура и музыка, для античной – пластика. Это даже может явиться некоторым вспомогательным средством при определении и периодизации культуры. Но, конечно, культура, как и всякая индивидуальность, определяется не из типичных для нее качествований (наоборот, они сами объяснимы лишь из нее), не путем собирания этнологических признаков, не географическими границами. Она определяется из ее существа, из того, что можно назвать ее идеею, познаваемою стяженно во всяком внешнем проявлении культуры, т. е. и в типичных качествованиях ее, и в языке, и в этнических признаках, и в географическом ландшафте.
Во всех своих выражениях культура неповторимо-своеобразна, специфична. Она по-своему преобразует материальную среду, выбирая себе соответствующую (ср. § 3, 15); раскрывается в своем материальном быте, в своем социально-экономическом и политическом строе, в своих эстетике, этике, мировоззрении, религиозности. Но отсюда не следует, как думает Шпенглер, будто искусство, наука, философия, религия обладают только относительным знанием, будто нет абсолютной истины, а существуют только истины для данной культуры. Из многообразия пониманий истины можно сделать разные выводы. – Можно, например, допустить, что «истины» отрицают друг друга только в частностях, что во всех за различиями скрыто нечто отвлеченно-общее. Это будет отрицанием тезиса Шпенглера, на первый взгляд убедительным, по существу необоснованным. И это может быть формулировано следующим образом. – Есть абсолютная, отвлеченно-общая истина и есть исторические выражения ее. Они – как бы обрастание ее абсолютно-ложным (но культурно или относительно истинным), как бы одежды ее, истлевающие во времени. Но как выделить отвлеченную истину и кто докажет, что его определение не закутывает ее в непроницаемые исторические одежды? Может быть, в результате усердных отвлеканий к концу истории окажется, что и отвлекать было нечего, что Шпенглер прав? С другой стороны, если истина отвлеченна, обесмыслено всякое конкретное ее определение, не обладает никакою ценой историческая действительность. А это не страшно лишь до тех пор, пока не сознано.
Единственный правильный выход заключается в учении о конкретно-всеединой истине, не в «символизме», лукавой и последней уловке абстрактного мышления. – Конкретные, исторические понимания истины часто исключают друг друга, но только эмпирически и в ограниченности своего выражения. По существу каждое из них являет истинный аспект всеединой Истины, и без него она не полна. Может быть, доныне еще неясна степень их взаимоотрицания, а потому и кажутся убедительными ссылки на отвлеченную Истину. В идеальном бытии аспекты Истины должны нацело друг друга отрицать и тем самым сливаться во всеединую Истину.
Культура познается и определяется не извне, а изнутри – из ее идеи, в этом ничем не отличаясь от любой исторической индивидуальности и не вынуждая нас к дополнению того, что об историческом познании сказано выше (§§ 14, 16, 18, 20 сл.). Всякий момент данной культуры, являясь ее выражением, может служить исходным для ее познания и характеристики. И все же вовсе не безразлично для историка, на каких он сосредоточит преимущественное свое внимание. Некоторые моменты уже предуказаны, как основные, самою специфичностью данной культуры (§ 27). Но есть моменты, из которых лучше всего исходить при познании и характеристике любой из культур. Чем более качествование или индивидуальность связаны с пространственно-разъединенным бытием, тем менее они плодотворны для исторического анализа, тем труднее «диалектическое» их понимание. Историк должен искать идею культуры в наиболее непрерывном, в наиболее психическом и духовном (§ 18). Но и этого мало. – Мы уже знаем, что изучение индивидуальной биографии становится историческим лишь тогда, когда индивидуум рассматривается в связи с высшими индивидуальностями и, в конце концов, с самим человечеством (§ 14). – Культура должна необходимо пониматься в связи с другими культурами, т. е. в качестве момента высшей личности. Историческое определение идеи культуры заключает в себе отношение этой идеи к идеям высших личностей и человечества. Но и человечество непонятно и неопределимо вне его усовершенности и, следовательно, вне его отношения к усовершающему Богу. Идея культуры должна определяться чрез отношение к абсолютной истине, к абсолютному благу, бытию, красе. А это значит, что наиболее плодотворно для понимания культуры изучение ее религиозных (в широком смысле слова) качествований (§§ 8, 10, 12 сл.).
Но требование наше отнюдь не должно пониматься в том смысле, будто речь идет об отнесении идеи культуры (а также и всякой исторической индивидуальности) к Божеству, как к высшей «ценности» или как к абсолютному и недосягаемому «заданию». Всякий разрыв между историческим и Абсолютным здесь особенно опасен. Он приводит к обессмысливанию конкретного исторического процесса, хотя и совершающемуся под знаменем его осмысливания. Он угрожает отрицанием непрерывности и взаимной необходимой связи моментов исторического бытия, отрицанием ценности исторического во имя «абсолютной» ценности, к которой историческое «относится», но которая неведомо где существует или признается совсем не существующей. В более элементарных, хотя за последнее время и обновляемых формах такой разрыв выражается в попытках усмотреть моменты вмешательства Абсолютного в эмпирический процесс истории, в наивных учениях о чуде, воздействии Промысла, Божественном плане истории и т. п.
Отношение к Абсолютному, более того – само Абсолютное имманентно идее исторической индивидуальности, в частности – идее культуры. Идея и Абсолютное различны toto genere,[44] и все-таки идея и Абсолютное – одно. Идея – теофания, обнаружение Абсолютного (в Нем самом непостижного) в относительном (без и вне Его не сущем). Это относительное для него самого станет и Абсолютным, как для Абсолютного оно уже и есть само Абсолютное. Эта точка зрения, отожествляемая с пантеистической лишь плохо разбирающимися в понятиях, есть единственно-возможная для того, кто считает необходимым сохранить различие между сущим и должным, не сводя ни одного из них к иллюзии, признать действительность и абсолютную ценность исторического и, без манихейского абсолютирования зла и небытия, обосновать свободу развивающегося человечества.
29
Личность культуры есть индивидуализация всечеловеческой личности; однако не непосредственная. Культуры естественно объединяются в группы и притом такие, что часто трудно бывает провести различие между личностями культур и личностью, объединяющей их группы. Мы говорим, и не без основания, о культуре (группе культур) Передней Азии и внутри ее лишь приблизительно различаем, например, культуры Вавилона и Ассирии. Равным образом, рассматривая Рим и Грецию как индивидуализации одной великой античной культуры, мы не в силах провести резкую грань между нею и передне-азиатской культурою, с одной стороны, и эллинистическою, с другой. Это и не должно нас смущать, если мы помним о несовершенстве эмпирии: о неполном раскрытии в ней культур, о их сосуществовании как бы друг в друге и их взаимопереходе (§ 27).
Культура полнее всего понимается в религиозном ее качествований, ибо в нем она полнее всего актуализируется: без религиозного качествования она остается неопределенной, зачаточной. А так как в религиозности дано отношение культуры к всеединству и, следовательно, всем прочим культурам, анализ религиозного должен дать принципы для классификации культур, их групп и для понимания «места» каждой во времени и пространстве.[45] С этой точки зрения, вполне применимой к реальному историческому процессу, высшими по отношению к культурам, объемлющими группы их личностями будут религиозные культуры, каковыми и являются христианство с его видами: древним христианством, восточным православием, русским православием, католичеством, протестантством, иудейство, ислам, брахманизм, буддизм и т. д. Исчерпывающее перечисление религиозных культур здесь было бы неуместно: это входит уже в метафизику истории (§ I). Однако возможно наметить некоторые главные линии.
Основной религиозный факт и основная религиозная апория – взаимоотношение Абсолютного с относительным, тварным бытием, т. е. прежде всего – с человечеством.[46] – Абсолютное может быть определено (конечно, весьма приближенно и неточно), как совершенное единство следующих своих моментов: 1. Абсолютного самодовлеющего в Себе, единого и единственного, к которому в обычном словоупотреблении только и относят понятие абсолютности, 2. Абсолютного, как осуществляющего Себя в качестве абсолютной Благости, т. е. всецело отдающего Себя созидаемому Им из абсолютного небытия, вне Его ничтожному, но сущему в свободном приятии Его и становящемуся всецело Им субъекту (Человеку), 3. Абсолютного, как восстановленного в бытие из вольного небытия Его в твари (Человеке), «обогащенного» вольно отдавшею Ему себя и Им обоженною тварью. Таким образом, тварь (Человек) определяется, как созданный Богом и свободно возникший из ничто второй субъект всеединства Божественных качествований, субъект сущий в становлении его Богом, всецело ставший Богом, погибшим в нем, и в силу этого возвратившийся в небытие чрез отдачу себя Богу.
Но мы должны внести в сказанное некоторые весьма существенные дополнения. – Онтологически тварь начальна (не бесконечна), а потому изменчива. И она может стать Богом всецело лишь оттого, что Бог становится ею, определяя свою бесконечность как единство бесконечности с конечностью. Иными словами, Бог обезначаливает (обесконечивает) тварь чрез оконечение своей бесконечности. Это и есть, выражаясь богословскими терминами, Боговочеловечение. В силу самой начальной, т. е. изменчивой, природы своей, тварь (а, следовательно, и Бог, поскольку Он вочеловечился) не только не есть (т. е. не есть Бог или абсолютно не есть) и есть (т. е. есть Бог), но и становится, т. е. Богу противостоит. Становление, умаленно выражаемое историческим процессом развития, является таким образом моментом Абсолютного. Но, в силу свободы своей, т. е. возможности «недостаточно хотеть», тварь сама не стала всецело Богом, не усовершилась, хотя и в себе самой, а не в Боге, абсолютная Благость которого от воли тварной не зависит. Таким образом для твари (не для Бога) возникло иллюзорное бытие – несовершенное, стяженное всеединство, противостоящее усовершенному и Божественному. Тварь (Человек) сама не усовершилась. Виновная недостаточностью усилия, она в недостаточности осуществленного, в неполноте своего всеединства несет свою абсолютную справедливую (т. е. и ею созданную) кару, мучительный кошмар ограниченно-эмпирического бытия. Для того, чтобы абсолютная Благость могла осуществиться чрез преодоление косности человечества, Она, вочеловечиваясь, прияла само несовершенство (кару), абсолютировала, обожила самое недостаточность и сделала действительностью иллюзию. Боговочеловечение стало и Боговоплощением. В этом последнее основание истинности стяженного бытия и стяженного знания. Этим же, чрез «невольное», «рабское» нисхождение Абсолютного в вольную умаленность тварного, создана возможность преодоления этой умаленности и тварью и осуществлена цель Божества (§ 13).



