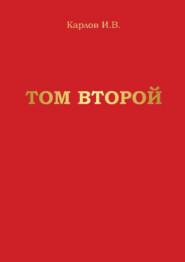
Полная версия:
Том второй
…Двери кафе безостановочно распахиваются и закрываются, впуская алчущих или провожая утоливших голод. За мелькающими створками (словно бы на сеансе оптического театра) видно прерывистое движение оживлённой улицы: то пропылит пара сапог, догоняющих метлу, то пролетят куда-то стоптанные кроссовки подросткового размера, то вспыхнут чёрным бриллиантом безукоризненно чистые штиблеты столичного франта… А иной раз терпеливому наблюдателю выпадет случай узреть восхитительное зрелище – лёгкий ход двух пар обнажённых женских ног.
Две подружки-соперницы плывут по мостовой, что по подиуму, ступают павами две амазонки из таинственного племени Девушек Из Центра… До сих пор остаётся загадкой, каким образом приживаются и взрастают на нашей суровой почве сии эфемерные существа (вполне вероятно, инопланетного происхождения). Про них вообще известно немногое… Ну, например, что пешком те куколки практически не передвигаются, поскольку их нижние конечности предназначены природой для иных функций… Если же всё-таки возникает необходимость пройти небольшое расстояние, то шествуют они почему-то всегда попарно. Кроме того, путём многолетних наблюдений установлено, что надменные красавицы ведут ночной образ жизни, а куда скрываются и где обитают в дневное время – опять неведомо…
Надо полагать, в ареале центровых девчонок происходит жесточайшая видовая борьба, поскольку они всеми силами стремятся устранить любой намёк на собственную индивидуальность, непременно мимикрировать под общий стандарт. Чтобы выжить и оставить потомство приходится действовать грубо, цинично, исходя во всех поступках из двух основных постулатов, простых, зато накрепко засевших в модно причёсанных головках: украшать мир – наша миссия на Земле; наша свирепая, доходящая до едкой мелочности меркантильность – производная от нашей миссии, неизбежный и объяснимый побочный эффект.
Знаменосицы собственной непреложной правоты, прелестницы мерно чеканят шаг по старинной мостовой, словно бы на параде в честь окончательного торжества обезличенной красоты, которая, вопреки предположениям классиков русской литературы, оказалась абсолютно индифферентна к морали. Идут, словно пишут, упиваясь властью над царством мужчин, и при каждом шаге профессиональной чаровницы общепринятые представления о границах приличий причудливо смещаются, игриво колеблются вместе с подолами коротеньких юбчонок.
И не оторвать глаз от матового сияния молодой кожи голых ног, открытых любопытно-бесстыжим взорам до самых нежных, самых сокровенных изгибов и оттого кажущихся ещё длиннее! Ножки записных красоток (это даже на взгляд можно определить) упруги и чуть прохладны. Похожи на косые лучи августовского солнца, ещё способного на томную страсть, однако утратившего былой испепеляющий задор и легкомысленно сдающегося победительнице-осени. Хотя от неё-то, как подсказывает вдруг пробившийся родничком холодок в сердце, милости ждать не приходится: деспотичная владычица уже примеряет свой златотканый багряный халат – торжественное облачение для дней чудовищных казней, когда падут миллионы и миллионы безвинных листьев.
Ну, что ж… Шагайте, девушки, шагайте… Вы, похоже, уверены, что знаете, куда заведут вас ваши длинные ноги… Вы, верно, полагаете, что античной лепки ножки долговечнее каррарского мрамора… А устойчивее ли власть вашей мимолётной красоты, чем ваш высоченный каблук? А найдётся ли в конце вашего пути хотя бы одно местечко, где вам разрешат присесть в кругу собеседников, откуда вас не прогонят, несмотря на то, что вы бестолковы и неприглядны, словно пугало?
Тихий ток наших чистых рек
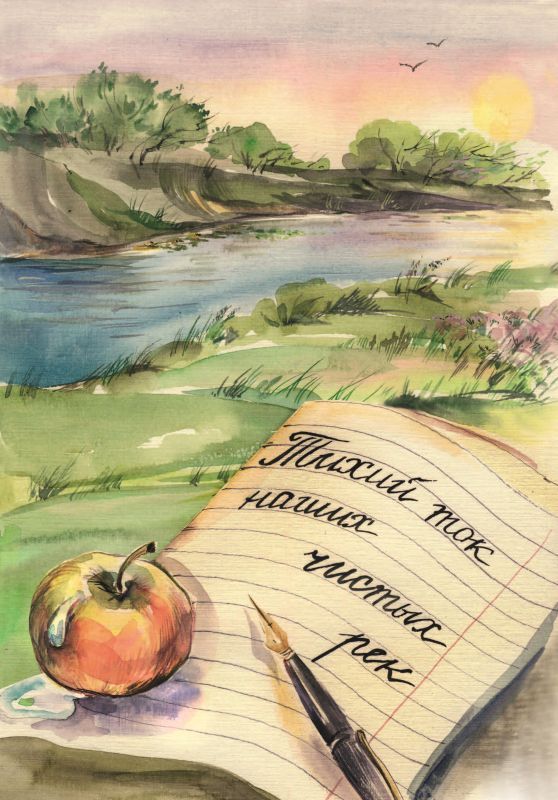
Здравствуй, старина, здравствуй! Никак мы с тобой не встретимся, чтобы поговорить всласть. А может быть, обо всем уже переговорено, и осталось только одно – думать над сказанным. Если угодно, то вот тебе еще дополнение, мои аргументы в спорах, которые вести уже кажется неприличным. Что-то вроде сочинения на тему «Как я провел лето». Что-то, чем можно пренебречь, но что есть.
Итак, поселок Чернь. Этим сказано все, можно поставить точку. Если бы не существовало поселка с таким названием, это можно было бы считать литературным дурновкусием вроде говорящих фамилий и зычных псевдонимов. Но есть он, поселок городского типа Чернь, райцентр земли Русской, в котором живут люди, а уж как и зачем – Бог весть.
Сюда приезжаешь на автобусе и, выходя на привычно заплеванную площадку перед автостанцией, обозреваешь окрестности. Через речку – железный мост, за мостом – луга, холмы, строения и горизонт. Рядом с автостанцией – больница. Для тех, кто относительно здоров, она присутствует в виде снятой реальности, обозначаясь забором, за которым необыкновенно густые кусты, крыши и легенды о добрых и злых, пьющих и непьющих врачах. Вдохнув летний пыльно-придорожный чернский воздух, понимаешь всю бессмысленность споров о медицинском страховании, семейных врачах и реформе здравоохранения. Когда стоишь на земле, которая родит, осознаешь, что все это глупые затеи, а если человек заболеет, не выздоровеет, пока не отболит у него то, что положено. Перетерпит боль – будет жить дальше, не сдюжит – помрет. И если найдутся люди, которые выступят посредниками между человеком и болью, то это, безусловно, титаны и герои мифологического масштаба. Они не лечат, не ведут прием, не процедуры назначают, они присутствуют при свершении таинства борьбы жизни со смертью. Поэтому районная больница – место почитаемое. Не со всякой болячкой в нее надо лезть, а только когда уж невмоготу.
Это вам не городская поликлиника, где конвейерным способом штампуются больничные листы, примерно обозначая даты условной болезни и условного выздоровления. Городская поликлиника – контора, в которой каждый больной в режиме «помоги себе сам» открывает медработникам симптомы, которые считает нужным сделать достоянием гласности в данный момент времени. Городская поликлиника – магазин самообслуживания, где рецепт представляет собой калькуляцию среднестатистического организма, модного лекарства и толщины кошелька больного. Не так обстоят дела в районной больнице. Как – не знаю, ибо не решался вступить за забор, понимая подсознательно, что не готов к серьезным отношениям с болью, что ни по возрасту, ни по жизненному опыту не достоин занять место среди тех, кто решился примериться к настоящей боли и той неизвестности, что последует за ней. Никогда не видел врачей Чернской больницы и не присягну, что они существуют. Впрочем, не видел и больных. Один только раз из-за кущ, обрамленных забором, вышла старушка в белом платке, но что-то шептало мне, что она не больна, а только навещала кого-то из страждущих. Выражение лица ее было веселым и умиротворенным, и навело меня на странную мысль: если арабы представляют себе рай местом с обилием воды и зелени, окружают себя в повседневности всевозможными фонтанами и пальмами, проецируя таким образом частицу горних сфер на быт, то не видит ли обитательница средней полосы России отражением рая на земле больницу? Там тишина и покой, там не нужно исполнять свой натужный повседневный труд, там хлеб насущный строго по распорядку выдается бесплатно, там чистота и прохлада, там мудрецы в белых одеждах говорят с тобой и внимают тебе с участием и интересом. И ведь недаром же она – РАЙбольница…
Однако жарко. Дорожная пыль щекочет ноздри и осела на глотке. Вперед, друг мой, в придорожное кафе. Да, именно так и означено на павильоне из стекла и древесностружечных плит: «Кафе». Космополиты и маловеры пройдут мимо, завсегдатаи парижских и венских кафе в ужасе отшатнутся, но подлинные наследники Владимира Красно Солнышко да пребудут здесь. Войдем и мы, присоединимся к избранному обществу водителей-дальнобойщиков и праздных поселковых жителей, окунемся в душную атмосферу пригоревшего масла, табачного дыма и некой неизвестной мне субстанции, которая обязательно витает в придорожных точках общепита, окружая их тайной. Войдем и изопьем по кружке местночтимого напитка, называемого пивом. Вкус его необыкновенно глубок, но какой это вкус – понять невозможно. Помимо воды в наших кружках плещется недовольство буфетчицы своим мужем, тягучий бестолковый разговор, тоскливая экономность провинциального пивовара и жажда наживы нечистоплотного торговца. Пить это пиво советую большими глотками, делая паузы, чтобы ощутить, как просыпаются защитные функции организма, как начинает цепляться за жизнь подсознание. Но кружку надо выпить непременно до дна, тогда глаза чуть подернутся влагой, а фибры души раскроются для познания неизвестной и дивной страны – России, о которой мы так мало знаем. Видимо, подобное испытывали чужестранцы в древней Спарте, когда вкушали чечевичную похлебку на бычьей крови и навсегда зарекались воевать со спартанцами. Выпили, крякнули, стукнули донышком кружки о столешницу. И вот теперь, когда организм приведен в правильное состояние, продолжаем осмотр окрестностей.
Главной достопримечательностью фасадной части Черни является, конечно, памятник. Подойдем ближе и осмотрим его. Только осторожнее, не попадите под машину! Чтобы дойти от кафе до памятника, надо пересечь проезжую часть «симферопольской трассы», знаменитой Е-95 (эх, знали бы куры, копошащиеся в обочинной пыли, что возятся на трассе федерального значения). Итак, памятник. Невнимательный отпускник, торопящийся в Крым на своём авто, отметит про себя: «Памятник». И всё. Но, господа, эта скульптурная группа из двух стоящих мужских фигур поразительна. Это единственный в мире памятник, воздействующий на бессознательное! Во всяком случае, я больше нигде не видел двоящегося памятника. Уверен, что многие, пусть и внимательные, отпускники, даже пившие пиво в кафе, даже отправлявшие телеграммы и звонившие «по межгороду» из почтового отделения, находящегося за памятником, даже жившие в гостинице левее памятника, не знают, кому этот памятник. Нет, он не Марксу и Энгельсу! Согласен, мужчина с цилиндром в руках – вылитый Энгельс. Но всмотритесь в другого: марксова ли это шевелюра? А эта борода принадлежит ли автору «Капитала»? А одежда? А толстовка? То-то и есть, что перед нами автор «Войны и мира»! Кому же памятник? Толстому и – Энгельсу. Вот тут-то и сядут на попу любые сюрреалисты, абстракционисты и прочие Неизвестные. И только старомодные и никому не интересные закоснелые приверженцы реализма будут продолжать мучительно искать рациональное зерно в замысле скульптора и, собрав в кулак волю и интеллект, откроют пред собой Толстого и Тургенева. Вот это, товарищи, настоящий катарсис. Вот это приобщение к художественному поиску. Вот тут кончается искусство и дышат почва и судьба. Как, откуда взялось это творение? Будь на моём месте беллетрист, он рассказал бы поучительную историю… Несколько историй. Например:
1. История о скульпторе, ваявшем только основоположников марксизма и неожиданно получившем заказ на памятник писателям.
2. История о мэре Черни, убежденном коммунисте, начавшем возведение памятника Марксу и Энгельсу, но переродившемся и изменившем проект.
3. История о заколдованном камне, над которым сколько ни работай, а кроме Энгельса никого не высечешь.
4. История о городах-побратимах – Черни и Карлмарксштадте, – обменявшихся изваяниями.
5. История о том, что Тургенев и Энгельс, Толстой и Маркс были, оказывается, дальними родственниками.
И это только первое, что приходит на ум! А каких голливудских сюжетов ещё можно было бы накрутить! Но я этого не сделаю, оставаясь в рамках бытописания на заданную тему.
Эх, друг мой! Я мог бы многое рассказать о Черни… Это сейчас, когда мы обросли животами и семьями, жизнь вокруг кажется отлаженной, а лет десять назад достаточно было сильного ветра, чтобы посёлок оказался без света. И тогда тьма египетская нисходила на улицы, а идущий навстречу человек выделялся из черноты лишь контуром, более тёмным, чем чернота. Сгустки мрака блуждали по посёлку, невольно сбиваясь к окнам, в которых были видны маятники свечей. Вот тут-то и понимаешь своё ничтожество перед силами природы. Настоящее – ветер, дождь, темнота, а игрушки цивилизации – электричество и права человека – пустое. Вот тут-то и чувствуешь себя ребёнком перед антропонесоразмерным дворцом природы. Да, в лесу у ночного костра испытываешь нечто похожее. Но представь только себе, что вокруг тебя еще тысячи существ, называемых разумными, копошатся в темноте. Понимаешь ли ты? Тысячи! Ужас и восторг обуревают тебя, и осенняя дождливая ночь в обесточенном посёлке равняет тебя с питекантропом, и ты понимаешь, что он, возможно, высшая ступень, гордый и сильный духом пращур, осознавший своё величие, изживший страх, имевший силы жить, существовать, теплить искру рода человеческого, несмотря на холод, голод и тьму.
Да, так было 10 лет назад, в то легендарное теперь время, когда сахар можно было купить лишь по талонам, когда сигареты выдавали по месту работы, когда передовикам уборки урожая предоставлялось право приобретения дефицитного товара со склада, а не через магазин. Это было время, когда Лёха – тракторист, пересекая трассу Москва – Симферополь и находясь в нетрезвом виде… (А кто поедет на Лёхином тракторе в трезвом виде?!) ведром, прикреплённым к борту прицепа, поцарапал «Мерседес», а бандиты стали взыскивать с Лехи за ущерб. И это не анекдот. Бандиты к Лехе два раза приезжали. Жилище его осмотрели – взять нечего. Хотели было дочку забрать, да куда её, дуру некрасивую? Это было время, когда мы потеряли свою страну, своё прошлое и будущее, когда мы смутно чувствовали что-то неприятное, и только сейчас стало понятно: в те дин, месяцы, годы нас продавали и продавали. Каждый час, каждую минуту, а то и секунду, по русской душе шло за копейку. Каждый час по русской буйной головушке ложилось кирпичиком в фундаменте чьего-то особнячка. Каждую минуту по жизни ложилось на чей-то счет, а кредиты выдавались кому-то под жизни детей и внуков наших. И дошло, наконец, до того, что осталась лишь заваль людская, никому не нужная, ничего не стоящая. Огляделись мы по сторонам. Эка! Да ведь заваль-то – это мы! И начали потихоньку соображать, что раз всё продано, кроме нас, то, значит, цены нам нет.
Почему мы выжили тогда, в тоскливые ночи без электричества? Потому, что смиренно поняли, что нам делать: одним в поте лица добывать хлеб насущный, другим в муках рожать детей. Каждый день шли мы работать. Ни смысла, ни результата работа наша не имела. Но с тупым упрямством пластались мужики и бабы, кишками, жилами, всем нутром своим тащили себя через время, надсаживаясь, плача и матерясь. Безвольно и покорно, как кляча в борозде, влачили время через себя. И менялось время. И мы менялись. Глупее нельзя придумать: люди заводили моторы, собирали картошку, учили детей, лечили стариков, и все без надежды на плату, без гордости за профессию, без благодарности начальства. Человек, провалившийся под лёд, выберется и побежит. Не видя конечной цели, не осознавая, что с ним происходит, звериной памятью припомнит, что бег – единственное его спасение. А мы вспомнили, что спасало предков – труд; злой, непосильный труд. Наказание и призвание человека на Земле. Постепенно, брошенные, ненужные, лишние людишки, осознавали мы труд как наше оружие в борьбе с жизнью, как единственное оправдание перед предками и потомками, перед Богом. Медленно отступала тьма, холод и голод, и сегодня я знаю, что ответить там, на Страшном Суде: «Помилуй нас, Господи. Мы грязны и грешны. Мы не сделали добра, не были достойны Тебя. Всё, что мы знали и могли, – работать».
Десять лет назад… Тогда подыхала великая империя, такая по-домашнему понятная и обжитая нами. Империя, подобной которой не бывало в мире, похожая на коммунальную кухню, на общежитие, империя без императора, без наследника, империя высокой обрыдшей всем идеи. Всеми поносимая, отовсюду изгоняемая страна умирала от смешной, в общем-то, причины: она стала неудобна, старомодна, неэффективна. У империи не было внешних врагов, ибо она была страшна своими размерами, и все, кто некогда хотел оспорить её право на существование с оружием в руках, махнули на неё рукой и забыли о ней. У империи не было врагов внутренних, ибо даже инородцы и студенты обжили собственные уголки Великого Беспорядка и уютно угнездились в них. Справедливости ради следует сказать, что не было у империи и друзей, и солдат, и идеологов. Казалось, что некогда установившийся порядок вещей уже не изменится. Однако запойная наша держава ворочала мозгами и стучала сердцем, то есть влачила существование с надеждой когда-нибудь жить. И с тем умирала. Умирала, повторюсь, от неэффективности.
Отметь себе! История русского народа знает множество примеров государственной борьбы с неэффективностью. И всегда это заканчивалось гибелью государства и победой неэффективности. Посему делаю вывод: неэффективность есть русский вариант эффективности, и всякий, кто не понимает этого, будет вредить государству.
И стояли над страной ночи. Осенние, глухие, такие непроходимо тупые и чёрные, что либо застрелиться, либо Леонида Андреева почитать. Обычные русские ночи, прессами давившие нас и в смутное время, и при крепостном праве, и в гражданскую войну…Что там – глаз коли; хоть зубы вырывай плоскогубцами, хоть режь по живому тупым ножом, не будет в ответ ни людского сочувствия, ни Божьей милости. Даже Луна куда-то девалась. Или от её света ещё темнее делалось в глазах? Наверное. В глазах темнело – это точно; от жизни впроголодь, от одиночества и заброшенности, от подспудного сознания, что, теперь, когда все створы разбиты, не будет больше покоя, справедливости, достоинства, что страшными ночами человеческая заваль будет убивать и насиловать безнаказанно, что пойдут по нашей земле гулять ненасытный подкуп и предательство, блядство и гнусь, что не будет честному человеку не только почета, но и приюта на родине. И так будет долго, может быть – всегда.
Кто говорит – раньше лучше было. Не знаю. По-другому было, а лучше ли?.. Кто рад: скоро лучше будет! Будет ли? Скоро ли?
Заунывная нота русских жутких ночей тянется, тянется, тянется. Многие годы, века, должно быть, досталось нам слышать ее. Так визжали тормоза «черных воронков»? Так скрипели оси телег продотрядов? Или – раньше – скрежетали уключины расписных челнов Стеньки Разина? Лязгали мечи междоусобных войн?
И под эту сурдинку встрепенулась вдруг «творческая интеллигенция» и давай глаза нам открывать да «всю правду» сообщать. По ночному небу (ещё черней) ползли пятна: архивы открылись, гласность наступила. Да так наступила (прямо в серёдку поганой лужи), что всем глаза брызгами залепила. Сослепу да сдуру полезли дружиться с «цивилизованными странами»: вот они мы! Хоть трахайте нас! А те: «Гуд, гуд. Хорош рус Иван! Давно мы тебя не лапали. Что это у тебя торчит? Крым? Прибалтика? Давай-ка их сюда». И сменяли полстраны на хорошее отношение к нашим лидерам. Сейчас только морду протёрли, башку почесали да по привычке рукой махнули: мол, не жалко, у нас ещё много осталось.
Вот ведь какая правда-то… Смотришь да удивляешься: как не заметили раньше, что «вся правда» была не вся? Если говорила «творческая интеллигенция»: «Сталин был злой усатый тиран», то подразумевала: «Чего мы не пожелаем, всё нам можно, а осуждать нас не сметь!» А если кто талдычил: «Переход к рынку! Переход к рынку! Переход к рынку!», то значило это: «Мне мало платят. Дайте денег! И ещё, и ещё!»
Оно конечно: и Сталин был тиран, да ещё злой и усатый, и базар поинтереснее карточной системы. И душа русская взыскует правды с тоской почти смертной. Но та «вся правда» десятилетней давности в другом. В том, уставшие мои современники, что разбрелись мы поодиночке в поисках корма и «удовольствий» и так и бродим в потёмках, натыкаясь на неразрешимые в одиночку вопросы.
Ночи, ночи осенние… Гораздо позже электричество стали отключать за неуплату, а тогда мы впервые узнали, что света, тепла, воды в домах может не быть. Просто не быть. Понимаешь? И ощутилось, что «цивилизация» – понятие отвлеченное и к понятию «человек» применимо далеко не всегда. Бывает так, что этот самый «человек» остаётся во мраке один на один с природой как биологический вид, голенький, без ста своих цивильных одёжек. Что делает тогда «человек»? Любуется звёздами? Читает при лучине? Или идёт грабить по подворотням? Раз нет электричества, то летят на помойку культура, воспитание – всё, чем согревались души на морозе существования. И пока не забрезжит за окном рассвет, чего только не передумаешь! Долгая кромешная ночь палачом приступает к кровати, а ты бежишь от неё, да как раз и потеряешься. Себя потеряешь в обрывках душного чёрного плаща, скроенного из ошметков твоих и ещё чьих-то мыслей, барахтаешься и тонешь в темноте, не зная, за какую соломинку ухватиться. Что дальше будет с нами? Что дальше будет со мной? И даже если включат свет, дадут деньги, и их хватит на еду и одежду, и даже если много купить еды и одежды, домов и машин, яхт и женщин, то зачем это? Тоскливая пустота жизни готовит тебе три ярма: бессмысленный труд, традиционно ненужная семья, дикий отдых от извечных оков труда и семьи.
Покрываешься гадким смертным потом, и в подушечной тишине ночи кричишь в облепившую тебя вату: «Дай же мне хоть какой-нибудь смысл, хоть какую-то надежду!» И как только начинаешь сам себя спрашивать, кого так горячо просишь о милости подания разума и воли, тотчас находится ответ: Его.
Почему в обыденной нашей жизни мы вспоминаем о Боге в последнюю очередь? От гордыни? От глупости? Скорее, от бессилия. И то сказать: где набрать нам сил для веры, когда нет их даже на безверие. Не холодны, не горячи, теплим своё существование, и мыкается без приюта душа: в «научное мировоззрение» она не влезет, да и в суеверии ей тесно, а до веры не подымается: крылья слабы. Отучилась летать за годы пространственно-временного бытия. Если уж случится какой слом, беда настоящая свалится, тогда только, порвав в кровавые лоскуты нутро, на грани погибели ринется человеческая сущность к Богу. И от безысходности пробираясь к Свету, если опять не изнеможет и не скукожится, увидит вдалеке за надрывом – покой, за смутой – ясность, за привычкой – любовь, за словом – Слово. Эх, и высока же эта лестница, братья! Как бы нам к ней подступиться?
Но тогда, в прошлой жизни, мало кто задумывался о столь отвлечённых вещах. Стояла задача выжить. Люди выживали, неся в душе надежду на рождение новой древней страны. Тогда творился эпос нового времени, неосознанно и непредсказуемо. И в Черни явления этого эпоса были смешны до трагизма. Через болото повседневной действительности продираться следовало, как через осеннюю грязь на чернских улицах: подумать, прикинуть, куда поставить ногу, чтобы не заляпать штанину. А лучше всего иметь шест для промера глубины луж и залежей пастообразного чернозёма. Но путь этот не наш. Мы – в тельняшках и резиновых сапогах.
Я видел это сам, пробираясь сквозь хляби земные, воскресным пасхальным утром в Черни на улице… Не помню названия. На главной улице. В Нью-Йорке это был бы Бродвей. Небо было серо, земля черна. Петухи давно пропели, но тщетна была их надежда разбудить кого-нибудь. Безлюдна и тиха была улица. Я одиноко брёл вниз с горочки, любопытствуя узнать, как встречает Светлое Воскресение мой добрый народ. Но посёлок словно вымер. И только вдалеке цепляло глаз нечто, лежащее посередине дороги. Сперва мнилось, что это клок сена или ворох тряпья, но нехорошее предчувствие сжимало сердце и неприятно волновало. Куль? Мешок? Но по размерам это было больше, и странная белизна выдавала присутствие чего-то живого. Подходя ближе, я отчётливо увидел человеческое лицо. Мертвец? Но ведь он же… да-да! Храпит. На проезжей дороге, возвышаясь страшным брюхом, лежал навзничь мужик в майке, семейных трусах и кирзовых сапогах на босу ногу. Он был огромен. Русский Гаргантюа, уставший праздновать уже с утра. Явление жуткое и, безусловно, эпическое. Это был, может быть, последний год существования Советского Союза, и всем стало ясно, что Пасху надо отмечать куда как прилежнее, чем 7 Ноября. А как именно, мы не знали тогда.
А видели вы мордобой времён перехода к рынку? На чернском рынке всё и началось… Соседняя Орловская губерния издавна у нас считается зажиточной: хлеб там дешевле, значит и жизнь не в пример нашей. Соседям не то чтобы завидовали, а больше сетовали на себя да на своё начальство. Видно, похожие настроения витали и по ту сторону областной границы, ибо по выходным дням с Орловщины обетованной являлись в Чернь за покупками жители приграничного Мценска, также уездной столицы. Понятно, что чернские жители неприязненно относились к зажравшимся дешёвым хлебом мценским. Сам посуди: пользуясь своим баснословным богатством, те опустошали чернский рынок. Какой-нибудь очкарик-экономист, может быть, и не поймет, что плохого, дескать, товар – деньги – товар. Но не экономической скучищей живёт Россия, а жаждой справедливости. И я считаю, что будет справедливо так: раз у тебя хлеб дешевле, то можно спокойно вытерпеть, если тебя треснут разок по морде. Но в этот раз на базаре обидели человека нетерпеливого и мстительного. Вернувшись во Мценск, собрал он ватагу таких же спортсменов, как сам. Вдохновлённые все той же пылкой страстью к справедливости, мценские арендовали автобус и в тот же вечер отправились в Чернь. Мстить. В сгущающихся сумерках остановили они автобус на левом берегу Черни-реки, чтобы войти в посёлок пешком. Вооружены были арматурой, цепями и прочим скобяным товаром. И хитроумный их вождь, Одиссей современности, приказал обнажить торсы, дабы в темноте отличать своих от врагов. Говорят, были среди мстителей и девицы. Не знаю, оголялись ли последние, вряд ли. Вообще роль этих Валькирий исхода XX века не ясна. Должны ли они были врачевать раненых или вдохновлять на бой своих мужчин? Или то были фурии и гарпии, подручные Марса?



