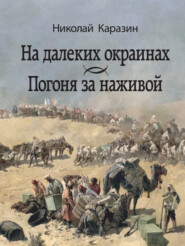скачать книгу бесплатно
Батогов опомнился и пошел тише.
В кибитке у мирзы Кадргула собралось довольно многочисленное общество. Джигит мирза Юсуп приехал издалека, он, вероятно, новости привез, будет чего послушать… А кочевники вообще страстные любители новостей всякого рода.
Не успел мирза Юсуп слезть с лошади, не успел он произнести обычное «аман», не успел ему тем же ответить мирза Кадргул, вышедший к нему навстречу, а уже весть о приезде джигита разнеслась по всему кочевью…
– Юсуп приехал.
– Какой Юсуп?
– Джигит, что бежал от русских.
– Ну!..
– Мирза Юсуп!.. Где он остановился?..
– Эй! Поедешь мимо, скажи Осману: Юсуп приехал.
Вот говор, который, почти с быстротой электрической искры, пробежал от кибитки к кибитке, от аула к аулу.
И вот все, кто только могли по своему положению войти гостем в кибитку мирзы Кадргула, собрались послушать рассказ приезжего джигита.
Полы большой хозяйской кибитки, широко и просторно расставленной на возвышенном месте, были приподняты, и ветер свободно проникал во внутренность жилища, освежая его душную атмосферу. Верхняя кошма была тоже откинута, и ровный, мягкий свет вечернего неба, проникая сквозь решетчатые ребра крыши, сверху освещал сидящие полукругом оригинальные фигуры. На главном месте, на мягком слое ватных одеял, прислонившись спиною к кибиточным решеткам, сидел сам сановитый хозяин, неподалеку от него сидел мирза Юсуп, еще не успевший отряхнуть пыль со своего верблюжьего халата. Лицо его было тоже все в пыли и закопчено, над правым виском виднелся довольно значительный шрам, шрам новый, и когда кто-то, заметив эту новую прибавку, спросил: «А где это пророк послал тебе новую милость?», Юсуп уклончиво отвечал: «Так, случай тут был неподалеку».
Мирза Юсуп и все гости успели уже рыгнуть по второму разу.
Рыгание выражает то, что гость вполне удовлетворен угощением хозяина и наелся до последней степени. Позабыть рыгнуть – значит показать себя человеком, совершенно не знающим приличия. Рыгать слишком часто – это тоже могут принять за слишком уже усиленную лесть, и потому тут тоже должна быть своего рода сноровка, которую и изучают вместе с остальными правилами азиатского этикета.
Итак, гости рыгнули уже по второму разу. Мирза Кадргул погладил свою седую, клинообразную бороду и велел убирать большое глиняное блюдо с остатками вареной баранины. В настоящую минуту из рук в руки переходила чашка с крепким кумысом, мастерски приготовленным самою старою Хаззават. Кумыс этот пили небольшими глотками, иные цедили сквозь зубы, ухватившись жирными губами за края чашки. Красивый мальчик, лет четырнадцати, возился у тагана с кальяном, раздувая в его сетке горячие уголья.
Вокруг кибитки собралась большая толпа, и все старались протиснуться как можно ближе к решеткам, чтобы лучше слышать, о чем идет речь в жилище мирзы Кадргула.
– Так ты говоришь, что две тысячи кибиток? – спрашивал мирза Кадргул.
– Пожалуй, что и за третью хватит, – отвечал Юсуп. – Снялись, говорят, еще в прошлом месяце, теперь должны уже к самой Сырдарье подходить.
– Отступники! одно им слово, – заметил один из гостей, старый мулла Ашик. – И что их тянет к русским? Давно ли от них к Хиве перебрались, а теперь опять к ним перекочевали.
– А тогда другое было дело, тогда у них в Казале какой гусь начальником сидел!..
– Какой такой?
– Да совсем бешеный.
– Это Соболь-тюра, что ли?
– Да, он. От него и дальше Хивы забежишь. Мы слышали, в ту пору и русские купцы куда-то собирались откочевывать.
– Ну что же, хан как? – спросил опять мирза Кадргул. – Сердит очень, ведь ему это чистый убыток?
– Да, прибыли мало, да как их остановишь? силой не возьмешь. Ведь почти три тысячи кибиток, тоже свою силу имеют. Да опять же и с русскими не хочет ссориться. Сказано – не тронь, ну, он и не трогает.
– Да, – вздохнул мирза Кадргул на всю кибитку, икнул и протянул руку за кальяном.
– В Бухару послы русские приехали, – сказал мирза Юсуп.
– Что такое еще?
– Да мир настоящий затеяли. Музафар совсем в дружбу к ним лезет. На прошлой неделе еще, говорят, два конских вьюка золота отправил к ихнему губернатору.
– Эх! – вздохнул старый мулла Ашик, – не по нашим дорогам это золото ездит.
– Ну что же? всего себе не захватишь. Мир-то ведь велик, – заметил мирза Кадргул.
Кальян усиленно хрипел, переходя из рук в руки; угасающие уголья на тагане слабо потрескивали. В кибитке на несколько минут воцарилось полное молчание. Только слышно было, как тяжело дышала и перешептывалась толпа, вплотную налегшая на наружные решетки кибитки.
– Ну, что, – наклонился к хозяину Юсуп, – этот у вас как, не балуется?
Он показал на Батогова, мелькнувшего близко, почти у самых стен.
– Ничего, работник хороший.
– То-то, хороший, а вы его поберегайте, выкупу за него никакого не будет: простой сарбаз, об нем, чай, и думать позабыли русские, а он вам, ежели не слишком налегать будете, еще лет тридцать, как добрая лошадь, прослужит.
– Вчера в степь за верблюдами ездили, – начал мулла Ашик, – его тоже с собой брали, лихо на коне ездит, получше кое-кого из наших.
– Гм, – подумал Юсуп, – посади его на добрую лошадь, хоть на Орлика, да дай ему оружие хорошее, да и выезжайте, хоть по два на одного, тогда и увидите, что это за наездник. – Жаль вот только, – произнес он вслух, – что вера у них эта… Если бы его как есть в нашу перевести.
– А что? – спросил мирза Кадргул.
– Я говорю потому, – сказал Юсуп, – что он сам говорил мне как-то: «Я бы совсем в вашу веру перешел, мне уже теперь о своих и забыть-то надо, если бы только бить меня ни за что, ни про что перестали, да работы было бы поменьше, а то иногда не под силу приходится».
– Не под силу приходится, – проворчал за стеною киргиз-работник, – небось, нынче меня так об земь ахнул, что до сих пор бока ломит.
– На Соленых болотах, у Сайгачьего лога, болезнь какая-то на баранов пришла.
– Вот уже это беда наша совсем.
– В темир-каикских аулах колдуна зарезали.
– Это не желтого ли иранца?..
– Его самого. Всех четырех жен Курбан-бия перепортил. Сам бий почти целый год в отлучке был, приезжает, а они все вот какие ходят… – Юсуп показал рукою на аршин от своего желудка. – А там и посыпало!.. Одна так даже двух сразу.
Одна из жен мирзы Кадргула, красивая Нар-беби доставала из сундука, что стоял у дверей, какую-то одежду; услышав рассказ, она повернула свое толстое, краснощекое лицо и стала внимательно вслушиваться.
– Ну, а с женами что сделали?
– Да жены чем же виноваты? – заметил кто-то из гостей, – ведь это на них иранец ветром надул…
Нар-беби улыбнулась во весь рот, вся словно вспыхнула, и низко нагнулась над сундуком, выпятив на соблазн всей публики свои массивные формы.
– А что? – начал мирза Юсуп, – мы вот давно из аула не выходили. Перекочевывать придется еще не скоро. Нам бы хоть неподалеку куда проездиться.
– Да куда, разве опять на персидскую границу?..
– Далеко…
– Ну, на Заравшан к русским?
– Ну их! – поспешил заметить мирза Юсуп. – Народу всегда перебьют много нашего, а барыша совсем никакого: какую-нибудь пару казачьих лошадей, а то и совсем ничего, а по кишлакам там не много достанешь.
– Нет, вот я слышал, Садык с Назар-кулом хорошие дела делают…
– У них совсем другое дело.
Разговор на минуту прекратился. В кибитке стало совсем темно, и мирза Кадргул зевнул довольно громко, прикрыв рот рукавом своего халата. Около кибитки, где собрались женщины, только что подоившие кобыл и перелившие молоко в турсуки, слышалось что-то вроде песни и тихо бренчали струны сааза.
Батогов снимал на ночь попоны с двух верховых лошадей мирзы Кадргула и отчищал им копыта, усердно ковыряя тупым ножом засоренные подковы.
– Здравствуй, тюра! – раздался сзади него тихий голос.
Батогов обернулся. Юсуп стоял в двух шагах и смотрел вовсе не на него, а на челки лошадей, как бы рассматривая хитро заплетенные косички.
– Здравствуй, Юсуп, что хорошего? – сказал Батогов, и сказал так тихо, что, казалось, только сам себя мог слышать, и еще усерднее принялся за свое дело.
– Ну, теперь нельзя, а скоро хорошо будет, – произнес Юсуп, поглядывая небрежно вверх на звезды, и побрел дальше, сделав вид, что только так, мимоходом, завернул взглянуть на красивых жеребцов мирзы Кадргула.
II. Кого видел Батогов в соседнем ауле, когда ездили за камышом
Ночь была темная. Мало-помалу говор и шум движения затихли в уснувшем ауле. Чуть краснелись во мраке верхи открытых кибиток и у колодцев мелькала красная, мигающая точка небольшого костра.
Из степи доносились какие-то неопределенные звуки: то будто бы волчий вой, то будто бы рев и кряхтенье верблюда, то словно далекое ржанье лошади, то что-то еще, чего даже привычное ухо киргиза понять было не в состоянии. Что-то крылатое носилось в воздухе, мелькая красною точкою в то мгновение, когда оно налетало на тот чуть заметный столб красноватого света, который отбрасывали от себя еще не угасшие уголья на таганах
, внутри кибиток.
Верблюды тяжело вздыхали и, лежа друг подле друга, терлись своими облезлыми боками, лошади жевали ячмень, отфыркиваясь в торбы, кое-где слышен был человеческий храп. В соседней кибитке тихо, но бойко перебранивались между собою неугомонные киргизки.
Батогов сделал все уже, что было нужно, работа его дневная, наконец-то, была покончена, и он свернулся на своем войлоке, около той кибитки, которая предназначена была для работников. Около него с одной стороны спал киргиз-работник и бредил о чем-то во сне, с другой стороны сидел тот работник, что испытал на себе силу русского пленника, он зевал во весь рот и усиленно скреб себе ногтями давно не бритую голову, силясь отделаться от несносного зуда. В этих слежавшихся, прелых кошмах временем накопилось довольно-таки разных паразитов, и нужна была сильная усталость, почти изнеможение, чтобы заснуть, пренебрегая этим неудобством.
Батогову не спалось, несмотря на то, что он не сидел целый день сложа руки. Нет, с раннего утра он пешком ходил верст за десять в степь: надобно было пригнать оттуда двух баранов для хозяйского обихода, потом ездил он с другими за камышом, на полувысохшие соляные болота, что лежали на востоке верст за двадцать от стоянки. Вернулись почти к вечеру, да и тут еще четыре турсука воды надо было принести, а колодцы были неблизко. Лошадей надо было убрать в свое время, а потом старая Хаззават велела котел мыть, за которым вдвоем они провозились вплоть до самой темноты. Так после всего этого, кажется, мог бы уснуть утомившийся пленник, и никакие паразиты ему бы не помешали, но тут была причина этой бессонницы. Юсуп сказал ему: «Скоро дело делать будем». И эта короткая фраза вызвала у него целый ряд самых жгучих, самых лихорадочных дум. А тут еще другая причина оказалась. Когда ездили за камышом, пришлось проезжать мимо соседнего аула, в который Батогову до сих пор не приходилось заглядывать… Поехали, останавливались у одной кибитки: один из работников мирзы Кадргула дело имел к кому-то из здешних. Постояли, поговорили и дальше поехали.
Ничего особенного в этом ауле не было, аул как аул, такой же точно, как и ихний, те же кибитки, те же загоны, разве только то, что этот совсем спрятался в лощине, а их стоит на высоком месте, верст за пятнадцать в хорошую погоду видно. Но Батогов успел заметить в этом ауле то, на что, казалось, не обратили вовсе внимания его спутники.
У одной из кибиток, стоявших несколько поодаль от прочих, полы были совсем закинуты наверх, тростниковая загородка (так называемая «чии») была снята и лежала в стороне. Она была сильно изломана ветром, налетевшим накануне, и ее, должно быть, собирались чинить. Сквозь крупную решетку видно было все, что делается внутри этой кибитки. Там сидело несколько женщин, они заняты были плетением громадного пестрого ковра. По их костюмам, по довольно чистым, белым тюрбанам, навороченным на головах, по бусам, украшавшим их потные шеи, наконец, по медным серьгам, вдетым, по туземной моде, в ноздри, и по тому свободному говору и смеху, который раздавался в кибитке, заглушая даже стук катушек, намотанных цветною шерстью, можно было видеть, что тут были все госпожи, хозяйки; рабынь между ними не было. Женщины взапуск жевали изюм и щелкали фисташки и другие подобные сласти, не давая отдыха ни своим языкам, ни своим белым, ярко сверкавшим при каждой улыбке челюстям.
Их говор и смех заставил Батогова повернуть голову, но не они остановили и сосредоточили его внимание.
Снаружи, на самом припеке, в стороне от той тени, которую отбрасывала от себя кибитка, стояла женщина, еще молодая, должно быть, очень красивая, если можно было отыскать бывшую красоту в этом бледном, истощенном лице, в этих впалых глазах, окруженных темною синевою… Грязная, изорванная холщовая рубаха до колен – единственный костюм этой женщины – едва прикрывала ее изнуренное тело. Это тело, худое, слабое, было совсем другого цвета, чем бронзовое, словно дубленая кожа, киргизок. Несмотря на слой грязи, несмотря на сильный загар, можно было видеть, что это было белое тело.
Эту нельзя было назвать хозяйкой, эта была то же, что и Батогов.
Не трудно было убедиться в этом, глядя, как ее тонкие руки устало, как бы нехотя, приподнимали и опускали тяжелый деревянный пест, которым она толкла просо, засыпанное в высокую деревянную ступу.
Когда она приостанавливалась и бросала на минуту свою тяжелую механическую работу для того, чтобы обтереть с лица пот рукавом своей рубахи, или же поправить рукою свои растрепанные, длинные, черные, как уголь, косы, из кибитки тотчас же возвышался визгливый, злой голос, кричавший:
– Ну, ты там, дохлая кляча, не хочешь ли лучше совсем бросить? Только бы спать, ленивая сволочь.
А другой голос добавлял:
– Только и дело делают, пока их колотишь. Я об свою совсем все руки обколотила…
Больно кольнуло в сердце Батогова при взгляде на эту работницу, и эта новая боль совсем заглушила его прежние страдания.
– Не я один, – думал он, – может быть, в каждом ауле найдется такая же, как она, такой же, как я, горемыка.
Ему хотелось подъехать к ней поближе, хотелось заговорить с нею. «Она, верно, заговорит по-русски», – думал он, хотелось расспросить ее о многом…
Он видел, как широко, изумленно взглянули глаза несчастной, когда топот проезжавших лошадей заставил ее поднять голову. Ему показалось даже, что эти глаза узнали его, если не его лично, то, по крайней мере, догадались, что видят перед собою товарища, брата по одинаковым страданиям…
– Ну, ну, отставай! – крикнул на него киргиз, ехавший сзади, крикнул и чем-то замахнулся.
– На девок заглядывается тоже, – заметил другой и засмеялся сквозь зубы.
Когда пришлось возвращаться назад, Батогов пристально, с сосредоточенным вниманием присматривался кругом, ко всем группам, мелькавшим между кибиток, ко всем отдельным фигурам, занятым каждая своим делом. Он думал опять увидеть ту же женщину, ему хотелось опять взглянуть на нее, но сколько он ни глядел, приподнимаясь на высоких стременах своего седла, высовывая голову из-за громадных снопов камыша, привьюченных с обеих сторон его лошади, он не видел никого, хотя сколько-нибудь похожего на эту страдалицу.
Да видел ли он ее? Может быть, это воображение, больное, расстроенное, нарисовало ему этот призрак?.. Нет, вот та самая кибитка, вот и ступка стоит на том же самом месте, вот пест лежит… А вот и еще что-то лежит, маленькое, скорченное, покрытое с головою какою-то рваной конской попоной, лежит и тихо стонет…
Вот об этой-то встрече и думал теперь Батогов, лежа врастяжку, навзничь, закинув руки за голову, неопределенно уставясь глазами в темное ночное небо, по которому, из конца в конец, беспрерывно черкали блестящие падающие звезды.
Кто она? откуда? Давно ли томится здесь, оторванная от всего, что только было ей близко?.. Эти вопросы больше занимали голову Батогова, чем даже фраза его Юсупки, снова вызвавшая томительные иллюзии близкого освобождения.
Как узнать все это, как отыскать ее, у кого расспросить об ней, если не придется ее увидеть снова? А как хотелось ему опять увидеть это страдальческое лицо!.. Если бы Батогову предложили на выбор – или бежать сейчас, или же отложить побег еще на целый год, но зато в это время обещать ему возможность видеть и говорить с пленницей соседнего аула, – он не задумываясь выбрал бы второе.
– Разве попросить Юсупа: он все узнает, ему это так легко устроить, он мне расскажет, – решил, наконец, Батогов, и с этим решением он стал дожидаться утра.
Он отполз подальше от общей кошмы, на которой спали работники.
– Ты куда это? – спросил его рядом лежащий, и спросил таким голосом, что Батогов сразу не догадался, ему ли это говорят, или же он слышит бессознательный бред спящего.
Он снял с себя рубаху, сильно встряхнул ее и надел снова. Он лег прямо на песок, потерся об него немного сильно чесавшимся телом, и скоро его начала одолевать тяжелая дремота.
– Ты чего это ушел-то? – снова слышится тот же голос. Батогов не отвечал.
Темная фигура приподнялась, пристально на него посмотрела, приподнялась еще больше и разом запрокинулась навзничь.
– Эк стерегут как, черти! – подумал про себя Батогов, – и что им за прибыль такая?.. Тоже ведь рабочая скотина, как и я… – И он начал притворно храпеть, чтобы избавиться от дальнейших расспросов.
Чуть-чуть рассветало, а уже половина аула была на ногах, даже сам мирза Кадргул выглянул на минуту, заспанный, из дверей своей кибитки, выглянул больше для того, чтобы показать, кому следует знать о том, что хозяин уже проснулся. Заспанное, немного сердитое лицо мирзы снова скрылось за узорною кошмою, и дверь плотно опустилась на свое место.