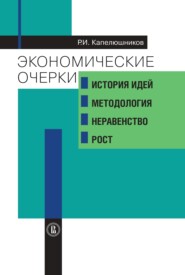
Полная версия:
Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост
Эти выводы могут показаться странными, но нужно учитывать, что они относятся к «мальтузианскому» миру – миру, в котором человечество жило тысячелетиями. В нем любое снижение плодородия земли вело к сокращению численности населения (из-за недоедания смертность возрастала и выживших становилось меньше), а любое повышение, напротив, вело к увеличению его численности (из-за лучшего питания снижалась смертность, выживших становилось больше и росла рождаемость). По существу именно это имеет в виду Смит, когда утверждает, что «во все времена продукт Земли поддерживает примерно такое количество жителей, которое он способен поддержать». По этой причине уровень жизни основной части населения при любых условиях остается примерно одинаковым: любое повышение душевого потребления сверх некоторого минимального порога «съедается» последующим ростом численности населения, а любое его падение ниже этого порога компенсируется последующим сокращением численности населения.
В мальтузианском мире, когда земля поделена поровну между всеми, каждый участок будет поддерживать такое число людей, при котором их душевое потребление окажется примерно равным прожиточному минимуму. Когда землей владеют немногочисленные крупные собственники, их расходы на предметы роскоши также будут поддерживать душевое потребление работников и членов их семей примерно на том же самом минимальном уровне. Независимо от раздела земли «некая невидимая рука» обеспечивает равномерное распределение предметов жизненной необходимости между всеми членами общества[10].
По Смиту, неравное владение землей ведет лишь к неравному распределению предметов роскоши, но практически не затрагивает распределение предметов жизненной необходимости (таких, как еда или жилье). А поскольку «истинное счастье» не связано с богатством и обладанием всякого рода «безделушками и побрякушками», то и в этом отношении между людьми разного звания и достатка должно наблюдаться фактическое равенство: «Относительно телесного здоровья и душевного покоя все различные слои общества находятся примерно на одном уровне». Итак, если неравенство и существует, то только во владении предметами роскоши, тогда как в отношении предметов жизненной необходимости и общей удовлетворенности жизнью «невидимая рука» обеспечивает состояние, близкое к полному равенству[11].
Отношение Смита к жажде богатства, столь распространенной среди людей, можно назвать амбивалентным. С одной стороны, он отмечает, что «наша готовность восхищаться богатыми и знатными людьми, даже почти поклоняться им <…> представляется первоначальной и главной причиной извращения наших нравственных чувств» [Смит, 1997, с. 78, с изменениями]. Соответственно, в этической перспективе «эгоизм и алчность» «гордого и бесчувственного землевладельца» предстают как безусловные пороки: он никогда не думает о своих ближних и был бы готов в одиночку поглотить весь свой урожай, если бы это было физически возможно. Его единственная цель – удовлетворение «своих суетных и ненасытных желаний». Говоря о нем, Смит прибегает к эпитету «эгоистичный» (selfish), который всегда несет в его текстах негативные коннотации и который прочно ассоциировался у него с идеями Б. Мандевиля. «Эгоизм и алчность» «бесчувственного землевладельца» описываются в уничижительном смысле как свидетельствующие о его полном пренебрежении к своим ближним. Но нравственная оценка и социальные последствия – это не одно и то же.
Иллюзии, которые питают «гордого и бесчувственного землевладельца», оказываются благотворными для общества, вызывая в нем необыкновенный прилив энергии. Хотя богатство не гарантирует счастья, его притягательность, какой бы обманчивой она ни была, желательна и полезна, потому что стимулирует технологическое, экономическое и культурное развитие. Можно сказать, что Смит прославляет самообман как источник социального прогресса: «Хорошо, что сама природа обманывает нас в этом отношении. Именно эта иллюзия пробуждает и держит в постоянном движении трудолюбие человечества. Именно она побуждает возделывать землю, строить дома, основывать города и государства, изобретать и совершенствовать все науки и искусства, облагораживать и облегчать человеческую жизнь. Она полностью преобразила земную поверхность, превратив непроходимые дремучие леса в цветущие плодоносные равнины; сделала пустынный и бесплодный океан новым источником неведомых до того сокровищ и великой дорогой для сообщения между собой всех народов земного шара. Своей деятельностью человечество заставило землю удвоить свое первоначальное плодородие и питать намного большее число людей» [Smith, 2006, p. 164–165].
Хотя Смит не использует здесь выражение «невидимая рука», он описывает все ту же ситуацию, когда преследование людьми (как, например, землевладельцами) своего частного интереса оборачивается благом для всего общества. Погоня за миражем богатства, устоять перед которым мало кто в силах, имеет своим долговременным непредвиденным последствием улучшение условий существования человечества и умножение его численности. Причем те, кто таким образом способствует общественному благу, не понимают, как оно связано с их собственными действиями: эта связь остается скрытой от их сознания. То, что конечный результат их деятельности не имеет ничего общего с их исходными намерениями, – это, конечно же, типично смитовский поворот мысли.
Мы помним, что в «Истории астрономии» «невидимая рука» принадлежала конкретному языческому богу – Юпитеру. В отличие от этого в тексте «Теории нравственных чувств» она остается неатрибутированной: это рука неизвестно чья («некая»), а возможно, вообще ничья. Правда, уже через одну фразу в тексте появляется «Провидение», которое, по словам Смита, позаботилось даже о тех, кто остался без земли, так что возникает соблазн теологической интерпретации, при которой «невидимую руку» следует воспринимать как «невидимую руку Провидения», то есть Бога. Но такое решение далеко не очевидно.
Во-первых, ничто не мешало Смиту написать об этом прямо, добавив к выражению «невидимая рука» пояснение – «Провидения». Во-вторых, для писателей XVIII в. такого рода риторика была в порядке вещей и для многих из них (конечно, не всех) отсылки к Провидению, Всемудрому архитектору, Управителю вселенной, Вожатому вселенной, Смотрителю вселенной и т. д. являлись не более чем фигурой речи («Теория нравственных чувств» содержит множество подобных выражений). В-третьих, в самом начале фрагмента про «невидимую руку» и затем еще раз в следующем абзаце в аргументации Смита появляется «Природа» (она не без цели манит «гордого и бесчувственного землевладельца» миражем богатства и она же обманом побуждает человечество к безостановочной активности). В данном контексте упоминание о «Природе» выглядит как расхожий оборот из того же ряда, что «Провидение», но только не несущий на себе каких-либо теологических коннотаций. Наконец, в «Богатстве народов», как мы убедимся, «невидимая рука» существует уже полностью автономно, без всяких отсылок к Провидению или хотя бы к «мудрости природы».
Поэтому более вероятно, что Смит имел в виду безличный социальный механизм, приводимый в движение не какими-то персонифицированными сверхъестественными силами, а непосредственно самими людьми, взаимодействие которых друг с другом порождает непредвиденные (причем благоприятные для них) последствия, выходящие за горизонт их сознания. Во всяком случае, в соответствующем месте из «Теории нравственных чувств» присутствуют все отличительные признаки такого механизма: «гордый и бесчувственный землевладелец» не хочет служить общественному благу, не подозревает, что он ему служит, и не понимает, как это вообще возможно, но тем не менее своими действиями, направленными исключительно на достижение собственных узкокорыстных целей, непреднамеренно способствует улучшению условий существования человеческого рода и умножению его численности.
Стоит отметить, что «невидимая рука» из «Теории нравственных чувств» не имеет отношения (во всяком случае – текстуально) ни к рынку, ни к конкуренции, ни к механизму цен, с которыми она чаще всего ассоциируется в представлении современных экономистов. Вместе с тем нельзя сказать, чтобы тут обошлось совсем без рынка: при его отсутствии «гордый и бесчувственный землевладелец» был бы не в состоянии обменивать излишек своего урожая на предметы роскоши («безделушки и побрякушки») и, как следствие, у него отпали бы стимулы повышать плодородие своих земель, чтобы собирать с них как можно больший урожай. В результате человечество продолжало бы жить в худших условиях и его численность была бы меньше.
Что касается утверждения Э. Ротшильд о том, что смитовская ссылка на «невидимую руку» – это не более чем «умеренно ироническая шутка» [Rothschild, 1994], то у него не имеется никаких текстуальных подтверждений. Конечно, Смит с иронией и явным осуждением описывает человеческие качества и цели «гордого и бесчувственного землевладельца», но результаты деятельности «невидимой руки», стоящей за его спиной, изображаются Смитом как однозначно позитивные (с точки зрения человеческого рода). Еще важнее, что в тексте «Теории нравственных чувств» мы обнаруживаем еще одну «руку» – видимую руку правителей государств и их советников. Вот ее Смит действительно подвергает развенчанию и осмеянию, видя в ней постоянную опасность для благоденствия общества:
Человек системы <…> способен в своей самонадеянности начертать весьма мудрый план, но он бывает до такой степени зачарован предполагаемой красотой созданного им идеального плана государственного устройства, что не может потерпеть ни малейшего отклонения от него. Он желает осуществить его полностью и во всех подробностях, не считаясь ни с какими важными интересами и ни с какими распространенными предрассудками, которые могут стоять на его пути. Он, по-видимому, воображает, что различными членами большого общества можно располагать с такой же легкостью, как фигурами на шахматной доске. При этом он забывает, что фигуры на шахматной доске не имеют никакого другого принципа движения кроме руки, переставляющей их, между тем как на великой шахматной доске человеческого общества каждая отдельная фигура имеет свой собственный принцип движения, полностью отличный от того, который мог бы решить навязать ей законодатель. Если оба принципа совпадают и принимают одинаковое направление, то ход игры человеческого общества пойдет легко и слаженно и, скорее всего, окажется успешным и счастливым. Но если они различны или противоположны, то игра будет складываться неудачно и общество с неизбежностью погрузится в состояние величайшего беспорядка [Smith, 2006, p. 212; курсив мой. – Р. К.].
Не вызывает сомнений, на чьей стороне в противопоставлении двух рук – невидимой и видимой – находятся симпатии Смита. Если невидимая рука способствует возникновению в обществе порядка, то видимая с легкостью может становиться источником «величайшего беспорядка». Интересно, что причина, по которой Смит отвергает видимую руку государства, выглядит очень по-хайековски: законодатель обладает слишком мизерным объемом знаний о конкретных людях, чтобы руководить игрой на «великой шахматной доске» больших, сложно организованных обществ.
«Богатство народов»: невидимая рука – 3
В «Богатстве народов» (1776/2007) упоминание о «невидимой руке» появляется в книге IV («О системах политической экономии») в главе под названием «Об ограничении ввоза в страну таких продуктов, которые могут быть производимы внутри страны». Глава посвящена критике одного из главных направлений меркантилистской политики – установления для отечественной промышленности монополии внутреннего рынка, то есть введения пошлин и прямых запретов на ввоз иностранных товаров, которые страна способна производить сама. По логике меркантилистов, страна тем богаче и могущественнее, чем больше ее капитал, преумножение которого составляет важнейшую цель политики государства. Защищая отечественных производителей от конкуренции из-за рубежа, оно гарантирует им более высокую прибыль, что должно, во-первых, предотвращать утечку капитала и, во-вторых, увеличивать его общее предложение. Как отмечает Смит, в Великобритании многим отраслям удалось таким образом добиться полной или почти полной монополии «по отношению к своим соотечественникам» [Смит, 2007, с. 440].
Апелляция Смита к «невидимой руке» – кульминационный пункт его критики меркантилистской политики. Он не отрицает, что монополия внутреннего рынка может благоприятствовать развитию каких-то отдельных отраслей, привлекая туда больше труда и капитала, чем при свободе торговли. Однако она не способна ни увеличить общий объем, ни повысить эффективность промышленного производства страны. В первом случае меркантилистская политика оказывается бесполезной, потому что промышленность любого «общества не может никогда выходить за пределы, определяемые размером капитала этого общества» [Там же], каковой задается объективными факторами (степенью бережливости людей), а во втором – вообще вредной, потому что попытки государства определить наиболее выгодные сферы приложения капитала обречены на провал: «Никакое регулирование торговли не в состоянии вызвать увеличение промышленности какого-либо общества сверх того, что соответствует его капиталу. Оно может лишь дать некоторой части промышленности такое направление, в каком она без этого не могла бы развиваться, и отнюдь не представляется несомненным, что это искусственное направление более выгодно для общества, чем то, по какому она развивалась бы, если бы была предоставлена самой себе» [Там же, с. 440–441].
По первому пункту (с точки зрения объема капитала) система свободной торговли не уступает меркантилистской системе, а по второму (с точки зрения структуры распределения капитала) ее превосходит. Экономические агенты, думающие только о собственных интересах, так распределяют свои капиталы, что это – неожиданно для всех – совпадает с интересами всего общества: «Каждый отдельный человек постоянно старается найти наиболее выгодное приложение капитала, которым он может распоряжаться. Он имеет в виду свою собственную выгоду, а отнюдь не выгоду общества. Но когда он принимает во внимание свою собственную выгоду, это естественно или, точнее, неизбежно, приводит его к предпочтению такого приложения капитала, которое наиболее выгодно обществу» [Смит, 2007, с. 441, с изменениями]. (Стоит уточнить, что в данном контексте «торговля» выступает у Смита синонимом любой формы деловой активности.)
Если в «Теории нравственных чувств» героем истории про «невидимую руку» был «гордый и бесчувственный землевладелец», то в «Богатстве народов» им оказывается движимый собственным интересом, но при этом крайне осторожный бизнесмен (торговец, инвестор), размышляющий, как ему лучше распорядиться своим капиталом. Руководствуясь исключительно своими частными соображениями, он делает выбор, во-первых, в пользу отечественного производства и, во-вторых, в пользу тех отраслей, где производимый им продукт достигал бы наибольшей ценности. Но совершая такой выбор, он одновременно, причем без всякого сознательного намерения, содействует благу всего общества:
Годовой доход любого общества всегда в точности равен меновой ценности всего годового продукта его промышленности или, вернее, именно и представляет собой эту меновую ценность. И поскольку каждый отдельный человек по возможности старается употреблять свой капитал на поддержку отечественной промышленности, давая ей такое направление, чтобы ее продукт обладал наибольшей ценностью, постольку он обязательно содействует тому, чтобы годовой доход общества был максимально велик. Разумеется, обычно он не намеревается содействовать интересам общества и не знает, насколько он содействует им. Предпочитая оказывать поддержку отечественному производству, а не иностранному, он имеет в виду лишь свою собственную безопасность, а направляя это производство так, чтобы его продукт обладал максимальной ценностью, он преследует лишь свою собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он оказывается ведом некой невидимой рукой к цели, которая совсем и не входила в его намерения; при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действительным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много хорошего было сделано теми, которые делали вид, что они ведут торговлю ради блага общества. Впрочем, подобные претензии не очень обычны среди купцов, и немного надо слов, чтобы уговорить их отказаться от них [Там же, с. 442–443, с изменениями; курсив мой. – Р. К.][12].
Как следует из этого фрагмента, «невидимая рука», о которой упоминает Смит, действует через двойную мотивацию человеческого поведения: первая – стремление к безопасности и вторая – стремление к наибольшей выгоде. Говоря современным языком, речь идет о максимизации прибыли при минимизации риска.
1. Согласно Смиту, ведомые стремлением к безопасности, некоторые торговцы (хотя и не все) инвестируют в «отечественную промышленность» (о ней упомянуто шесть раз) вместо того, чтобы рисковать своим капиталом за рубежом. Внутреннюю торговлю они предпочитают внешней и транзитной – и это несмотря на более высокую прибыльность последних. Иными словами, вопреки тому, что обычно пишут о «невидимой руке», в «Богатстве народов» она подталкивает участников рынка к проектам вовсе не с самой высокой прибылью, а с прибылью не выше или даже несколько ниже средней. В понимании Смита ее действие оказывается связано в первую очередь с заботой о безопасности и лишь во вторую – со стремлением к максимальной прибыли. Именно неуверенность в безопасности своего бизнеса заставляет некоторых торговцев действовать так, чтобы способствовать достижению «цели», которая не входит «в их намерения». Инвестируя в отечественное производство и избегая участия в операциях за рубежом, они обеспечивают «доход и занятость наибольшему количеству людей» в своей стране. Такое их поведение, продиктованное чувством осторожности, Смит описывает как непреднамеренно содействующее благу общества.
Причина, по которой не склонные к риску торговцы могут предпочесть внутреннюю торговлю внешней, а ту и другую – транзитной, проста: они будут опасаться выпустить принадлежащий им капитал из-под своего «непосредственного наблюдения и контроля» [Там же, с. 441]. Смит считает вполне естественным, что «каждый человек старается по возможности приложить свой капитал поближе к своему дому и, следовательно, по возможности направить его на поддержку отечественной промышленности при том неизменном условии, что он может таким путем получить обычную или не намного меньшую, чем обычная, прибыль на капитал» [Там же, с. 240, с изменениями]. Он приводит несколько аргументов в пользу такого предпочтения. При занятии внутренней торговлей капитал человека: 1) «никогда не уходит из поля его зрения на столь продолжительное время, как это часто бывает во внешней торговле»; 2) дома он «может лучше узнавать характер и положение лиц, которым оказывает доверие»; 3) «если ему случится быть обманутым, он лучше знает законы страны, от которой должен требовать возмещения ущерба» [Там же, с. 441, с изменениями]. Поэтому с наибольшими рисками оказывается сопряжена транзитная торговля, потому что при занятии ею капитал человека «как бы делится между двумя заграничными странами, ни малейшая часть его никогда не возвращается по необходимости домой и не оказывается под его непосредственным наблюдением и контролем» [Там же, с изменениями].
Чтобы избежать дополнительных рисков, связанных с дальней торговлей, часть торговцев соглашаются на более низкую прибыль, если внутри страны их капитал будет находиться в большей безопасности и сроки его возмещения будут короче: «При условии одинаковой или почти одинаковой прибыли всякий оптовый торговец, естественно, предпочитает торговлю внутри страны внешней торговле <…> а внешнюю торговлю <…> – транзитной торговле» [Смит, 2007, с. 441, с изменениями]. Поступая так, он «невидимой рукой» подталкивается к тому, чтобы оставлять капитал внутри страны, оказывая поддержку «отечественной промышленности»: «При одинаковой или почти одинаковой прибыли каждый отдельный человек, естественно, склонен употреблять свой капитал таким способом, при котором он оказывает наибольшее содействие отечественной промышленности и дает доход и занятие наибольшему числу жителей своей страны. <…> И поскольку [он] <…> по возможности старается дать ей такое направление, при котором ее продукт мог бы обладать наибольшей ценностью, постольку он с необходимостью способствует тому, чтобы годовой доход общества становился настолько большим, насколько это возможно» [Там же, с. 442–443, с изменениями].
В результате отпадает стандартное возражение меркантилистов против системы свободной торговли: при ближайшем рассмотрении их опасения относительно того, что в погоне за высокой прибылью такая система будет провоцировать утечку капитала за границу, оказываются беспочвенными [Brewer, 2009]. Свойственное большинству людей стремление к безопасности всегда будет подталкивать их к тому, чтобы не рисковать зря своим капиталом и удерживать возможно бо́льшую его часть внутри страны. В этом смысле попытки государства дублировать действие «невидимой руки» предстают как совершенно излишние.
2. Но если в том, что касается регулирования объема капитала, меркантилистские меры бесполезны, то в том, что касается регулирования его структуры, они вредны. Они поощряют развитие ограниченного круга отраслей, которые получают защиту от внешней конкуренции и которые благодаря искусственно высоким прибылям привлекают бо́льшую долю труда и капитала, чем было бы при отсутствии государственного вмешательства: «Промышленный труд страны, таким образом, отвлекается от более выгодного к менее выгодному занятию, и меновая ценность его годового продукта, вместо того чтобы увеличиться, как хотел законодатель, должна неизбежно уменьшаться в результате каждого подобного регулирования» [Смит, 2007, с. 444, с изменениями]. Отсюда – субоптимальное распределение капитала и труда страны, что неизбежно подрывает ее благосостояние. Меркантилистские искажения «естественного баланса промышленности» и «естественного разделения и распределения труда» тормозят развитие других, потенциально более прибыльных сфер экономики, тогда как потребители страдают от более высоких цен [Там же, с. 484].
При системе, свободной от монополии внутреннего рынка, таких искажений не возникает, потому что «всякий человек, затрачивающий свой капитал <…> обязательно старается дать ему такое направление, чтобы его продукт обладал возможно большей ценностью» [Там же, с. 442, с изменениями]. Стремление к максимальной прибыли становится еще одним каналом (помимо стремления к безопасности), через который «невидимая рука» проявляет свое действие. Естественные склонности людей побуждают их «непрерывно прилагать усилия» к тому, чтобы находить наиболее выгодное применение своему капиталу [Там же, с. 441, с изменениями]. Однако стремясь при его инвестировании к выгоде только для самих себя, они, не подозревая о том, одновременно приносят выгоду всему обществу: «Частные интересы и стремления отдельных людей, естественно, располагают их обращать свой капитал к занятиям, в обычных условиях наиболее выгодным для общества <…> Без всякого вмешательства закона частные интересы и стремления людей, естественно, заставляют их делить и распределять капитал любого общества среди различных занятий, существующих в нем, по возможности в точном соответствии с тем, что наиболее совпадает с интересами всего общества в целом» [Там же, с. 597]. Таким образом, собственник капитала действует в интересах общества, только если предпринимаемые им в своих собственных интересах действия прибыльны. Он не действует в интересах общества, если эти его действия не приносят прибыли.
В итоге можно сказать, что если стремление к безопасности обеспечивает наилучшее (с точки зрения Смита) географическое, то стремление к наибольшей прибыли – наилучшее отраслевое распределение капитала.
Однако отсюда было бы неверно делать вывод, как нередко утверждают, о тождестве «невидимой руки» с эгоистическим поведением[13]. В «Богатстве народов» Смит описывает действия торговцев (в отличие от действий «гордого и бесчувственного землевладельца» в «Теории нравственных чувств»!) не как «эгоистичные», а как движимые «собственным интересом». В его лексиконе это разные понятия, которые он никогда не смешивал. С этической точки зрения «эгоизм» (selfishness) оценивался им негативно и воспринимался как атрибут философии Б. Мандевиля, которую он называл «безнравственной» (licentious) [Смит, 1997, с. 297–303]. В то же время «любовь к себе» (стремление к улучшению своего положения или собственный интерес) оценивалась им как «добродетельное чувство, служащее целям природы» [Force, 2003, p. 87]. Смит рассматривал «заботу о собственном счастье» как необходимый элемент добродетельного поведения [Смит, 1997, с. 293]. Этическое оправдание она получает от диктуемых природой императивов самосохранения и продолжения человеческого рода, и без такой «любви к себе» не могло бы существовать и общего блага. В этом смысле следование собственному интересу в разумных пределах (то есть благоразумие – prudence) выступает у Смита как одна из главнейших добродетелей.



