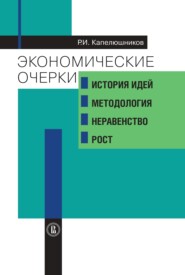
Полная версия:
Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост
Однако философия – это продукт цивилизации. Раздел «О происхождении философии» Смит начинает с обсуждения того, как до ее появления справлялись с чувством изумления дикари и язычники: «Еще в первые века формирования общества, до становления права, порядка и охраны от врагов, человечество делало слабые попытки найти те скрытые цепочки событий, которые объединяли, казалось бы, не связанные между собой явления природы. Дикарь, чьи средства существования зависели от непредвиденных обстоятельств, чья жизнь каждый день подвергалась серьезной опасности, совершенно не имел склонности занимать свое внимание поиском бесполезных истин» [Там же, с. 907–908].
У дикаря изумление вызывали только грандиозные иррегулярные события, нарушавшие обычный порядок вещей, – такие, как кометы, затмения, громы и молнии. Они внушали ему благоговейный страх, причем их непостижимость («каким образом они появились, как они протекают, что происходило до их появления и что будет после них») повергала его в еще больший испуг и ужас [Там же, с. 908]. Охваченный трепетом, он был готов поверить в любые сведения о таких явлениях. Как выразился британский историк экономической мысли Г. Кеннеди, невежество порождало паранойю [Kennedy, 2009a, p. 243]. Вместе с тем какие-то иррегулярные события могли оказываться благоприятными (радуга, спокойное море, обильный урожай) и восприниматься поэтому с радостью и благодарностью. Но и в том и в другом случае дикарь чувствовал свое бессилие и был склонен объяснять такие отклонения от обычного порядка вещей вмешательством неких разумных, хотя и невидимых существ: «Для дикаря всякий объект природы, в достаточной мере значимый по своей красоте или величию, полезности или пагубности для того, чтобы привлечь к себе внимание, и чьи проявления к тому же не обладают совершенной регулярностью, – такой объект представляется действующим под управлением некой невидимой (invisible) и созидающей (designing) силы» [Смит, 2014, с. 909, с изменениями].
С этим Смит связывает возникновение политеизма, и именно в этом контексте в «Истории астрономии» появляется «невидимая рука», принадлежащая верховному богу римлян Юпитеру:
Отсюда <…> происхождение Политеизма и того вульгарного суеверия, которое приписывает все иррегулярные события в природе благосклонности или недовольству разумных, хотя и невидимых (invisible), существ – богов, демонов, ведьм, духов и фей. Следует отметить, что во всех политеистических религиях, среди дикарей, так же как и на ранних этапах языческой античности, только эти иррегулярные явления природы приписываются деятельности и власти их богов. Огонь обжигает, а вода охлаждает; тяжелые тела падают вниз, а более легкие вещества улетают вверх согласно их собственной природе; никакого участия невидимой руки Юпитера в таких случаях никогда не предполагается. Однако громы и молнии, бури и сияние солнца, равно как и другие еще более иррегулярные события, приписывались его гневу или милости. Человек, единственная следующая своим замыслам сила, с которой дикари были знакомы, никогда не действовал иначе кроме как для того, чтобы либо остановить, либо изменить ход природных явлений, которому бы те следовали, будь они предоставлены самим себе. Те другие разумные существа, которых дикари рисовали в своем воображении (imagined), но которых не знали, естественно, как предполагалось, действовали в такой же манере – не для того, чтобы участвовать в поддержании обычного хода вещей, которому те стали бы следовать предоставленные самим себе, а для того, чтобы его останавливать, нарушать или расстраивать. И потому в первые века существования мира философию заменяло самое низкое и малодушное суеверие [Смит, 2014, с. 909–910, с изменениями; курсив мой. – Р. К.][5].
В этом ключевом отрывке следует выделить несколько моментов. Во-первых, выражение «невидимая рука» используется не в метафорическом, а в прямом, буквальном смысле (на римских монетах Юпитер изображался держащим в руке молнию). Во-вторых, «невидимая рука» не выражает какого-либо абстрактного принципа, а является физическим атрибутом конкретного божества – Юпитера (важно, что это бог языческий, а не христианский). В-третьих, «невидимая рука» оказывается наделена негативными коннотациями и отношение к ней Смита однозначно критическое: ссылки на ее вмешательство представляют «самое низкое и малодушное суеверие», это проявление страха и невежества людей, не вкусивших благ цивилизации. Как он подчеркивает, тем, кто за любыми иррегулярными явлениями усматривал руку Юпитера, был перепуганный и невежественный римлянин[6]. В-четвертых, по представлениям дикарей и язычников, объяснения требовали только аномалии, выламывающиеся из регулярного порядка вещей, тогда как сам он ни в каких объяснениях не нуждался и воспринимался ими как само собой разумеющийся, не вызывая ни малейшего изумления. Если регулярные события приписывались естественным свойствам вещей, то иррегулярные – капризной воле богов. Соответственно, «невидимая рука» предстает как орудие нарушения естественного («нормального») порядка, а не как средство его поддержания. В-пятых, в роли нарушителей обычного порядка вещей боги уподобляются людям: стремясь к достижению собственных целей, и те, и другие своими действиями его отменяют, корежат, ломают. Перед нами очевидная проекция антропоморфизма на природный мир. В-шестых, как дикари, так и философы используют для своих объяснений сущности, которые являются невидимыми. Но в первом случае это пребывающие в иных мирах сверхъестественные личностные акторы («невидимые существа»), тогда как во втором – скрытые от глаз безличные природные силы («невидимые промежуточные объекты»). В-седьмых, если вмешательство «невидимой руки Юпитера», на которое ссылаются язычники, подрывает естественный порядок (см. выше), то «невидимые промежуточные звенья», которые при изучении природы обнаруживают философы, напротив, призваны его восстанавливать. В-восьмых, если до рождения философии любые значимые изменения рассматривались людьми исключительно как результат сознательного замысла неких разумных существ, то после ее появления они начали рассматриваться как продукт действия бессознательных природных сил. И последнее: в отрывке из «Истории астрономии» нет никаких следов идеи, с которой выражение «невидимая рука» ассоциируется чаще всего, когда преследование индивидами собственного частного интереса непреднамеренно приводит к благу для всего общества.
Ненадежность существования дикарей и их постоянная подверженность самым различным опасностям не давали им ни времени, ни стимулов к размышлениям о необычных явлениях природы. Лишь с приходом цивилизации у людей появилось достаточно свободного времени, чтобы предаваться философским занятиям, позволившим бросить вызов суеверным фантазиям мистиков и шаманов: «Однако, когда закон установил порядок и безопасность, а существование перестало зависеть исключительно от непредвиденных обстоятельств, любознательность человечества стала расти, а страхи уменьшились. Свободное время, которого стало больше, подталкивало людей к более внимательному наблюдению за явлениями природы, к изучению мельчайших странностей и нерегулярностей; и пробуждало в них большее желание узнать, какова та цепь, что связывает эти явления воедино» [Смит, 2014, с. 910, с изменениями]. Все это сделало их менее склонными ссылаться при построении связующих цепочек событий на вмешательство невидимых существ, вызывавших страх у их невежественных предков [Там же].
Тем не менее и в современных обществах большинство людей остаются слепы к этой тонкой работе по отысканию невидимых промежуточных связей между отдаленными друг от друга событиями. Связи, открываемые философами, «представляют собой такие комбинации событий, которые не останавливают воображение основной массы человечества: они не возбуждают ни Изумления, ни осознания того, что между ними отсутствует строгая связь» [Смит, 2014, с. 904, с изменениями]. Как следствие, развитие философии (читай – науки) не устраняет невежества и предрассудков даже среди образованной публики. Так, множество «малодушных суеверий» было перенесено в учения и практику современных религиозных доктрин [Kennedy, 2009b]. В этом смысле вера в «невидимую руку» Юпитера никуда не исчезла, а просто приняла иные, более изощренные формы.
«Теория нравственных чувств»: невидимая рука – 2
Отрывок из «Теории нравственных чувств» (1757) с упоминанием «невидимой руки» отличается высокой концентрацией множества разных, подчас парадоксальных идей и представляет, наверное, наибольшие трудности для интерпретации. Он находится в главе 3 третьего отдела первой части книги с говорящим названием «Об извращении наших нравственных чувств привычкой восхищаться богатыми и знатными людьми и презирать людей бедных или незнатного происхождения или пренебрегать ими». В ней Смит обсуждает, какое влияние на поведение людей оказывает богатство – почему они к нему стремятся, ему завидуют и им восхищаются, а также к каким последствиям для отдельного человека и для всего общества это приводит. В ходе этого обсуждения возникает фигура «гордого и бесчувственного землевладельца», который не думает ни о ком кроме себя, но который, несмотря на это, поддерживает жизнь тысяч совершенно безразличных ему людей:
Природа не без цели побуждает гордого и бесчувственного землевладельца оглядывать жадными глазами свои обширные владения и пожирать в своем воображении покрывающие их богатые жатвы, не помышляя ни на одну минуту о потребностях своих ближних. Последний подтверждает собой известную поговорку о глазах более жадных, чем брюхо. Его желудок не находится в соответствии с безграничностью его желаний и не может вместить в себя больше, чем желудок простого крестьянина. Он поневоле должен распределить часть того, что потребить не в состоянии, среди тех, кто бы приготовил для него самым изысканным способом то небольшое количество пищи, какое он может съесть; среди тех, кто бы соорудил и украсил занимаемый им дворец, в котором он мог бы это немногое съесть; среди тех, кто бы снабдил его и содержал в порядке всевозможные безделушки и побрякушки (baubles and trinkets), которые могли бы использоваться им для поддержания своего величия. Все эти люди получают от его роскоши и прихотей ту долю предметов жизненной необходимости, которую они тщетно ожидали бы от его человеколюбия и его справедливости. Во все времена продукт Земли поддерживает примерно такое количество жителей, которое он способен поддержать. Только богатые избирают из общей массы самое изысканное и приятное. В сущности они потребляют не более, чем бедные. Несмотря на свою естественную алчность и на свой эгоизм, несмотря на то, что они имеют в виду только свои собственные удобства, несмотря на то, что единственной целью, на достижение которой направляется труд всех тех тысяч, которых они используют, является удовлетворение их суетных и ненасытных желаний, они разделяют с последним бедняком плоды работ, производимых по их приказанию. Они оказываются ведомыми некой невидимой рукой, которая заставляет их производить примерно такое же распределение предметов жизненной необходимости, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого намерения и ничего о том не зная, он содействует интересам общества и предоставляет средства для умножения человеческого рода. Провидение, разделив землю между небольшим числом знатных хозяев, не позабыло и не оставило тех, кто, казалось бы, был исключен из раздела земли. Они также получают свою долю из всего, что производится ею. Что же касается того, что составляет истинное счастье человеческой жизни, то они стоят нисколько не ниже тех, кто, казалось бы, поставлен намного выше них. Относительно телесного здоровья и душевного покоя все различные слои общества находятся примерно на одном уровне, и греющийся на солнышке у дороги нищий обладает таким чувством безопасности, к которому короли лишь стремятся [Смит, 1997, с. 184–185, с изменениями; курсив мой. – Р. К.].
Для начала попробуем выделить основные темы, заявленные Смитом в этом фрагменте: 1) поведение «гордого и бесчувственного землевладельца», жаждущего богатства, мотивировано иллюзией и, следовательно, нерационально; 2) столкновение с реальностью (недостаточная вместимость желудка) заставляет его модифицировать свои цели, которые тем не менее остаются эфемерными (погоня за «безделушками и побрякушками»); 3) при всем своем эгоизме и алчности он вынужден делиться частью своего богатства (урожая с его полей) с множеством других людей; 4) с точки зрения потребления предметов жизненной необходимости между ним и последним бедняком почти нет различий (неравенство существует только в потреблении предметов роскоши – «безделушек и побрякушек»); 5) численность населения всегда находится в строгом соответствии с плодородием земли; 6) распределение предметов жизненной необходимости остается примерно одним и тем же независимо от того, как распределена земельная собственность – равными или совершенно неравными долями; 7) обеспечивая практически равное распределение предметов жизненной необходимости, «гордый и бесчувственный землевладелец» служит благу всего общества (обогащению и преумножению человеческого рода), хотя это не входит в его намерения, в чем проявляется действие стоящей за его спиной «некой невидимой руки»; 8) относительно этого своего содействия общественному благу он пребывает в полном неведении, и стремление к нему никогда не входит в его цели; 9) «истинное счастье» также распределяется между людьми более или менее равномерно независимо от их богатства и статуса, так что поведение «гордого и бесчувственного землевладельца», надеющегося стать счастливее благодаря все большему и большему богатству, предстает как вдвойне нерациональное.
Перед тем как обратиться к фигуре «гордого и бесчувственного землевладельца», Смит задается общим вопросом: почему богатство кажется людям таким желанным и они видят в нем источник счастья? Здесь, по его мнению, действуют два мощных мотива.
Первый мотив – это стремление отличаться от других людей, выделяться из общей массы, привлекая к себе внимание окружающих: «Богатство и внешние почести <…> имеют <…> то преимущество <…> что непосредственнее и полнее удовлетворяют столь естественное для человека пристрастие ко всему, что может отличить его от прочих людей» [Смит, 1997, с. 168, 183]. Все дело в том, что, живя в обществе, «мы обращаем больше внимания на мнения прочих людей, чем на собственные наши чувства, и на занимаемое нами место смотрим постоянно не с этого самого места, а с точки зрения на него прочих людей» [Там же, с. 183]. Завистливое внимание окружающих к нашему богатству позволяет нам чувствовать себя особенными, не такими, как все.
Второй мотив – это врожденная склонность людей пленяться красотой упорядоченности и функциональности попадающих в поле их зрения предметов, пусть даже самых бесполезных. Под ее влиянием они буквально на каждом шагу занимаются подменой целей средствами и оказываются крайне далеки от того, чтобы, говоря современным языком, «максимизировать полезность»: «В любом произведении человеческого искусства его соответствие своему предназначению (fitness), его удачное и хитроумное устройство часто ценится больше, чем сама цель, ради которой оно и было задумано» [Smith, 2006, p. 161]; «Точная приспособленность средств к достижению какого-либо удобства или удовольствия сильнее привлекает к себе наше внимание, чем само это удобство или удовольствие, в достижении которых, казалось бы, и заключается их смысл» [Ibid.]. Вещи зачаровывают своей функциональностью и влекут к себе не столько потому, что полезны, сколько потому, что соответствуют тому, ради чего были созданы, внося порядок и регулярность в окружающую людей среду. Только поэтому дворцы, сады, экипажи и свита, принадлежащие знати, возбуждают всеобщее вожделение.
Как замечает Смит, вещи кажутся нам желанными только потому, что они искусно изготовлены и идеально соответствуют своему предназначению, даже если цели, которым они служат, совершенно ничтожны: «Нас очаровывают красота и удобства, присущие дворцам знатных людей; мы восхищаемся искусству, с которым расположены в них все предметы с целью умножить удовольствия этих людей, предупредить их нужды, исполнить их капризы, удовлетворить и возбудить их самые пустяковые желания. Тем не менее если бы мы рассмотрели как следует то удовольствие, какое действительно может быть доставлено этими благами независимо от их красоты, искусности и целесообразности, то оно во всяком случае показалось бы нам в высшей степени презренным и ничтожным. Но мы редко взираем на это с такой абстрактной и философской точки зрения. В своем воображении мы естественным образом смешиваем порядок, правильное и гармоничное движение системы, механизма или хозяйства (oeconomy), посредством которых производится это удовольствие, с ним самим» [Смит, 1997, с. 184, с изменениями].
По Смиту, «полезность» предметов в качестве мотиватора поведения зачастую не так важна, как их «красота». Человеческая деятельность в его понимании направляется не столько экономическими, сколько эстетическими соображениями: и хижина, и дворец служат убежищем от непогоды, но красота, заключенная в целесообразном устройстве дворца, заставляет соискателей богатства ни свет ни заря покидать постели, отправляясь на заработки средств, необходимых для приобретения таких прекрасных вещей. Отсюда – безудержная погоня за предметами роскоши, всевозможными «безделушками и побрякушками», не стоящими усилий по их получению: «Сколько же людей разоряется, тратя деньги на приобретение самых пустых предметов! И предметы эти нравятся им не столько своей полезностью, сколько своей способностью быть полезными. Они наполняют ими свои карманы, а потом приказывают сделать себе новые карманы, чтобы таскать с собой большее их количество. Ходят они обвешанными множеством дорогих побрякушек, которые составляют такой же груз, как содержимое ящика разносчика; некоторые из них представляют кое-какое удобство, но вообще обойтись без них весьма нетрудно, а действительно доставляемая ими польза вовсе не такова, чтобы стоило труда таскать их с собой» [Там же, с. 181].
В результате богатство не делает людей счастливее, но лишь гипнотизирует их обилием искусно придуманных приспособлений, которые благодаря ему могут становиться доступными: «Люди так завидуют богатым и знатным <…> не столько по причине бо́льших и более изысканных удовольствий, которыми, как мы полагаем, они пользуются, сколько по причине множества искусственных средств, находящихся в их распоряжении для получения удовольствий. Мы не считаем, чтобы они были счастливее прочих людей, но полагаем, что они обладают бо́льшими средствами быть счастливыми, и потому главным образом завидуем их положению, ибо в нем изящно и искусно соединены эти средства» [Там же, с. 183]. Богатые и бедные одинаково счастливы, если у кого-то здесь и есть преимущество, то скорее у бедных: «Не думают ли они, что пищеварение совершается легче или что сон бывает сладостнее во дворце, нежели в хижине? Наоборот, всякому известно, что часто замечалось нечто противоположное» [Там же, с. 69].
Вера в то, что богатство способно быть источником счастья, – великий обман, причем обман, побуждающий людей к безостановочной активности, чаще всего – в ущерб собственному благополучию[7].
Смит раскрывает эту мысль на примере трагической судьбы сына бедняка, которого «небеса в своем гневе наделили честолюбием» [Smith, 2006, p. 162]. Он воображает, что если бы жил во дворце, ездил в экипаже и имел множество слуг, то «был бы совершенно счастлив и доволен, так что не в силах был бы исчерпать всего счастья, порождаемого в нем одним представлением о подобном положении» [Смит, 1997, с. 182]. «Мысль о таком отдаленном благополучии, – пишет Смит, – приводит его в восхищение; он смотрит на подобное существование как на привилегию высших существ» [Там же]. Отказавшись от «настоящего спокойствия», которое было «всегда в его власти», сын бедняка тратит затем всю свою жизнь на то, что трудится в поте лица, терпит физические лишения и душевные муки, не знает ни минуты покоя, служит тому, кого ненавидит, и пресмыкается перед тем, кого презирает [Там же]. Только позже, уже став богатым человеком, он понимает, что счастье его призрачно, что он не смог получить тех удовлетворений, к которым стремился, и что богатство не стоило тех тревог, страхов и печалей, которым он подвергался, приобретая его. С приближением смерти он начинает сознавать, что богатство и знатность – это «пустышки, имеющие ничтожную полезность и способные доставлять наслаждение телу или спокойствие душе не больше, чем футляры для щипчиков, которыми кичатся любители подобных мелочей» [Smith, 2006, p. 162]. Он уже не находит, что «почести и богатство заслуживали предпринятой им тяжкой погони за ними», и «он проклинает свое честолюбие, он тщетно сожалеет о счастливой и беззаботной юности и о навеки утраченных доступных ему радостях, которыми он не раздумывая пожертвовал ради благ, обладание которыми вовсе не доставляет прочного счастья» [Смит, 1997, с. 183]. Он осознает также, что богатство сделало его жизнь менее безопасной, поскольку в таком положении чаще, чем в каком-либо ином, человек «подвергается тревогам, страданиям, опасностям, болезням и смерти» [Там же, с. 184]. Смит сравнивает обладание богатством с неустойчивым строением, возведение которого «требует целой жизни», но которое ежеминутно грозит засыпать человека «своими обломками»: оно может охранить его «от легкой летней грозы, но не в силах защитить его от жестокой непогоды и зимней стужи» [Там же, с. 183–184].
Те же самые иллюзии направляют поведение «гордого и бесчувственного землевладельца». Очарование порядком и совершенством заставляет его любоваться принадлежащими ему обширными полями, которые так хорошо соответствуют своему предназначению, и воображать, какой огромный урожай может быть от них получен и затем направлен на его пропитание. Им движут исключительно «эгоизм и алчность», и его совершенно не волнуют нужды ближних. Однако когда урожай собран, ограниченность размера его желудка вынуждает его задуматься над тем, как распорядиться излишком сверх собственного потребления и запаса семян на следующий год. Он мог бы оставить гнить это зерно на полях или в амбарах, но тогда его крепостные или арендаторы, оставшись без еды, не пережили бы зиму, чтобы засеять его поля следующей весной. Он лишился бы также возможности приобретать предметы роскоши («безделушки и побрякушки»), удовлетворяющие его прихоти и причуды. Поэтому ему не остается ничего другого, как распределить излишек среди всех тех, кто на него работает или оказывает ему услуги: «Он поневоле должен распределить часть того, что потребить не в состоянии, среди тех, кто бы приготовил для него самым изысканным способом то небольшое количество пищи, какое он может съесть; среди тех, кто бы соорудил и украсил занимаемый им дворец, в котором он мог бы это немногое съесть; среди тех, кто бы снабдил его и содержал в порядке всевозможные безделушки и побрякушки, которые могли бы использоваться им для поддержания своего величия» [Там же, с. 185, с изменениями]. Если бы он не обеспечивал средствами существования работников, которые на него трудятся, и вооруженных вассалов, которые защищают его собственность от других землевладельцев, от недовольных бедняков и от иностранных захватчиков, то все его амбиции по удовлетворению своих «суетных и ненасытных желаний» были бы перечеркнуты.
Но, как поясняет Смит, землевладелец не раздает излишек своего урожая даром из человеколюбия или чувства справедливости: он обменивает его на желательные для себя предметы. Таким образом, ограниченная вместимость желудка не делает из него альтруиста: она всего лишь перенаправляет его эгоизм в другое русло – от продуктов питания к предметам роскоши. Те же два желания, те же две иллюзии заставляют его гнаться за всевозможными «безделушками и побрякушками» безотносительно к их реальной полезности: во-первых, стремление как можно сильнее отличаться от окружающих, привлекая к себе их внимание, и, во-вторых, стремление иметь как можно больше красивых и искусно сделанных вещей, способных очаровывать своей упорядоченностью и целесообразностью[8].
Однако, распределяя излишек своего урожая, землевладельцы вынуждены соблюдать жесткое условие: объем средств существования, достающихся каждому, кто на них работает, должен быть не ниже уровня, достаточного для поддержания жизни человека. В противном случае их «величие» рухнуло бы: бо́льшая часть человечества просто исчезла бы с лица земли, так что не нашлось бы никого, кто стал бы удовлетворять их «суетные и ненасытные желания».
Отсюда Смит делает два парадоксальных вывода. Первый: с точки зрения потребления предметов жизненной необходимости в любом обществе существует практически полное равенство. Богатые едят лучше (им достаются более «изысканные и приятные» продукты), но не намного больше, чем бедные. Второй: неравенство земельной собственности почти не влияет на уровень жизни большинства людей. И при равном, и при абсолютно неравном распределении земли он остается приблизительно одним и тем же[9].



