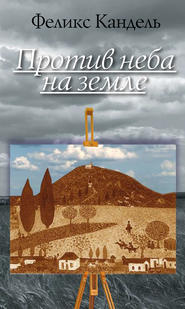скачать книгу бесплатно
Чудо следует заслужить, и Иоселе – царь в доме своем – этого, должно быть, сподобился. Через положенные сроки проклюнулся живот у бесплодной Песи, и появился у них заморыш, выпрошенный молитвами, который укладывался в Песину ладонь, как в люльку, присасывался к могучей груди – не оторвать, заливаясь материнским молоком, а Песя ди Гройсе смотрела на это чудо и толстела от удовольствия. Сквозь прозрачные его пальцы проглядывали косточки, словно у малька в пруду, и косточки эти были стиснуты в кулачок. Разжали с остережением и обнаружили семечко в ладошке, крохотное, от незнакомого растения, а что вырастет из него – неизвестно. Мальчика назвали Мотл…
…Мотеле проплакал без слез первые свои года, и его не могли утешить. Ребе сказал:
– Этот ребенок – гвоздик, на который вешают страдания. Ему больно оттого, что больно другому – хоть тут, хоть в Бердичеве. Такое уже бывало. Но такое пройдет.
Папа Иоселе рассказывал перед сном:
– Жил на свете великан по кличке Дрыхало, ленивый и невстанливый, который очень любил поспать – до еды, во время еды и после нее. Чтобы достать продукты на завтрак или обед, он садился под деревом и засыпал, вытянув поперек поляны длинные свои ноги. Пробегали мимо обитатели леса, спотыкались о его конечности: просыпайся и ешь…
Мотеле плакал от жалости к лесной живности, и мама Песя спешила исправить папину ошибку:
– Жила на свете кошка, которая была очень доброй. Она жалела всех, даже комаров с мухами, и полагала, что лучше умереть с голоду, чем позавтракать каким-либо мышонком…
И Мотеле снова плакал – теперь уже от жалости к кошке, которая могла погибнуть от истощения.
Мир проявлялся постепенно, завоевывая позиции, соблазнял крикливыми новшествами: «Лимонад Газес», «Трактир „Фриштик“ для знатных персон», «Бюро погребальных и свадебных процессий с участием генерала, пожарного обоза и бенгальских огней». А Мотеле рос пока что, задумчиво поглядывал на заветное семечко, хранившееся в маминой шкатулке, Мотеле – фарфоровый мальчик, за которого всегда боязно. Его бы переложить сеном, чтобы не раскололся на колдобинах жизни, на него поместить бы наклейку «Осторожно. Стекло», но до этого тогда не додумались.
Папа Иоселе не накопил сыну наследства. Лишь опечалился напоследок:
– Мне горестно, что оставляю тебя в таком мире. И стыдно.
Мама Песя добавила:
– Не разбрасывайся теми, кто тебя любит, Мотеле. Таких будет немного.
А Мотеле уже отплакал свой срок и жил затем тихо, каплей дождя на траве. Хрупок, тонок в кости, Мотеле говорил негромко, с запинкой, запутывался в долгих фразах без надежды на вызволение, как в чужих, не по росту, одеждах, улыбался стеснительно на всякое обращение, словно существовал не по праву, занимая соседское место. Обступали его клейкие привычности, которым не стоило поддаваться; любил уединение и предавался мечтам, участвуя в путешествиях души, отставал в развитии, лишенный злых побуждений, ёжился от нестерпимых грубостей, а это удивляло.
– Его скоро заберут, – шептались за спиной соседи. – Уж больно чист…
Мотеле возвысился в селении до уровня дурачка, и о нем заботились. В каждом местечке был свой дурачок, который позволял себе многое, недоступное прочим, отчего не трудно загордиться, возжелать невозможного, – без разума дураку не прожить.
«Фигли-мигли, любовные утехи!», «Волшебные фонари и картины к ним», «Книга доктора Лоренца „Грехи молодости“ – поучительное слово к каждому, кто расстроил нервную систему онанизмом и распутством». Объявился в местечке бродячий коновал, рудометчик и зубодер, распряг лошадь на базарной площади, выставил на продажу заморские снадобья, незамедлительно к излечению склоняющие, разложил на телеге мазь для изведения мозолей – «безвредно и доступно каждому», крем «Метаморфоз» от веснушек, помаду-фиксатуар «Букет Плевны», мыло «Мятное», мыло «Огуречное», а также ядовитое средство от нашествия тараканов с пугающей этикеткой: «Мор! Отрава! Погибель! Перед употреблением взбалтывать».
– Кого взбалтывать? – веселились насмешники. – Неужто тараканов?..
Коновал не снизошел до ответа и вынул напоследок новинку, слезную водицу в скляницах для промывания глаза и утишения в нем жжения. Столпился народ, разглядывая невиданную диковину, недоумевал по поводу:
– Как же оно в приготовлении?..
Зубодер разъяснил по-простому:
– Сидят в ряд плакальщики с плакальщицами. Им рассказывают грустные истории с печальным концом, они горюют полный рабочий день, и набирается слезная водица в скляницы.
– За это платят? – спросили.
– А то нет!
Народ дружно вздохнул:
– Нам бы такую работу… И печалить не надо.
Бадхан Галушкес – вислоухий, полоротый и пучеглазый – глотал огонь на свадьбах, танцевал на руках, чревовещал на всякие голоса, чудил и проказил, потешая гостей до желудочных колик. При этакой несерьезности профессии был Галушкес умозрителен не в меру, искал ключ к пониманию, докапываясь до основ, поучал всех и каждого:
– Увеселить – это понизить, заставить человека пасть наземь от смеха. Возвеселить – значит возвысить, вознести в утешении. Тихо, ша! Не дыша!..
Никто не улавливал разницы, и тогда Галушкес разевал от усердия рот, пучил сверх меры глаз:
– Радуйтесь к обновлению чувств. Благодарите за радости. Адрес у благодарности – один…
Мир беднел, свадьбы откладывались, увеселителям не было заработка, однако Галушкес взял Мотеле в дело, чтобы пригреть сироту. Вдумчив, не в меру серьезен, Мотеле высматривал оттенки человеческой души и их несообразности, а оттого в потешатели не годился, в собрании веселящихся чувствовал себя не на месте.
– За вас кто-нибудь беспокоится? – спрашивал свадебного гостя. – За вас пора побеспокоиться. И за вас тоже. Возьму это на себя.
– Ребенок шутит, – с почтением шептались вокруг. – Ум его не созрел, но голова летает…
И смеяться уже не хотелось – хотелось окунуться в печаль.
Абеле-горшечник взял Мотеле в подмастерья – таскать воду, мять глину, вынимать из печи звонкие, жаром налитые кринки, махотки с корчагами, которые раскупали на базаре. Мотеле уходил по вечерам в поле, слушал журчание воды в ручейке, посвист грызунов, шуршание колосьев на ветру, теплотой рук разогревал глину в ладонях. Наплывали беспричинные радости, как дуновения лета. Цветы клонили головы, сомлевшие от собственного благоухания. Глина противилась поначалу, грузная и неподатливая, а затем размягчалась в ладонях у фарфорового Мотеле, ощущая, быть может, свое с ним родство. Глаза закрывались. Душа высвобождалась из теснин тела. Ветер навевал предзакатные звуки, которые сливались в единую мелодию и перетекали от плеч к ладоням. Пальцы лепили нечто, одним им известное, и выходили на свет диковинные долгоносые птицы с хохолком поверху.
Что делает шрайбер, земной писец? Перевивает буквы строкой в черноте чернил. Что делает шрайбер, писец небесный? Перевивает судьбы, затейливо и прихотливо. К шестнадцати его годам Мотеле женили. Сироту звали Шайнеле, и сваха Шпринца сказала:
– Как проверяется невеста? По глазам. По глазам – каким образом? Если они нехороши, следует искать телесный изъян. Если хороши, искать не надо.
Глаза у Шайнеле – лесным озером в полдень, утонуть без возврата, теплотой души опахивала на подходе. Сваха Шпринца прошлась по домам, собрала цимес, фаршированную шейку, жаркое с черносливом – мало не показалось, ели и насытились. Бадхан Галушкес изображал в лицах, как глухой Берчик и слепой Исролик не поделили в бане мыло с мочалкой, как обжора Бухер с разиней Шлепером кушали компот из одной миски, – гости плакали от восторга, души вознося в веселии. Попили, поели, пожелали молодым: «Живите. Нас радуйте», разошлись по домам со спокойным сердцем.
Мотеле во многом не разбирался, даже в денежных знаках, но одно знал наверняка.
– Шайнеле, – сказал прежде всего. – Ты молодая, я молодой. Давай останемся в детстве. На всю жизнь.
– А как же дети, Мотеле, которые у нас появятся?
– Вместе с детьми.
Когда муж приходит к жене, радуются даже Небеса. Изъянов у Шайнеле не оказалось, и дети не заставили себя долго ждать. Первым появился Мойше, дерзок, своенравен, и сразу отбился от рук. Бегал быстрее других, рос быстрее других, вытягивались по отдельности части его тела, тоже своенравные, не сговорившиеся друг с другом, а оттого Мойшеле был нескладен, не в ладах с собой, вечно всё задевал, ломал, опрокидывал. Его ноги жили путаной жизнью и уводили в ту сторону, куда не собирался. Его руки двигались сами по себе и творили такое, отчего ахали соседи: гонял козу по крышам, запрягал кур в тележку, водил гуся на поводке, словно свирепого пса. Ухватил во дворе петушка, затащил в комнату – тот заметался с печи на лавку, со стола на кровать, опрокинул шкатулку на полке, склевал походя заветное семечко, с которым Мотеле явился на свет.
Кому хочется верить, пусть поверит. Вскоре у петушка надулся на голове желвачок, проклюнулся росток над гребешком, пустил зеленую стрелку, на конце которой распустился цветок из невиданных земель, нацеленный клюв, хохолок из лепестков – восторженно-оранжевых и глубинно-лиловых. Куры копались в навозе, чванился петушок с хохолком, и когда он наклонялся, чтобы подобрать червяка или зернышко, цветок наклонялся тоже и склевывал невидимое глазу.
– Ребе, что это?
– Ташлиль, – сказал ребе. – Цветок ташлиль, капризный и своенравный, отрицающий законы естества. Созревая, высевает семена надежды, ожидания с разочарованием, сводит с ума знатоков.
– Для евреев это хорошо, ребе?..
Глядел с телеги проезжий мужик. Лошадь не двигалась, завороженная чудным зрелищем, косила громадным глазом, в котором помещался клюв с хохолком. Теснились за забором случайные прохожие, взирая с остолбенением на невозможную красоту: «К чему оно и отчего оно?!..»
– Ах! – восхитилась барышня из проезжего тарантаса, преподаватель естественных наук Оталия-Луиза фон Фик, выписанная из заморских краев. – Это же редчайший цветок, Птица райских садов, – уступите вашего петушка за хорошие деньги. Дабы, обратив оный в чучело, пробуждать в пансионерках неизбывный интерес к учению для образования ума, сердца и характера…
Петушок тщеславился долго, изумляя своих с пришлыми, но век был уже на сносях, готовый разродиться, по местечку собирались по двое, пели с оглядкой: «Отречемся! Таки отречемся!..», отчего вперебой бились сердца и потели ладони. Надвигались перемены в судорогах бытия. Намечался переворот в умах и обычаях. Старое истлевало, новое не нарождалось. Тешились нанизыватели словесных бус: что прежде возвышали, то принялись умалять. Боевики рыли подкопы под самодержцев, закладывая заряды к потрясению основ. Прятался по чердакам картавый студент в пенсне, заросший курчавой стерней, который желал всё улучшить и знал как этого добиться «на лоне социальных идей».
– Всё? – спрашивали его в пугливом восхищении.
– Всё, – отвечал. – Всё-всё. Чтобы стало затем как следует.
Упрямцы возражали весьма неуспешно, по единому предрассудку:
– Мы не хотим как следует. Хотим так, как мы хотим.
Студент возгорался до такого градуса, что запотевало пенсне:
– Консерваторы. Ретрограды. Враги неумолимого прогресса… Вы хотите неверно!
А это становилось опасным.
Взгляды пугали. Слухи страшили. Неурочные колокольные звоны загоняли в укрытия. Возрастали тревоги на земле тревог, прорастали зерна дерзости и неповиновения, по беспечности не замечаемые; пьяные дрожжи охмеляли головы, заквашивали злобу с вожделением – опарой из корчаги, народ по округе неуклонно обращался в слякотный люд, готовый стечь по любому уклону. А по улицам бегал мальчонка-шустрец, которого жиды – по достоверным сведениям – давно уже извели на мацу.
Палкой тьму не разгонишь.
Пошли за советом к старой Цирле, у которой не было возраста, и она сказала им, позабывшим о смехе:
– В дни покоя не заботились о днях печали… Ой человеку, который видит и не знает, что он видит.
– Где покой, Цирля? Откуда у нас покой?..
Кто долго болеет, тот, как известно, долго живет. Цирля добралась до невозможных лет и смотрела уже не наружу, а внутрь себя. Мир для нее не существовал; в ней самой располагался весь мир, и Цирля отослала их к раввину, который помнил еще, когда он родился.
– Ребе, – вздохнули в сокрушении. – «До основанья, а затем…», – куда уж затем, ребе? Извратилась земля. Изверились люди. Меж теснин, ребе: дни в суете – ночи в ужасе.
Старый ребе – бледный, тщедушный, с юных лет изможденный учением – вступил наконец в такие года, когда его внешность стала соответствовать его возрасту. Ребе отбрасывал уже не свою тень – тень мудрого наставника, родившегося с кипой на голове, и разъяснил по явленным обстоятельствам:
– Не с теми боремся, идн, не тех опасаемся. Истинные несчастья рождаются из опасения мнимых.
Не уловили они, ох, не уловили…
Был манифест. И было буйство. С кольями, дубьем, жердинами из плетня. «Я не участвую в этом», – сказал Господь, но Его не услышали. Окулькин сын вышиб двери у Тагера. Паранькин кум порушил мебель у Цузмера. Пелагейкин зять вспорол подушки у Блюмберга. Афанасий-насий-насий – заика с колуном – заломал камень на могиле рабби, который уводил избранных в глубины сокровенного. Соседи. Сто лет вместе. Хаты иссохшие, стены погнившие, на крышах мох с соломой – не отличить. «А взять-то у них есть чего? А взять-то у них нет ничего…» Прибежала хворая вдова Федосьица, припоздав к разбору, погналась за живностью на дворе, загребая увечной плотью, прихватила петушка цепкой рукой. Не спрятался, потому что глупый, не убежал, потому что гордый, – прокричал напоследок тоскливым воплем, как насылал беду на округу, но вдова Федосьица не обеспокоилась: свернула петушку шею, сварила в казане курячий суп с бураком, с Птицей райских садов, отобедала с чувством. Ежели петух бегает без головы, значит, не теряет еще надежды; ежели кричит перед кончиной, и громко кричит, надсаживая глотку, мясо его слаще, навар с петуха гуще и сытнее.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: