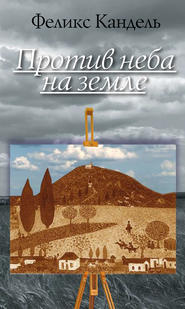скачать книгу бесплатно
– Прибавил муки – прибавь воды… У тебя сын, у него дочь – вот вам и пара.
– А что? – согласились охмелевшие отцы. – Таки породнимся!
И обнялись. И поклялись при свидетелях…
Прошли годы. И прошли месяцы. Человек склонен к скорому забвению, а потому Аврум Шпильман не помышлял о последствиях, пробавляясь кишечным промыслом для изготовления гефилте-кишкес, чтобы заботливые хозяйки наталкивали туда тертый картофель, гусиный жир, лук с чесноком, черный перец, муку и яйца. Голосом тих, натурой упрям, Аврум говорил мало, чтобы не сказать лишнего, что знал, сохранял при себе, чего не знал, честно говорил: «Не знаю». Кавун с тыквой в огороде, подсолнух с мальвой в палисаде, махотки чередой на плетне. В один из дней подкатила телега со стороны восхода – не разглядеть седоков, слез возле дома Мотке-портной из неблизкого местечка:
– Где наш жених? О котором уговаривались.
И девицу показал – косая, хромая, короткопалая, губы обкусаны, пряди посечены, на щеке родинка с целковый, на родинке приметная волосинка. Словно хлеб подсохлый, не спрыснутый колодезной водой, и глаза к полу – как отталкиваемая, которую некому приблизить.
– Нет! – вскричала жена Шпильмана. – Несовместительно!.. – И завалилась в пыль посреди улицы: – Умру – не отдам ребенка! Златокудрого! Чистотелого! Без единой изъянинки! А эта – косая, кривая, беспалая, похужеть некуда, а что у нее под платьем – еще посмотреть!..
Крики. Слезы. Толки на всю округу. Шепоток по домам к радости пересмешников: «Отчего невеста охромела?» – «Споткнулась о соломинку». – «Отчего оглохла?» – «Муха чихнула в ухо». – «С чего окосела?» – «Комар сел на глаз…» Жена Шпильмана ослабла с горя, так ослабла, что встать не могла, не могла сесть, но всё видела при этом, всё слышала, всеми командовала: «Рахмунес, идн, рахмунес!..»
Пошли к ребе. Уговор был? Был. Клятва была? Была. Повод к несогласию есть? Повода к несогласию нет. Надо женить, сказал ребе. Через год на второй. Может, к тому времени невеста выправится, похорошеет – не в красоте счастье…
Прошел год, подступил второй – Аврум Шпильман сидел в баньке над речкой, курил спирт из заквашенного хлеба, накручивал на палец золотистую пейсу. А вокруг обитали лица злокозненной нации, по прежним узаконениям нетерпимые, благоденствующие отныне «под благословенною Ея державою» после раздела шляхетской вольницы. А по дорогам уже катил тайный советник Плющевский-Плющик с прочими сопутствующими чинами для досмотра новоприобретенных земель, дабы прививать добро принуждением, чинить за своеволие суд и расправу. А по местечку уже гулял канцелярист Шпендорчук в мундире акцизного для искоренения запретных торгов и промыслов; доблестный инвалид на деревянной ноге – исподнее из бумазейной ткани – лупил палками по барабанной коже к уведомлению обывателей; пожарный обоз застыл наготове – охлаждать из брандспойтов недозволенные страсти; урядник с шашкой встал столбом на рыночной площади – кулаком озадачивать без жалости, чтобы народ трепетал в строгости-повиновении. Но Шпильман ничего этого не знал, у Шпильмана приближалась свадьба – не напасешься, а потому он сидел в баньке и курил спирт, который горел синим пламенем, если его, конечно, поджигали.
Ехал мимо казак на коне, душу ублажал пением к одолению пути: «Как на кажной волосиночке по горючей по слезиночке…» Унюхал влекущие запахи из баньки, скомандовал: «Стой стоймя!», вопросил в голос:
– Не поблазнилось ли?.. Однако не поблазнилось. Жид, а жид, отлей на пробу! Горилочки-водочки по самые глоточки.
Хлебнул из ковшика, ухнул, ахнул, подбоченился:
– Ну, с кем на перепивание?..
Хлебнул еще, утерся рукавом и поскакал на любовную баталию – чуб на ветру:
Не вари кашу крутую – вари жиденькую,
Не люби девку сухую – люби сытенькую…
Шли роты с примкнутыми штыками на прорыв обороны. Катил малый чин в крытой фуре – сапоги под смазью, держал надзор за денежным ящиком, припоминая субреточку на привале: «Уложи меня, неуложенного. Обласкай меня, необласканного…» Сунул голову из фуры, склонил нюх к пахучим соблазнам:
– Воскурения – они зачем? Не секта ли шалопутов, оргии творящая?..
Вскричал в скорой догадливости:
– Жид сей! Умыслив деяние… Которое непопустительно… Плесни от широты сердца, чтоб жизнь пошла а?хальная!
Высосал ковшик до дна: «Одномоментно, други, одномоментно!», высосал другой: «Паче чаяния!», выдул изо рта огневой факел и покатил далее на сатисфакцию, дабы истрепать врага до излишней крайности. Сидел ровно, глядел зорко, вопрошал по-читанному встречные пространства:
– Оборону от клопов держали?..
Канцелярист Шпендорчук, притомившись, восседал у старосты за столом, отстегнув у мундира верхнюю пуговку, перехватывал до обеда глазунью из дюжины яиц, не оставлял без внимания сливовицу, употевал от чая с черешневым вареньем при заполнении начальственной паузы, вёл доверительные беседы:
– Которые народы. Послушания не приемлют. За теми глаз да глаз…
Жена прибежала в баньку, сообщила шепотом: «Ой вей, Аврум, на подходе кутузка – каторга – кандалы – Сибирь!..» Но Шпильмана не легко испугать. Шпильман не всегда знал, что ему надо, нутром угадывая, чего не надо, и этого было достаточно для уклонения от невзгод. Он не желал в Сибирь, ни в коем случае, а потому подкрутил пейсу, вышиб затычку у бочки и спустил спирт в реку по скрытому протоку, избежав кутузки-каторги-кандалов.
Удача от неудачи – не всякому доступно.
А в реке на отмели стояли коровы. У коров – полуденный водопой. Пастух дудел в сопелку из бузины, стадо хлебало пьяную воду, не могло нахлебаться – и закружились тугодумные головы, пробудились из дремы женские потребности, побежали гурьбой к быку, чтобы покрыл немедля. А бык был, что за бык! – страшнее страшного: в силе, славе и могучей дикости. Бык поглядел – бегут на него дойные коровы, словно бзык напал, мычат томно от взыгравших вожделений: хвост задран, глаз в дурной пелене, сосцы торчком, как надерганные, вымя налитое, неподъемное, шлепает наотмашь по крутым бокам. Бык перепугался: одному не управиться – затопчут, и поскакал прочь, вскидывая ноги, словно теленок на лугу. Углядел урядник в своем остолбенении, что скачет на него свирепый бугай, набычив рога, и припустил дробным поскоком, топая казенными сапогами, шашкой выписывая каракули по пыльному тракту. Бык за урядником, коровы за быком, пастух с дудочкой за коровами…
Шел к рынку увертливый Шмуль, не брезговавший недозволенными гешефтами, видит – бежит на него урядник с шашкой на боку, и помчался от него во всю прыть, чтобы не попасть в блошиную каталажку, ибо случалось подобное, и не однажды. Урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами…
Шагал по улице Янкеле-бедолага, задолжавший всем и каждому, смотрит – бежит на него Шмуль, которому не вернул две полушки с прошлого лета, и не вернет, наверное, никогда. Шмуль за Янкеле, урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами…
Стояла у ворот теща Янкеле, въедливая старуха, которую он грозился истолочь, видит – бежит на нее зять, чтобы исполнить намерение, и запрыгала по улице – откуда что взялось. Янкеле за тещей, Шмуль за Янкеле, урядник за Шмулем, бык за урядником, коровы за быком, пастух за коровами…
Вышел из дома канцелярист Шпендорчук на акцизную службу-старание, дабы продлить оную с похвалой, видит – толпа, пыль до небес: все бегут и все на него. Измена. Злодейства. Бунт на скопищах. Еврейский бунт, бессмысленный и беспощадный, – переняли, пархатые! Шпендорчук вприпрыжку от тещи, что оскорбительно и позорно. Теща вприскочку от Янкеле, что натужно и огорчительно. Янкеле впритруску от Шмуля. Шмуль рысцой от урядника. Урядник скоком от быка. Бык галопом от коров. Коровы иноходью от пастуха. И убежали за горизонт, что удивительно и неправдоподобно…
Вот картина, достойная изумления, укоризны и порицания!
А Шпильман сидел в баньке над речкой, накручивал пейсу на палец и курил новые запасы спирта, который пылал жарким пламенем в человеческой утробе, от чего возгорались сердца, пробуждался аппетит, в припляс шли ноги.
Чем же оно закончилось? Тем оно и закончилось. Хупу поставили в пятнадцатый день месяца Ав: нет лучшего дня для соединения сердец. На свадьбу явились мастеровые – жестянщик Блехер, литейщик Гиссер, столяр Тышлер, Фарфурник с Гуральником, Ткач с Пекарем. Веселил гостей Беня Пукер, завиральных дел мастер, – как без него? «Нынче бульба, завтра бульба. В хлебе бульба, в рыбе – бульба…» Душу надрывал горбатый печальник Фиделе – стоном на скрипичной струне, так надрывал, что все изошли плачем, будто на похоронах. Пришлые клезмеры ублажали сердца: кларнет с трубой, флейта с цимбалами, барабан с тарелками: «Бам-бада-дам, бада-тири-дам…» – даже старая Цирля прошлась с рукоплесканием в свои завосемьдесят, стряхнув с плеч несчитанные зимы. Подали на стол кугель. Форшмак. Фаршированную щуку. Ели ее со жгучим хреном, проливая радостные слезы, напевали от избытка чувств, не опасаясь подавиться рыбной косточкой, кричали молодым: «Здоровье на вашу голову!», а во главе стола сидел Фишель, жених-загляденье, рядом невеста – не на что посмотреть. Выпили, отплясали свое, и наутро молодоженов отослали в город, с глаз долой, чтобы над ними не потешались. А то, не дай Господь, нарожают страшилищ…
Он любил ее до самой смерти, не мог наглядеться – желанную к ночи и желанную под утро, хорошевшую безмерно в минуты прикосновений. От радости голубели ее глаза, опушались посеченные пряди, привядшие губы расцветали в неутоленном зове, спелые, влажные, наливные, в несмелом раскрытии женских сокровенностей, а она – в благодарность за подаренные ликования – выносила мужу семь сыновей, Шпильмана за Шпильманом, красавца за красавцем, зачатых в полноте ощущений. Семь сыновей – семь свечей: Фишель привез их к отцу с матерью, и всё местечко сбежалось взглянуть на Божий подарок. К чужой радости не прилепишься, в чужое счастье не протиснешься, – такие сыновья, таких не бывает на свете! Их даже хотели украсть, одного хотя бы, самого крохотного, самого приглядного, с золотистыми локонами, в бархатной ермолке, звали его Гершеле, Гершеле-мизинчик, – к этому приставили охрану.
– Береги ноги, Гершеле, – благословил Аврум Шпильман, и слеза пролилась в бороду. – Тебе далеко идти…
…Гершеле, ай, Гершеле! Ростом высок, телом силен, духом покоен, – всё, что ни делал Гершеле, он делал замечательно. Резал сосновые донца, гнул дубовые клёпки-боковины, стягивал обручами, забивал затычки в сливные отверстия, выставлял на загляденье бочонки под брагу, ушаты под воду, кадушки под муку, крупу, моченую ягоду, бочки для засолки грибов, огурцов и капусты. Вставал на пороге крохотный Шимеле, руки заложив за спину, высвеченный золотоволосым дождем до плеч, говорил с надеждой:
– Мешаю работать…
Гершеле откладывал инструмент, отодвигал в сторону донца с обручами; они усаживались на смолистые стружки, и отец спрашивал сына:
– Про кого теперь?
– Про гуся, – просил Шимеле.
– Лук репчатый, гусь лапчатый, червь кольчатый, а человек крапчатый… – начал бы Гершеле этаким манером, если бы знал русский язык, но начинал он иначе и на идиш: – Жил на свете гусь, у которого была голова самого большого гусиного размера.
– У тебя тоже большая, – говорил Шимеле и приваливался к отцу под бочок, опахивая молочным запахом.
– У меня тоже, – соглашался Гершеле. – Гусь очень гордился своей головой и носил фуражку с красным околышем, как у господина урядника.
– И у тебя, как у урядника, – снова говорил Шимеле и вздыхал от избытка чувств.
– Ну уж нет! У меня фуражка, как у скрипача на крыше, – мог бы возразить Гершеле, но время к тому не подошло, а потому он продолжал рассказ и продолжал его так: – Надо сказать тебе, Шимеле, что это была еврейская улица, и дома на ней были еврейские, еврейские запахи, еврейский мусор, еврейское небо над головой, а по еврейскому двору ходили еврейские куры с утками, цыплята с гусятами, клевали еврейский корм. Жил гусь и жил, хвастался своей фуражкой самого большого размера, а индюки надувались от зависти и буркали с небрежением: «Где украл – где украл?..» Это были заморские индюки, которые не считали себя евреями, а оттого важничали сверх меры: «Мы по-вашему не едим. По-вашему не пьем. Так себя не ведем, а ведем себя не так. У нас и носы другие, и лапы, и хвосты не здешние. Подкормимся – полетим дальше». – «Куда-куда?..» – волновались куры, замирая от восторга. «Вер вейст! – отвечали индюки. – Мы знаем?..» Так они жили на том дворе, так проходили дни с неделями, и вдруг гусь стал замечать: фуражка наползает на лоб, затем на глаза, и не разглядеть из-под козырька, где миска с кормом, чем занимаются куры с утками, как обогнуть яму, которая на пути. Понял гусь – голова стала мельчать, и ежели не принять срочные меры, она обратится в сливу, орех, а там и в усохшую горошину, что отвратительно и содержит противоречия, несовместимые с житейским опытом.
– Что же теперь делать?.. – в волнении замирал Шимеле.
– Можно надеть крохотную шапчонку самого малого гусиного размера, но это обидно и нестерпимо. Есть, конечно, и другой вариант.
Гершеле замолкал и молчал долго.
– Говори, – просил Шимеле. – А то засну.
– Чтобы наполнить живот, надо побольше есть. Чтобы наполнить голову, надо почаще думать.
– Я думаю, – сообщал Шимеле. – Сейчас, например, я думаю о том, что делать гусю. И голова моя растет.
– Твоя голова растет – это так. А гусь не знал, о чем подумать, потому что кормили его досыта и думать было незачем. Но это был гусь с еврейского двора, склонный к размышлениям, а потому он стал ходить взад-вперед, крылья заложив за спину: «Задумаюсь-ка я вот о чем: отчего у гуся нет копыт? И рогов тоже нет…» Не думается никак во дворе – гусыни отвлекают, гусыни-глупыни, которые без конца гогочут: «Что на ужин, что на ужин?..» Залез в сарай, темно, никого нет: не думается в сарае о бескопытных и о копытных тоже не думается – спать хочется. Пошел за ворота в густые травяные заросли: думается с трудом и не о том, потому что страшно. А головы совсем уж не видно: гуляет по двору туловище на бескопытных ногах, никто не знает, что делается у гуся под фуражкой, и даже презренные лягушки оквакивают его из-под бочки с водой: «Квак смешно, квак смешно…»
– Дальше что? – спрашивал Шимеле.
– Дальше что? – спрашивал гусь со двора, заглядывая в мастерскую.
– Еще не знаю, – сокрушался Гершеле, в котором иссякал ручеек вымысла.
– Хочешь обидеть? – шипел гусь и тянул шею, чтобы ущипнуть.
– Да ты что!
– Тогда придумай. Найди выход из положения, которое прискорбно и непочтительно.
– Почему я?
– Ты рассказываешь – тебе и находить.
И вытаптывал с угрозой «бройгез-танц» – лапчатый танец обиды.
– Гершеле, – кричала через плетень свадебная кухарка. – Гусака не уступишь? Откормить – и на стол!
– На стол – это зачем?..
– Печенка от него хороша. Жаркое. Шмальц со шкварками…
Шимеле с ужасом глядел на отца. Гершеле с ужасом глядел на кухарку. Гусь прятал голову под крыло – каково это услышать? – и поджимал ногу, словно морозом ожгло пятку на снегу.
– Нет, – говорил Гершеле. – Гусака не уступим.
А тот вытаптывал на радостях «шолем-танц» – танец примирения…
Путь от зачатия известен всякому. Когда минуют назначенные сроки, роженица испускает девяносто девять вздохов, девяносто девять криков, и лишь сотый из них – крик новой жизни. Жила в местечке Хая-повитуха, которая заплетала ногу за ногу, всё роняла, про всё забывала, путала дорогу к роженице, отчего вечно запаздывала и приходила после родов, а то и назавтра. Это оберегало ее от многих неприятностей и это ее кормило: появись растеряха вовремя, кто знает, что бы случилось с младенцем, но женщины, пообвыкнув, не ждали, пока она придет, завяжет пупок, и с молчаливого согласия исправно платили за вызов. Да и то уж…
…проще всего обвинять Хаю-повитуху, но не мешало бы выслушать и другую сторону. У Хаи был муж, Пици Узенький, Пици-трубочист – тощий, на еду вместительный, который ходил в город на промысел, ибо пролезал в любой дымоход на крыше, если, конечно, не было в нем заслонки. Побывав однажды на свадьбе и исправно поработав за столом, Пици округлил животик и под утро застрял надолго в трубе. Печь не топили. Борщ не варили. Трубочиста выталкивали всем народом, заодно с полицией и пожарной частью, но тело шло туго, голова торчала наружу, озирая окрестности, живот опадал от голода, Пици бормотал горестно в ожидании вызволения: «Кому покой, а кому скитание… Кому унижение, а кому возвышение…» Накостыляли по шее, надавали тумаков на дорогу, не велели появляться в их краях, и домой он вернулся отощавшим, без единой копейки, услыхав с порога плач очередного младенца, который разевал рот для принятия пищи…
Дети умножают радость и порождают заботы. Хая-повитуха рожала не реже других в местечке и тоже обходилась без посторонней помощи:
– Чтобы было кого кормить.
И всех это устраивало…
Известно не понаслышке: рабби Ханина и рабби Ошайя в канун субботы изучали книгу Брешит; посредством ее сотворили трехлетнего теленка, им же затем и поужинали. В последующие времена этого уже не умели; с неба не опускалось пропитание, достающееся без забот, возрастали повинности к оснащению войска против безбожного корсиканца, и когда Бася отвздыхала положенные вздохи, Гершеле призадумался: где бы ему подработать, дабы отринуть беспокойство о прокормлении? Ремесло Гершеле не кормило, ремесло никого не кормило: бочки усыхали, обручи опадали, донца выпукивались сами собой, – кому нужны бочонки с кадушками, ежели нечем их наполнить?..
– Бася, – повторил Гершеле заученное с детства: – «Как снится голодному, будто он ест… Как снится жаждущему, будто он пьет…»
Бася понимала мужа с полуслова:
– Гершеле, сердце мое! Сходи к старой Цирле. Она подскажет.
Жена сказала – Гершеле не ослушался. Цирля сидела у раскрытого окна, пекла пупырчатые оладьи и угощала каждого, кто проходил мимо. Старая Цирля похоронила всех одногодок в местечке и жила дальше, отяжелевшая телом. Думала она недолго:
– Главное не то, что из кармана, а то, что в карман. Утаенное умирает. Неразгаданное не рождается. Людям надо подсказать их желания.
– Желания?
– Желания.
– Они и без нас их знают.
– Они не знают, а потому томятся в сомнениях. Подсказавший желание – преуспеет.
И накормила его оладьями.
Назавтра на рыночной площади появилась вывеска «Мы знаем, чего ты желаешь. Зайди и убедись».
Ходили вокруг евреи под грузом огорчений, малым остатком давнего рассеяния, комковатые и клочковатые, сучковатые и дуплистые: видно было с расстояния, что с питанием у них плохо, видно было по иным, что с питанием у тех замечательно. Народ по округе обеднел, истратился, каждый платил другому водицей из колодца, и то не доверху; жизнь размазывалась просяной кашей по тарелке – лизнуть да понюхать. Взглядывали на небо в смутных жалобах: «Дал жизнь – дай парносе!» Косились на заманчивую вывеску, приговаривали уважительно:
– Этот Гершеле! Что-то особенное…
Но дверь открыть опасались, ибо были не при деньгах.
Элькин муж – хромой бедолага, не знающий родства – промышлял по соседству редким промыслом. Элькин муж обучал мычанию окрестных коров с телятами, каждого иным мыком, коротко или протяжно, голосисто или задавленно, чтобы хозяева отличали на расстоянии. Дело шло ходко. Уже объявился клиент, который копил деньги на козу, и Элькин муж подумывал о том, как бы расширить коммерцию.
– Это прибыльно? – интересовались многие.
– Они еще спрашивают… – отвечал он, драный, латаный, в лоскутной рубахе, и мычал с отчаяния, как некормленная корова.
Ему нечего было терять, а потому Элькин муж решился на отчаянный поступок. Первым вошел к Гершеле, затворил за собой дверь, вышел через немалое время – сияет:
– А гройсе менч!.. Он сказал, что желание мое – оставить след памяти. Для тех, которые придут за нами.
– Это так?.. – усомнились маловеры. – Такое у тебя желание?
– Именно! – просветился изнутри продавец мычаний. – Но я об этом не догадывался.
– Сколько же это стоило?
– Первое желание бесплатно.
– Бесплатно? Можно попробовать.
И установилась очередь. И каждому Гершеле сообщал единственное, выстраданное, запрятанное в глубинах:
– Желание твое – не ведать утраты…