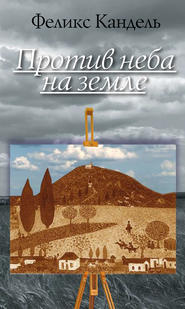скачать книгу бесплатно
Поселился в кладбищенской сторожке поближе к ней. Выполол сорняки. Вычистил дорожки. Укрепил завалившиеся камни. Возвел ограду вокруг усопших, чтобы не стали добычей забвения и при нужде заступались за живых.
Женился.
Передал семя свое.
Родил Ушера.
Любовь сына уберег до старости…
…Ушер вошел в жизнь при солнечном касании, когда неспешно розовело за лесом, – верный знак, что вырастет щедр, влюбчив, незлобив, легок на поступь, заливист и голосист: дзынь-зынь. Ушер – зеркальных дел мастер – выполнял работу со старанием: отбирал стекло без изъяна, резал до нужного размера под пение алмаза, раскатывал олово до неприметной тонкости, натирал ртутью; зеркала перенимали светлый взгляд мастера, ясный его облик, а потому приукрашивали всякого, кто к ним приближался, врачевали совесть, настраивали сердца, а к вожделению не склоняли.
Каждый находил утешение в его зеркалах, в озерной их чистоте, даже замшелые запечные старики; каждого манило шагнуть в их глубины, обосноваться в голубоватом покое, чтобы оттуда, из зеркального бытия, взглядывать на мир в благодушии и довольстве. А они стояли на полу, висели на стенах в ожидании покупателя, отражались одно в другом, как сон во сне, ручей в ручье, кружили голову своему создателю – кудряв, крепок, волосом рыжеват, будто немало Ушеров работало в мастерской зеркальщика. Птица залетала ненароком, металась во многих обликах, не находя выхода; к вечеру он и сам запутывался, не в силах отличить явное от мнимого, себя от изображения, – это значило, пора заканчивать работу и возвращаться домой.
– Не дышите на зеркала, – умолял заказчиков. – Не захватывайте руками! Они от этого слепнут…
В один из дней прискакали гайдуки, заломили руки, отвезли к паночке, жизнь проводящей в прелестях, потехах и танцеванье. Вышла к нему в постельных одеждах, коварна и обольстительна, и Ушер потупился, дабы не согрешить в помыслах от злого очарования.
– Видишь мои зеркала?
В углу лежали осколки – великой грудой. Может, она их била, недовольная видом своим, а может, лопались от гневного ее взора.
– Правда ли, что твои зеркала приукрашивают женщин, отчего хорошеют безмерно к приходу мужей?
Ушер кивнул головой.
– Правда ли, что это способствует деторождению?
Снова кивнул.
– Изготовь для меня зеркало вожделения, – повелела паночка, потакая желаниям. – Чтобы подвигало к шалостям Амура. Сделаешь – озолочу. Не сделаешь – сгоню всех со своей земли. И кладбище ваше разорю.
Ушер побежал к раввину:
– Беда, ребе!..
Старый раввин молился всю ночь, а наутро сказал:
– Сделай ей зеркало.
Далее – противоречиво. Далее – многие несообразности, из которых выберем самые достоверные. Рассказывают: паночке полюбилось ее отражение в зеркале, толпой пошли воздыхатели с их шалостями, и она оставила местечко в покое. Уверяют: паночка осердилась и приказала распахать кладбище, но когда гайдуки приблизились к могиле наставника, родившегося с кипой на голове, пали их волы, пали лошади, пали бездыханными они сами. Утверждают со слов очевидцев: зеркало отразило нутро паночки, скрытое от всех, ненасытную ее похотливость, отчего обернулась в козлоподобного демона, не отбрасывающего тени, и ускакала в пустыню…
Облако наползло без спешки со стороны кладбища, провисло до спелых подсолнухов, спрыснуло обильную морось на истомившиеся на припеке посевы. Подсолнухи опустили отяжелевшие головы и увидели человека на тропе, тощего, иссохшего, который лежал ничком, без движения. На нем был драный балахон из мешка, голову укрывала соломенная шляпа с объеденными полями, словно их сжевала коза, ноги в опорках запеклись кровавыми отметинами. Подсолнухи покачивали головами на ветру, как осуждали или печалились, но помочь несчастному не могли, и он пролежал до заката без надежды на снисхождение.
На него наткнулись по случаю, засуматошились, растормошили, омочили водой иссохшие губы. Поднял с усилием голову, задал непростой вопрос:
– Попраны ли надежды?
– Попраны, – ответили. – Но частично.
– Это мы отладим…
Его принесли в крайний дом, и Блюма, жена Ушера, выставила на стол миску крупяного супа, густо заправленного картофелем для основательного насыщения, – бедность диктует вкусы.
Зачерпывал понемногу. Пережевывал не спеша. Насытился, зарозовел, вновь задал вопрос:
– Чудеса случаются?
– Какие у нас чудеса…
– И это поправим.
Поднял глаза к потолку, прикрыл ладонью и запел. Нежданно переливчатым голосом, пробиваясь в высоты высот, жалуясь, тоскуя, восторгаясь и завораживая. Сбегались женщины с ребятишками. Сходились мужчины. Толпились в дверях, протискивались внутрь, заслоняли свет в окошках. Пришла даже старая Цирля, одолев с натугой переулок; даже ребе приоткрыл окно в доме, а младенцы выпустили изо рта материнскую грудь, зачарованные дивными звуками.
Голос устремлялся ввысь, как путь прокладывал, каждого тянул за собой во врата трепета, словно наступила суббота в неурочный день. Дом песней полнился. Радость восходила к небесам. Родник пробивался через завалы под сладкозвучное пение, гул живой воды – через запруды, затапливая печаль, орошая засушливые души, восторгом наполняя сердца, страстным желанием прильнуть к источнику, вознося на такие вершины, которых не помышляли достичь прежде. Пол отдалялся. Крыша раздвигалась. Солнце скакало шаловливым барашком, звезды опадали росной капелью, изумрудами украшая травы. А они переглядывались в изумлении, удостоившись минутного озарения: где горечь вчерашнего дня? – за горечь принимали жизненные необходимости, оказавшиеся незначительными.
Лица сияли. Чувства обновлялись. Дыхание становилось неслышным. Были ли слова у той песни? Каждому достались свои.
Замолчал, сказал тихо:
– Кому дано – отработай…
И все нехотя опустились на землю. Покрутили головами. Спросили несмело:
– Это чего было?
– Чудо, – ответил. – Обещанное. Плохо – это теперь плохо, а хорошему конца нет.
Усомнились. Переглянулись:
– Проясни.
И он прояснил:
– Жил скрытником. Жил затворником. Наказывал себя за желания. Бил по щекам за недостойные помыслы. Сокращал порции еды в уморении плоти. Пол не подметал, стены не белил. Спал на малом сундуке, свесив во сне ноги. Не слушал пение птиц и журчание ручейков, ибо радость ведет к легкомыслию. Пошел к ребе, спросил: «Что еще сделать, чтобы приблизить приход Освободителя?» Ребе ответил: «Купи кровать и пообедай…» Вы меня поняли?
Они не поняли.
– Злодейства за вами не оказывается, но этого мало. Мало Ему этого.
Опять не поняли.
– Прискучили Ему ваши стенания. Призвучили жалобы с воздыханиями. Предстаньте с веселием – это так просто!
– С утра и начнем…
И снова усомнились.
Подкормили его, подлечили раны на ногах; наутро собрался в путь, сказал Ушеру:
– Передай сыну своему… Жил на свете человек, который отправился на борьбу с силами нечистоты. Пением очищать вселенную.
– У меня нет сына. Одни дочери.
– Это мы поправим…
Первая в жизни удача – она самая главная: где, когда, у каких родителей появиться на свет. Иоселе родился у Ушера-зеркальщика, к Иоселе пристыла его душа, и Ушер сына баловал, не оставляя просьбы без исполнения.
Иоселе сидел по вечерам на кровати, не укладывал голову на подушку до прихода отца, а Ушер спешил домой, бросая дела с заботами. Сын расстегивал пуговицу на его рубахе, запускал внутрь ладошку, и идише-тате промурлыкивал в наслаждении: «Тридл дидл, дидл дудл, о-ля-ля…» А затем принимался за очередную историю – выдуманную, не совсем выдуманную, совсем невыдуманную, ощущая по шевелению ладошки интерес ребенка, испуг его или восторг. Блюма, жена Ушера, с умилением поглядывала на них, приткнувшихся друг к другу, проговаривала шепотом известное всякому: «Еще больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет его кормить». Потом Иоселе засыпал и виделись ему сны легче тени, как по податливым облакам лез на небо, по облакам-перинам, где дожидались его пестрые радости.
Было в один из вечеров. Взялся Ушер за сочинение истории, которая в переложении с киндер-майсе на вундер-майсе, с детского языка на волшебный звучала примерно так:
– Вот рассказ реб Ушера, сына реб Шолема, о маловероятном и неотвратимом, будто ручей в ручье, зеркало в зеркалах… Встал с постели грозный император, выкушал яйцо всмятку, гренки с маслом, запил сладким чаем, сказал министру двора:
– Снился мне нынче некий Шпильман. При пронырливых оборотах. Найти и обезвредить.
А камердинеры затянули его в мундир – не вздохнуть.
– Ваше императорское величество, не соблаговолите сообщить адрес дерзостного нарушителя?
– Адрес во сне не указан. Обезвредить без адреса.
И приступил к утверждению высочайших рескриптов, дабы привести в любовь и послушание столь пространное государство.
Выпустили секретный указ «Об отвращении вредных для империи поступков…» Разослали по губерниям титулярных советников, перебрали народы по городам и весям, обнаружили 23 тысячи 376 Шпильманов мужского пола старше тринадцати лет, которые отвечали за свои поступки перед земным и небесным правителем.
– Он мне опять снился, – сказал император поутру. – Злокозненный иудей в ермолке, ношение которой не дозволено.
Встал у окна, нахмурил брови – даже живность в лесах охватил трепет, рыб в реках, птиц в поднебесье, а о министре двора и говорить нечего.
– Ваше императорское величество, не соблаговолите раскрыть имя строптивого Шпильмана, дабы прибегнуть к решительным мерам понуждения?
– Имя во сне не упомянуто. Обезвредить без имени.
Разослали по уездам расторопных фельдъегерей, замордовали ямщиков на трактах, чтобы скакали без промедления, доставили в столицу 23 тысячи 376 Шпильманов, каждого допросили с пристрастием, но злоумышленника не обнаружили.
– Он снова мне снился! – в гневе вскричал император. – Премерзейший тип с пейсиками, которые безусловно запрещены!
И топнул ногой в высочайшем гневе, отчего задрожала Австрия, затряслась Франция, а малые страны изукрасились на всякий случай флагами безоговорочного согласия.
– Ваше императорское величество, не соблаговолите отметить особые приметы злодея, вышедшего из границ повиновения?
– Приметы не выказаны. Наказать без примет, и немедля! Не то я тебя, министр двора, погоню с моего двора.
Рахмунес, идн, рахмунес!.. Собрали на плацу 23 тысячи 376 Шпильманов, выстроили в шеренги, вышел к ним министр двора, пуганый от полномочий, попросил по-хорошему:
– Шпильманы, не губите! Сознавайтесь ради малых моих детушек! Кто из вас, канальи, своевольничает в императорских снах? Говорите без утайки, уклонившиеся в крамолу, не то упеку до единого в вечные мерзлоты, безропотно и безотходно!
Спросили с почтением из шеренги:
– В вечные мерзлоты – к вечным работам?
– Именно! Для отрытия в недрах земли неисчерпаемых богатств.
– Отчего же всех до единого?
– Дабы наверное избавиться от нарушителя. Дерзнувшего коснуться Высочайшего сновидения!
В дальних рядах произошло шевеление. Вышел вперед некрупный еврей, покрутил золотистую пейсу, сказал с приличествующим поклоном:
– Вот он я, Ушер Шпильман. Имею обыкновение входить в посторонние сны.
Вскричал министр двора:
– Как же оно так?!
– Вот так. Снился полицейскому приставу, будто вытирал об него ноги, как о коврик, а сапоги во сне были нечищеные. Снился соседу-помещику, будто гнался за ним по полям и кричал: «Догоню – ущипну!..» Объявился во сне у господина губернатора, дым от цигарки пускал в сиятельный нос…
Эти слова задели министра за чувствительное место его ранимой души:
– Узрев… Возлюбленного монарха… В величайшем удручении… За содеянные вероломства полагается тебя смерти предать!
– За чужие сны не отвечаем, – ответил Ушер. – Мало ли кому что снится.
– Враг, враг! Варвар и кошмар!.. Да я тебя разорву, я тебя в клочья!
– Рвите, – согласился. – Хоть в клочья. Хоть как. Всё равно буду сниться. А может, и привидением обернусь.
Перепугался министр, лицом побелел, осанкой сник, ростом опал, и Ушер ему сказал:
– Знаете, что я посоветую? Не впускайте меня в ваши сны.
– Как же тебя не впускать? Во сне мы беспомощны. Даже само императорское величество.
– Так ведь и я беспомощен. Пусть его императорское величество не спит – не дремлет. Тогда не приснюсь…
Стемнело в комнате. Свеча погасла.
– История закончена. Спать, Иоселе.
Душа младенца недоступна пониманию. Маленький Иоселе лег на бочок, ладошку подложил под щеку, и с этой ночи начались злоключения. Забиралась во сны к ребенку всякая противность – солдаты с ружьями, казаки с саблями, бомбардиры при мортирах. Рослые и безбородые, дикие и могучие, набегали пауками на голенастых ногах, лопатки рычагами ходили по спинам, – не укрыться в тайниках одеяла. Солдат поблескивал штыком, казак целился пикой, бомбардир прикладывал фитиль к пушке, чтобы пальнула, – Иоселе подскакивал на матраце и вскрикивал от страха:
– Тателе, мамеле!..
– Не плачь, сынок, – успокаивал Ушер и для пущей убедительности брал в руки кочергу: – Вот я приснюсь тебе и наведу порядок.
Иоселе задремывал у отца на руках, видел во сне штыковой бой, кричал в ужасе:
– Тателе! Приснись поскорей, ты же можешь!..