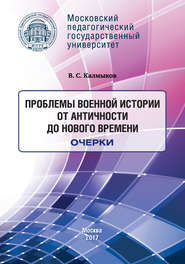 Полная версия
Полная версияПроблемы военной истории. От Античности до Нового времени. Очерки
Могла ли эта армия победить римские легионы? В сражении всё зависело от таланта полководца и его умения применять различные рода войск. В принципе, армия Ганнибала в тактическом плане несколько раз наносила римлянам тяжелейшие поражения. Что касается римской армии, то в ходе II Пунической войны начала формироваться римская тактика ведения боя. Как пишет А.В. Банников, «согласно утвердившейся практике, легионеры, прежде чем вступить с противником в рукопашную схватку, должны были забросать его строй своими пилумами (тяжёлыми метательными копьями. – Лет.). После залпа пилумами сразу же следовала рукопашная схватка» [3, с. 171–172]. Однако, данная тактика «требовала от каждого бойца личного мужества, физической силы и умения хорошо обращаться с оружием» [Там же, с. 173]. В сравнении с армией Селевкидов, римская была проще в управлении на поле боя, а её пехота была более однородной по составу и вооружению. Это давало римлянам определённое преимущество в пехоте, но их слабым звеном была слабость конницы, где они полагались на союзников. Что касается дипломатической борьбы, то римлянам удалось переиграть сирийского царя, создав антисирийскую коалицию из Пергамского царства, Македонии, Ахейского союза и Родоса. Митина пишет: «Ганнибал настаивал на союзе Македонии и царства Селевкидов против Рима, но Антиох III упустил эту возможность» [10, с. 281]. Следует отметить, что этот совет Ганнибала был своевременен и позволял создать мощную антиримскую коалицию, но к его совету отнеслись пренебрежительно. Скорее всего, Антиох III полагал, что его военной мощи хватит для противостояния римлянам и их союзникам. Также сирийский царь надеялся на поддержку Этолийского союза, поскольку их послы «объявили Антиоха полномочным военачальником этолийцев и приглашали переплыть в Грецию» [1, с. 211]. Они также уверяли сирийского царя в том, что его поддержат македонцы и спартанцы [Там же]. Именно эти надежды и заставили Антиоха III в 191 г. до н. э. высадиться в Греции, имея при себе всего 10 тыс. пехоты, 500 всадников и 6 слонов [2, с. 216]. Несомненно, сирийский царь надеялся на массовую поддержку в Элладе, позиционируя себя как борца за «свободу» эллинов от власти Рима. Однако это место было уже занято римлянами, которые широко использовали лозунг о борьбе за «свободу эллинов» ещё во время войны с Македонией. Что касается советов Ганнибала, то он настаивал на получении подкреплений из Азии, после чего «…войско прибудет опустошать Италию, для того, чтобы, отвлеченные домашними бедствиями, римляне менее всего могли бы причинить неприятности» [1, с. 212].
При всей красоте, данный план является авантюрой, поскольку Антиох III не имел господства на море. После высадки в Италии, его армия могла быть блокирована и ей бы пришлось вести боевые действия во враждебном окружении без подкреплений. Фактически Ганнибал предлагал Антиоху III повторить его поход в Италию, но без надёжной связи со своим тылом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сирийский царь не принял этого плана. Высадившись в Греции, он попытался привлечь на свою сторону македонян. Антиох подошёл со своей армией к Киноскефалам и похоронил «со всей пышностью останки тех, которые там пали, ещё оставаясь непогребёнными» [Там же, с. 213]. Данная акция должна была показать, что он является защитником Греции и Македонии от экспансии Рима, но она была совершена слишком поздно и не принесла практической пользы. Что касается римлян, то они направили в Фессалию 20 тыс. пехоты и 2 тыс. всадников под командованием консула Ацилия Мания Глабриона [Там же]. По численности войск римляне вместе с греческими союзниками превосходили армию Антиоха III, но сирийский царь решил выбрать оборонительную тактику. Он занял Фермопилы и, как сообщает Аппиан, «возвёл двойную стену, а на стену поставил машины. На вершину гор он послал этолийцев, чтобы никто незаметно не мог обойти его по так называемой “непроходимой тропе”… это тот путь, по которому Ксеркс напал на Леонида с его спартанцами» [Там же, с. 214]. С точки зрения оборонительной тактики, позиция Антиоха III была практически неприступна. Учитывая то, что этолийцы умели хорошо сражаться в горной местности, им было доверено прикрытие обходной тропы, а атаковать Фермопилы лобовой атакой было бесперспективно, что было продемонстрировано еще в период греко-персидских войск. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что армия Антиоха III имела реальные шансы если не на победу, то на возможность остановить римлян. Римский командующий, понимая бесполезность лобовой атаки, решил совершить обходной маневр. «Двум военным трибунам, Марку Катону и Луцию Валерию, он велел ночью, взяв сколько каждый хочет отборных воинов, обойти горы и постараться согнать с вершины этолийцев» [Там же, с. 214]. С точки зрения римлян, это был единственный вариант, который мог принести им победу. Как сообщает Аппиан, «Луций был отбит от Тейхиунта, так как тут этолийцы держались хорошо; Катон же, обойдя Каллидром, застал врагов ещё спавшими, напав на них в конце ночной стражи» [1, с. 214]. Если бы этолийцы были более бдительными, то обходной маневр римлян не удался и фланги армии Антиоха III были защищены.
Что касается основной армии сирийского царя и римского консула Ацилия Мания Глабриона, то они сошлись в битве в долине Фермопил. Антиох III выстроил свою армию «длинным фронтом; только так он мог пройти по теснинам. По приезду царя легковооружённые пельтасты должны были сражаться перед фалангой, а фалангу он расположил перед лагерем, на её правом крыле, у подножия горы – стрелков и пращников, на левой – слонов» [Там же]. Это был классический боевой порядок, рассчитанный на оборону и изматывание противника в лобовых атаках. В начале сражения отряды легковооружённых воинов Антиоха III «причинили много неприятностей Манию». Когда же римлянам удалось справиться с ними, «то фаланга, построенная по македонскому образцу, расступилась, приняла их к себе и, сойдясь, прикрыла их, сохраняя строй, выставила густые ряды копий» [Там же, с. 215]. Такая идеальная тактика позволяла надеяться на изматывание римлян и отражение их атак. В лобовом столкновении римские легионеры не могли прорвать строй македонской фаланги, к тому же находящейся в обороне. Однако римлян спасли отряды, которые они направили в обход, а именно отряд Катона. Когда воины Антиоха III «внезапно увидели этолийцев, бегущих с криком от Каллидрома», а потом «появился Катон, преследующий их…. то войско царя испугалось» [Там же]. Именно паника и страх привели армию царя к позорному поражению, поскольку его солдаты, «не ведая ясно, сколько было с Катоном, но в страхе считая, что их больше, чем на самом деле, и боясь за свой лагерь… в беспорядке бежали туда» [Там же]. Римляне преследовали их и сумели ворваться в лагерь сирийской армии. Поражение сирийцев было полным. Однако, если бы отряду Катона не удалось совершить обходной маневр, то итог этого сражения мог быть иным. Фактически виновниками поражения сирийской армии были этолийцы, которые просто проспали нападение римлян и не смогли удержать обходную тропу. Если бы армия Антиоха III смогла остановить римлян, то возможно, часть римских союзников покинула бы их, или заняла нейтральную позицию.
Несомненным дипломатическим успехом Рима можно считать привлечение флота Родоса и Карфагена к борьбе на море против флота сирийского царя. В морской битве у Мионесса, как пишет Аппиан, римско-родосский флот нанёс поражение царскому флоту, потери которого составили до 30 кораблей [1, с. 219]. Это поражение заставило сирийского царя уйти с Балкан и бросить огромные запасы военного снаряжения [Там же, с. 220]. Однако нанести решающий удар державе Селевкидов римляне могли только в Азии. Римский сенат также сменил командующего, им стал Луций Сципион. «Но так как он был нерешителен и неопытен в военных делах, они выбирают ему в качестве советника его брата Публия Сципиона» [Там же, с. 216]. Такой выбор можно объяснить таким фактором, как наличие Ганнибала при дворе Антиоха III, которого римляне всё ещё опасались.
Решающее сражение произошло в 190 г. до н. э. при Магнесии, где римские легионы и их союзники встретились с основной армией сирийского царя. Как пишет Д. Шкрабо, римляне и их союзники немного превосходили армию Селевкидов, всего у них было 107 тыс. человек против 69 200 солдат сирийского царя. Однако, уступая римлянам и их союзникам в 1,5 раза в тяжёлой пехоте, Антиох III превосходил их в коннице, имея 12 тыс. тяжёлой и лёгкой конницы против 3900 вражеских всадников [17, с. 6]. Также обе противоборствующие стороны имели боевых слонов, где превосходство было на стороне сирийской армии, имевшей 54 слона против 16 слонов римлян [2, с. 216–217]. Римской армией в этой битве командовал Гией Домиций, которого Публий Сципион оставил своему брату Луцию в качестве военного советника. Сам же Публий Сципион, как пишет Аппиан, был болен [1, с. 221].
Каков же был план битвы, составленный в ставке Антиоха III? Определённые выводы можно сделать, анализируя боевой порядок сирийской армии. По словам Аппиана, основу боевого порядка составляла «македонская фаланга – 16 тысяч человек, выстроенных так, как [её] организовали Александр и Филипп (имеются в виду Александр Македонский и его отец Филипп II. – Лет.)». Она была поставлена в центре, причём Антиох III разделил её на «десять частей, по тысяче шестисот человек в каждой, и в каждой этой части по фронту было пятьдесят человек, а в глубину тридцать два; на флангах каждой части стояли слоны, всего двадцать два» [Там же, с. 222]. А.В. Банников считает, что царь, раздробив фалангу, стремился сделать её более гибкой, по примеру римского легиона и приспособить к условиям местности. Слоны же должны были прикрыть отдельные звенья построения [2, с. 221]. Однако затевать эксперименты с боевыми порядками и тактикой во время решающего сражения было крайне неосмотрительно. Оба фланга армии Антиоха III занимала многочисленная кавалерия, в т. ч. катафракты и «так называемая гвардия (агема) македонян». «То были отборные всадники и поэтому носили такое название», также рядом с ними занимали место легковооружённые всадники и конные лучники и большое количество пращников и пеших лучников. «На правом крыле над конницей командовал сам Антиох, на другом крыле – Селевк, сын Антиоха, над фалангой – Филипп, начальник отряда слонов» [1, с. 222]. Из этого построения видно, что конница на обоих флангах выполняла роль молота, а македонская фаланга выступала в качестве подвижной крепости при поддержке слонов. Возможно, такой план сражения был составлен при помощи Ганнибала, поскольку очень напоминает Канны. Однако для его выполнения требовалась высокая согласованность действий всех частей сирийской армии. В начале сражения данный план стал разваливаться после того, как атака боевых колесниц левого фланга сирийской армии против правого крыла римлян оказалась неудачной. Пергамский царь Эвмен II, командовавший союзниками римлян, «собрав всех, какие у него были, пращников, стрелков и других легковооружённых, приказал им налетать на колесницы и поражать коней вместо возниц» [Там же, с. 223]. Эти действия сорвали атаку катафрактов, поскольку, «когда кони подряд были ранены и колесницы понеслись на своих же, то этот беспорядок почувствовали, прежде всего, на себе верблюды, а за ними броненосная конница» [Там же].
Использование колесниц было главной ошибкой Антиоха III, потому что их эффективность против хорошо обученных войск была невелика. Это привело к тому, что конница Эвмена II, состоящая из пергамских, римских и италийских всадников, обрушилась на расстроенный левый фланг сирийской армии. В результате, македонская фаланга, стоявшая в центре, оказалась под угрозой удара во фланг, что для неё было смертельно опасно [Там же]. Что касается самого Антиоха III, то он, командуя конницей правого фланга, «пробил сплошную фалангу римлян, разделил её и далеко преследовал» [Там же, с. 223–224]. Однако царь увлёкся преследованием противника и не оказал поддержку своей фаланге, которая оказалась для римлян крепким орешком. Фаланга, «лишившись прикрытия всадников с обеих сторон, расступилась, и приняла в себя легковооружённых…. а затем опять сомкнулась». Римляне, окружившие фалангу, не могли пробиться сквозь сариссы, поэтому, не вступая в рукопашную, они «бросали всё время в них дротики и стреляли из луков» [Там же, с. 224]. Если бы царь не увлёкся преследованием, а нанёс удар по римлянам с фланга и тыла, то результат сражения мог быть иным. Окончательный удар фаланге нанесли свои же слоны, которые не выдержали обстрела и «перестали слушаться своих вожаков, тогда весь их боевой строй превратился в нестройное бегство» [1, с. 224]. Сам Антиох III дошёл со своей конницей до римского лагеря и только после римской контратаки повернул назад. «Увидел своё поражение и всю равнину, полную трупами его воинов… тогда Антиох бежал без оглядки» [Там же].
Причиной поражения были ошибки, допущенные Антиохом III, а не превосходство римлян и их союзников. Шкрабо полагает, что основной проблемой была «трудность управления конницей после начала боя, особенно до полного разгрома противостоящего ей противника» [17, с. 9]. К этому следует добавить использование боевых колесниц, которое было сопряжено с большим риском, и расположение слонов в боевых порядках фаланги. Если бы эти ошибки не были допущены, то сражение могло иметь иной финал. Также Антиоха III часто обвиняют в том, что он не слушал советов Ганнибала. Однако, с точки зрения сирийского царя, Ганнибал был чужаком, и доверять ему армию или следовать его советам не имело смысла. Он был полностью уверен в своей армии и своих офицерах, поскольку до столкновения с римлянами одерживал победы и не терпел серьёзных поражений. Самоуверенность Антиоха III привела в итоге к катастрофическому ослаблению державы Селевкидов. По условиям мирного договора римляне потребовали от сирийского царя отказа от владений в Европе и в Малой Азии к западу от хребта Тавра, а также возмещения военных издержек, в размере 15 тыс. эвбейских талантов. Ему было запрещено набирать наёмников в сфере римского влияния, он также сокращал свой флот и выдавал боевых слонов [Там же, с. 10]. Это привело к отпадению от державы Селевкидов Парфии и Бактрии и к дефициту бюджета, который негативно сказался на военной мощи и, как следствие, ограничил возможности царя во внешней политике.
Разгромив Антиоха III, римляне выиграли первый раунд борьбы за влияние в эллинистическом мире. Почему они вообще вмешались в дела эллинистических государств? Т.А. Бобровникова считает, что в Риме «появился круг людей, которых можно назвать эллинофилами. Они считали священным долгом Рима освободить и охранять эллинов» [5, с. 87–88]. Такая точка зрения несколько идеалистична, а римские политики были прагматиками. Скорее всего, вторжение римлян в эллинистический мир произошло по инерции, когда в войне с Македонией они уничтожали союзника Ганнибала. В дальнейшем они стали одной из сторон конфликта, поддержав греческие полисы и мелкие эллинистические царства в борьбе против Македонии и державы Селевкидов. Римляне выиграли дипломатическую борьбу, ловко используя лозунг борьбы за «свободу эллинов», что позволяло им изолировать своих противников. В военном отношении всё было не так однозначно.
Заявление А. Голдсуорти о том, что эллинистические армии, по сравнению с армией Александра Македонского, больше напоминают дубину, а не рапиру, не совсем верно [6, с. 95]. В тактическом плане эллинистическая военная система требовала большой гибкости и точного взаимодействия различных родов войск и при умелом управлении гарантировала победу. Однако если полководец допускал ошибки, то в сражении с римлянами они становились фатальными. Также армии эллинистических государств требовали больших финансовых ресурсов и с трудом восстанавливались после поражения. Как пишет А. Ханиотис, римские контрибуции, которые они возлагали на побеждённых, приводили к истощению ресурсов эллинистических государств [18, с. 215].
Фактически, римляне не давали противникам возможности восстановить свою военную и экономическую мощь, что в дальнейшем облегчало им завоевание эллинистического мира. Из-за потери значительной части финансовых ресурсов в эллинистическом мире усиливался сепаратизм и социальная напряжённость, приводившие к резкому ослаблению эллинистических государств и к их дальнейшему распаду. По иронии судьбы, единственными гарантами политической стабильности становились римляне, вследствие чего политическая элита эллинистических государств рассматривала их как спасителей от хаоса и не оказывала им сильного сопротивления.
Библиографический списокАппиан Александрийский. Римская история. М., 1998.
Банников А. В. Эпоха боевых слонов. СПб., 2012.
Банников А. В. Эволюция римской военной системы 1-Ш вв. н. э. От Августа до Диоклетиана. СПб.; М., 2013.
Бобровникова Т. А. Сципион Африканский. М., 2009.
Бобровникова I А. Встреча двух миров. Эллада и Рим глазами великого современника. М., 2012.
Голдсуорти А. Во имя Рима. Люди, которые создали империю. М., 2006.
Зверев Я. И. 2-я Македонская война: битва при Киноскефалах // Воин. 2001. № 5. С. 8–12.
Кащеев В. И. Эллинистический мир и Рим: война, мир и дипломатия. М., 1993.
Кузьмин Я. Н. Армия эллинистической Македонии в Ш-П вв. до н. э.: история и военная организация // Воин. 2002. № 9. С. 2–8.
Митина С. И. Антиох III. Один против Рима. СПб., 2014.
Моммзен I История Рима. Т. 1. Кн. III. СПб., 1997.
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 2. М., 1963.
Полибий. Всеобщая история. Т. 2. СПб., 1995.
Ростовцев М. И. Армия и флот Селевкидов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.Xlegio.ru/ancient-armies/military-orgaization-tactics-equipment/Seleucid-army-and-fleet.
Тит Ливий. История Рима от основания Города. Т. 3. М., 1993.
Шофман А. С. История античной Македонии. Ч. 2. Казань, 1963.
Шкрабо Д. Битва при Магнесии 190 г. до н. э. // Воин. 2003. № 12. С. 2–10. Ханиотис А. Война в эллинистическом мире. СПб., 2013.
Глава II
Сражение под Адрианополем в 378 году: закономерное поражение римской армии или ошибка императора Валента?
Девятого августа 378 года под Адрианополем армия Восточной Римской империи под командованием императора Валента была полностью разбита восставшими вестготами. В военной истории эта битва считается определенным водоразделом, после которого римская армия уже не смогла восстановить свою боеспособность, а в вооружении и тактике боевых действий тяжелая пехота уступила свое место тяжелой коннице. Как пишет военный историк и исследователь оружия Эварт Окшотт «былые дни абсолютного превосходства легионеров над любыми другими родами войск ушли безвозвратно, и в течение следующей тысячи лет кавалерист в тяжелой броне, сражавшейся копьем и мечом, решал исход войны» [8, с. 96]. Основной причиной, которая позволила готам одержать столь впечатляющую победу, было наличие у них тяжелой конницы и самое главное – наличие у готских всадников стремян [Там же, с. 98]. Данное заявление можно считать слишком смелым утверждением, поскольку наличие стремян у готских всадников не доказано, а наличие тяжелой конницы не является необходимым атрибутом победоносной армии.
Однако именно такое представление имеет место о битве под Адрианополем и причинах поражения римской армии и в других научных трудах. Питер Конноли, известный исследователь военного дела античности, также обращает внимание на тот факт, что «Адрианопольская битва считалась победой конницы над пехотой и революцией в военном деле» [5, с. 257]. Большинство историков ссылаются при этом на римского писателя Аммиана Марцеллина, являвшегося современником этих событий. Однако остается несколько вопросов, ответы на которые позволят определить причины поражения римской армии и гибели императора Валента.
Во-первых: как на боеспособности римской армии отразилось командование императора и принятые им решения? Во-вторых: почему римская пехота оказалась неспособна противостоять готской коннице, хотя римская армия имела опыт войны с Парфией и Сасанидским Ираном, где тяжелая конница была основой армии? В-третьих: насколько разгром под Адрианополем характеризует общее состояние римской армии и как он повлиял на ее дальнейшее развитие.
При ответе на эти вопросы можно определить, является ли данная битва новой вехой в развитии военного дела, или же поражение римской армии носит чисто субъективный характер. Следует отметить, что римская армия в IV веке переживала не лучшие времена, она так и не смогла полностью оправиться от экономического, социального и политического кризиса, поразившего империю в III веке. После реформ Диоклетиана и Константина была окончательно утрачена связь с традиционным делением на легионы. Армия окончательно разделилась на две части: на более профессиональную, хорошо обученную и вооруженную мобильную или походную. А также на войска в пограничных крепостях, практически посаженных на землю и не имеющих должной выучки и вооружения. Постепенно римские императоры начинают отдавать предпочтение тяжелой коннице [катафракты или клибанарии], а не пехоте, поскольку стремятся усилить мобильность и ударную мощь полевой армии. Однако в римской армии не было традиций для формирования тяжелой конницы высокого класса, поэтому императоры были вынуждены набирать в нее варваров и тратить большие средства на ее развитие. Из-за тяжелой экономической ситуации быстро и качественно перестроить армию было невозможно, поэтому выучка тяжелой конницы все равно была не на высоте, а состояние пехоты стало стремительно ухудшаться.
Римская пехота IV века была многочисленна и еще сохраняла традиции старых легионов эпохи принципата, но качество ее вооружения и выучка катастрофически падали. Как пишет Питер Конноли, главная проблема была связана с пополнением армии качественным составом, особенно из коренных жителей империи [5, с. 255]. Также он дает достаточно высокую оценку римской пехоте того времени, которая «была по прежнему надежной, но более гибкой», отмечая ее дисциплинированность [Там же, с. 257]. Фактически римская армия IV века представляла из себя некий усредненный и варваризированный вариант традиционных легионов, подготовленный для пограничных войн с варварами, но не имеющей запаса прочности в виде резервов. С другой стороны, состояние римской кавалерии было не таким идеальным, как у пехоты. Именно слабость конницы привела к поражению армии императора Юлиана во время персидского похода [9, с. 29].
В эпоху принципата римская кавалерия также не отличалась высоким качеством и набиралась из союзных племен, но ее слабость компенсировалась силой и выучкой пехоты легионов, а также профессиональным командованием и гибкой тактикой. Римская пехота в IV веке уже не могла компенсировать слабость конницы, поэтому любая ошибка командования могла стать фатальной для армии.
Возникает вопрос, насколько римская пехота была готова к противостоянию тяжелой коннице и как происходила ее эволюция в I–II веках. Исследователи военного дела античности отмечают, что уже во II веке основную тяжесть сражений на границах Римской империи несли вспомогательные части, так называемые «ауксиларии». Это было связано с тем, что тяжелая пехота легионов потеряла свою универсальность, для прикрытия границы, вспомогательной службы и стычек с германцами легионеры уже не годились. Их комплект вооружения и выучка были ориентированы на бой в тесном строю на более или менее ровной местности при поддержке легкой пехоты. Для германских лесов это было избыточно и плохо реализуемо в тактическом плане. Поэтому римская пехота все больше вооружалась и использовала тактику солдат вспомогательных войск, набираемых из германцев. Вооружение и тактика новой пехоты были направлены, прежде всего, против рассыпного строя германцев в лесу и на пересеченной местности. Как отмечает Я.И. Зверев, комплекс вооружения также был направлен на эти задачи. В него входило новое копье – «ланцеа», которое можно было применять как для удара, так и для метания. Оно также было удобно и для боя в строю фаланги. Вводятся новые типы метательных копий: тяжелый «спикулум» и легкий «верута». Вместо старого гладиуса, солдаты начинают использовать длинный меч спату, удобный как для боя в строю, так и на средней дистанции. В защитном вооружении остается щит, часто овальной формы, но исчезает тяжелый панцирь «лорикасегментата», основной доспех легионера в I–II веках. На вооружении остается кольчуга, чешуйчатый панцирь и новый ламеллярный доспех. Однако только воины первых двух шеренг и офицеры имели полный комплект вооружения. Связано это было с общим упадком ремесленного производства и дороговизной доспехов [4, с. 34]. В принципе даже в таком виде римская пехота была вполне боеспособна и в сомкнутом строю могла противостоять катафрактам, для этого требовалось умелое командование и поддержка со стороны своей конницы и легкой пехоты. Для военных действий против германцев данный комплекс вооружения был вполне достаточен. Практически римский пехотинец в IV веке превратился из тяжеловооруженного в средневооруженного и по своему уровню приблизился в германским воинам. Римская тяжелая кавалерия копировала парфянских и сарматских катафрактов, но для достижения высокого качества этого рода войск требовалось дорогостоящее защитное вооружение, боевые кони и умелые всадники. Вследствие этого тяжелая конница в римской армии была дорогим и немногочисленным родом войск.



